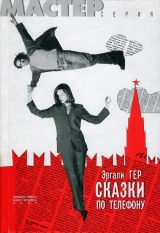
Текст книги "Наталья"
Автор книги: Эргали Гер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Моя?
– Вам что, справку о вашей смерти?
– Калмыкова, Надежда Ивановна, – поправился Николай.
– А, эта… механическая асфиксия? Есть такая… Мать, что ли?
Николай кивнул.
– Понятно, – сказал патологоанатом. – Бывает. Ладно, садись, на первый раз прощаю.
И тут же, взяв бланк, написал Николаю справку о смерти Калмыковой Н. И., шлепнул печать и объяснил, что по этой справке оказывают услуги в новом центре ритуальных услуг – Чкаловская, 19, а свидетельство о смерти и медзаключение будут готовы дня через три, не раньше.
– Одежду – в прозекторскую, дверь направо. Все, свободен, – скомандовал сухощавый, уложившись, вместе с составлением справки и объяснениями минуты в три.
Поблагодарив, Николай вышел и постучал в окошко прозекторской. Потом постучал еще раз, нажал на дверную ручку и распахнул дверь в коридорчик, заставленный какими-то белыми, серыми шкафами. Наплывом пошел жирный тошнотный запах. И кто-то что-то пилил в комнате за поворотом, откуда выплескивался яркий свет.
– Есть здесь кто?! – взмолился Николай. Жуткий пилящий звук оборвался, зажурчала вода, потом торопливо вышел длиннорукий, сутулый санитар в запачканном халате – очкастый, всклокоченный, азартный, – содрал резиновую перчатку с руки, дыхнул перегаром и заторопил:
– Давай, давай…
Николай ошарашенно протянул авоську.
– Фамилия?
– Калмыкова.
– Ага. На когда – на завтра?
– Да. Там конверт с фамилией, там все есть. Там, сбоку…
Санитар, дико улыбаясь и на глазах теряя интерес к Николаю, закивал и пошел прочь, Николай только и успел, что ляпнуть вдогонку:
– Вы уж там все сделайте в лучшем виде, – не очень-то представляя, что должно сделать, но санитар понял, осклабился и закивал: разумеется, дело знаем.
Выскочив на воздух, Николай ошарашенно увидел перед собой просторный, заснеженный больничный двор, небо и обшарпанные корпуса под ним, с облегчением выругался и заторопился на Чкаловскую. Там все было новое, голое, холодное, эдакий державный модерн: гранит и мрамор, мрамор и бетон со следами опалубки, кучки строительного мусора на снегу и ветер, жгучий ледяной ветер, зато внутри – нечто невиданное: четыре зала для панихид, при них контора, парк катафалков, магазин похоронных принадлежностей и другой магазин, цветочный, с венками и геранью в горшочках – одно слово, комбинат. Девица в конторе, изучив его паспорт, как бы невзначай обронила, что учреждение это в своем роде единственное, образец для всего Союза, «так что вам, хоть и москвичу, слабо не покажется», с чем он немедленно согласился, только заметил, по местному обрубая окончания, что для полного кайфа «крематория не хватат».
Что-то в его голосе не устроило девицу, она сухо объяснила ему права и обязанности клиента, а также последовательность действий. Заказав и оплатив гроб, а также все прочее, что полагалось, получив зал на завтра, а также талон для отоваривания продуктами в горпродмаге № 16 по проспекту Свободы (вход со двора), Николай спрятал квитанции во внутренний карман пиджака и коридором прошел в магазин «Цветы», где неожиданно наткнулся на Наталью, изучавшую с хмурым недоумением «Список рекомендуемых надписей на траурных лентах». Была она бледна, темный пуховый платок оттенял в полнеющем лице неизменную, несколько совиную тонкость черт.
– Ну вот, так и знала, – она вздрогнула, обнаружив Николая подле, потом быстро внимательно оглядела его, словно прицениваясь, и спросила: – Одежду отвез? Когда похороны?
– Завтра в час. А тебя каким ветром?
– Вот, венок заказываю. Талон взял?
Он кивнул.
– И голова не болит?
– Нет, – ответил он, закрывая тему; вчерашняя пьяная истерика отошла в прошлое, за сегодняшний день он застыл, зачерствел, как хлеб на морозе, и ощущал себя просто чужим. Чужим в этом городе, в этом мире, в этом холодном сером дворце, по которому бродили служители в пепельных униформах с подозрительно неживым выражением глаз и потерянные, угрюмые, зачуханные родственники благопристойно умерших горожан. Даже Наталья была чужой.
– Что читаем?
– Да ну их, мура какая-то. – Наталья отодвинула список подальше. – Совсем обалдели.
Николай дотянулся до списка и стал читать – поначалу безразлично, потом с содроганием и нарастающей нездоровой, не сказать похабной, заинтересованностью – пронумерованные, отпечатанные на машинке надписи, рекомендуемые гражданам каким-то методическим центром Министерства культуры.
– Как тебе номер пятьдесят два? – спросила Наталья, показывая пальцем и зачитывая: «Жизнь – это книга, которую ты слишком рано прочел»… Или вот эта: «Трагическая и безвременная кончина – нас покинул друг и человек». Они что, за деньги это придумывают?
– Да хрен с ними, – буркнул Николай, отшвыривая список и подавляя в себе опасное, слишком уж человечье ощущение личной беспомощности. – Так вот и закопают нас всех, с-скоты. Лучше бы ее в церкви отпели! – вырвалось у него, хотя тут же пришло в голову, что церковь, кажется, самоубийц не отпевает.
Наталья, хмыкнув, возразила:
– Тогда уж и бабушку заодно в гроб клади.
– М-да, это верно, – согласился он. – Беда с этими идейными бабушками.
Наталья как-то странно на него посмотрела, он поначалу не понял.
– Неужели для нее после этого что-то еще имеет значение? – спросила она.
– Ай, не знаю, – подумав, ответил Николай. – Ладно, давай заказывать.
На бесконечной, продуваемой всеми ветрами Чкаловской они и расстались, уговорившись встретиться в половине четвертого во дворе гастронома № 16. Наталья побежала по каким-то своим делам, а Николай, поймав такси, поехал за город, на Семеновское кладбище. Там ему повезло, притом по-крупному: заведующий кладбищем – предусмотрительный, в отутюженном костюме молодой человек, Николаю ровесник – самолично, проваливаясь в снег по лодыжки, провел его к новому, еще не обустроенному квадрату, и Николай издали приметил и полюбил взлобок на склоне холма, с двумя рослыми соснами в голове и березкой в ногах; заведующий выбор одобрил, они тут же разметили участок, отоптав снег, и по своим следам вернулись в контору. Поглядывая на своего вожатого, Николай пытался угадать его жизнь: каков он дома, с друзьями, как знакомится с женщинами, что врет про работу и врет ли; врет, решил Николай, представляется работником исполкома. Хотелось найти в лице нечто, предопределившее отчуждение от людей и странную для молодого человека карьеру, – но ничего, кроме зримой печати алчбы, цинизма и вполне доступных пониманию пристрастий к алкоголю и блуду, в лице заведующего не проглядывало. Выяснилось, к тому же, что в должности своей парень пребывал второй день: предшественник, матерый заведующий, был снят за мздоимство и находился под следствием.
Медовый месяц, рассудил Николай, радуясь березке на мамином участке, сэкономленному четвертному и тому даже, что угодил на второй день нового правления, а не на третий.
7
К четырем, встретившись во дворе гастронома на проспекте Свободы и отстояв минут сорок в сплошь женской, тихо плачущей и мающейся очереди, Николай с Натальей проникли в подсобку, переоборудованную под магазинчик, где одной только водки он насчитал пять или шесть сортов, а еще были красное марочное вино, говядина по два двадцать, маринованные огурцы, горошек, селедка в банках, кисель пачками, сливочное масло и майонез. Среди всей этой полуподвальной роскоши сновали явно довольные жизнью грузчики, а две одинаково розовые продавщицы-матрешки в четыре руки отоваривали талоны, выданные похоронным бюро. Николай безучастно отметил величавое, замкнутое, несколько даже страдальческое выражение, подсохшее на их лицах вроде косметических масок, а также недоступность, с какой пресекалось продавщицами малейшее поползновение на базар. Базар, к слову, и впрямь готов был завариться ежеминутно. Женщины, только что охавшие в коридоре, у прилавка преображались, входили в раж, возбужденно распихивали дефицит по кошелкам и слезно, подобострастно клянчили продукт сверх нормы, благо, глаза и так были на мокром месте. Николаю не приходило в голову осуждать этих бледных, измученных баб, выплакавшихся до провалов глазниц, до черноты на проступивших скулах, – что могло быть понятнее их зацикленности на раздаче, стремления обрести в большом горе хоть какую-нибудь отдушину, свою малую, привычную радость, хоть глаз потешить, отдохнуть в этой страшной подсобке от беготни, вечной казни пустых прилавков, от тяжкого, неизбывного горя там, за порогом этого кисельного и говяжьего рая? У него и такой отдушины не было. Поучавствовав в выборе водки, он в остальном полностью передоверялся Наталье, провернувшей операцию с четкостью и вдохновением молодого, но уже опытного полководца. Ему было определено место при сумках – при сумках, исполнительным тупым денщиком, он и состоял.
Домой приехали в шестом часу. Выставив на балкон водку, Николай разделся и по командам принялся опорожнять сумки: мясо в холодильник, консервы в шкаф, банки на подоконник. Наталья, расстегнув свою искусственную шубу, сидела за столом и курила, подавая команды подсевшим, неверным голосом; он с неудовольствием сообразил, что ей, должно быть, не по себе в этой квартире.
– Не трясись, я там все убрал, – бросил он, имея в виду туалет.
Наталья чуть не поперхнулась дымом, потом кивнула с видимым облегчением.
– Извини… Я все боялась спросить… А тебе что – ничего?
– Ничего… – Ему не хотелось говорить об этом, он сразу почувствовал себя зачумленным, вроде того молодого кладбищенского человека в отутюженных брюках. – Ничего, нормально, – повторил он. – Только тут и нормально.
Наталья подавленно замолчала; он, понимая ее состояние, тоже молчал.
– Может, и ночевать тут собрался?
Он кивнул.
– А Серафима Никифоровна?
– Вот ты и предупредишь, чтобы не волновалась…
Потом позвонила тетка, так что с ночлегом уладилось само собой: договорились, что Полина переночует у бабушки, отчитались друг другу в сегодняшних делах и обговорили завтрашние… «Привет Сапрыкину», – сказал Николай, положил трубку и только вернулся на кухню, как пошли звонки один за другим – телефон словно взбесился. На третьем или четвертом звонке прояснилось, что вышла «Вечерка» с соболезнованиями сослуживцев, многие только сейчас узнали. Проклюнулись и его ребятки: привет, Калмык, мы все знаем, завтра придем. Если что надо, скажи… Другие спрашивали, что да как. «Она повесилась», – говорил он бесчувственным голосом, а дальше этого расспросы не шли – собеседники ахали, обмирали, плакали, – Николай со странным ощущением отчужденности и пустоты клал трубку на рычажки.
– Хочешь водки? – спросил он, возвращаясь после очередного звонка. – Тут открытая есть, специальная. Мама с утра, перед тем как, открыла и выпила рюмочку, вроде как на дорожку. – Он достал из шкафа початую бутылку, почти полную. – Я ведь все про нее знаю. Даже чем закусывала. Вот из этой рюмки она пила, – он достал из сушилки мамину рюмку, поставил на край стола, между собой и Натальей. – Граммов по пятьдесят, а?
Наталья молча смотрела то на него, то на рюмку.
– Алкоголичкой она не была, – заверил он.
– Знаю.
– Вот и отлично. Просто любила иногда посидеть за чистым столом, подумать. А лицо – она-то не видела – тяжелое такое, припухшее… такое, знаешь, когда человек думает, что жизнь не сложилась и уже на излете, вот такое лицо. Бутылки ей вполне хватало на две, три недели – без меня, конечно, то есть не при мне. При мне быстрее.
– Верю. – Наталья усмехнулась. – Может, все-таки поедем в Грачи?
Он мотнул головой.
– Не бойся, не напьюсь, самому страшно. Вчерашнего мне вот так…
– Ладно, – она махнула рукой. – Давай по пятьдесят. Только открой что-нибудь закусить – вон, огурчики.
Она пошла в прихожую, сняла шубу, Николай между тем вскрыл банку огурчиков и достал еще одну рюмку.
– А ничего, – выпив, оценила Наталья. – Ничего…
– То-то и оно, – сказал он, схрумкав огурчик.
– А про эту рюмочку да бутылочку я, представь, не хуже тебя знаю, – с некоторой натугой сказала потом Наталья. – Пока ты в армии был, мы с Надеждой Ивановной не одну бутылочку усидели. Вот так – по рюмочке, по одной…
Он промолчал.
– Ладно, пора и делом заняться, – подытожила Наталья, вставая.
– Не держала бы ты на меня зла, Наташка, – попросил он устало. – Я ведь и сам знаю, что кругом перед тобой виноват.
– Вот и знай себе на здоровье, – ответила она, усмехаясь и оглядываясь по сторонам, словно подыскивая себе дело. – Ничем не могу помочь.
«Ну и фиг с вами со всеми», – подумал он.
Они прошли в большую комнату, собрали банкетный стол, который, по детским впечатлениям, представлялся Николаю огромным, но оказался довольно-таки скромных размеров. Сходили к Тосе, соседке, и одолжили еще один стол, точно такой же, составили их буквой «Т» и накрыли двумя белыми скатертями.
У Тоси же реквизировали стопки, фужеры, столовые приборы, тарелки; Наталья переписала одолженное, потом пустилась в сложные хозяйственные подсчеты, сколько чего везти с собой из Грачей – получалось много. Даже стульев не хватало. Николай сходил на ближайшую стройку, позаимствовал две тяжелые мерзлые сороковки, подпилил, положил на табуретки, потом Наталья застелила лавки полиэтиленом и покрывалами – получилось хорошо. В тепле доски разнежились, запахли талой водой. По комнатам потек свежий, знакомый запах, чуть ли не новогодний, только с горчинкой: доски были сосновые.
– Остальное завтра, – подытожила Наталья.
Он кивнул: завтра так завтра.
– Чаю хочешь?
– Поставь, – согласился он, заваливаясь на мамин диван. – А я полежу, извини. Набегался за день.
– Ладно, отдыхай. – Наталья резко пошла в прихожую, вернулась одетая, с сумкой. – Только смотри, не дури. Будет худо – бери такси и дуй к бабке. Понял? Давай, до завтра.
Он поплелся за ней в прихожую.
– Пока, сказала Наталья.
– Пока, – ответил он, закрывая дверь. Слышно было, как она спускается вниз по лестнице. «Обиделась», – подумал Николай, потом пошел по квартире, выключая повсюду свет: в прихожей, на кухне, в большой, заставленной белыми столами комнате. «Ну, вот, – подумал он. – Наконец мы с тобой одни. Ты где?»
«В туалет не ходи, – предупредила мама. – И включи-ка свет в большой комнате, я хочу видеть эти пустые белые столы. Вот так. Давай посидим здесь, сынку».
– Погоди, – прохрипел Николай, метнулся на кухню и вернулся с маминой рюмкой водки, поставил во главе стола, перед мамой, и накрыл ломтем черного хлеба. – Вот так, – сказал он, отходя и присаживаясь на лавку. – Теперь давай.
8
И совсем на ночь глядя, в двенадцатом часу, телефон звякнул и залился истеричной междугородной трелью; вспомнив о жене, Николай выскочил в коридор, схватил трубку и услышал ее далекий, жалеючий, оробевший в эфирной пустоте голос:
– Коль, ты? Алло!
– Я, – сказал он. – Здравствуй, Танюшка.
– Здравствуй, папка, – отозвалась она. – Я вчера весь вечер звонила, и сегодня… Ты у бабушки был, да? Как она?
– Ничего, ходит. Я, правда, весь день на ногах, в городе, утром только и виделись. Вроде ничего…
– А что с мамой? Когда похороны?
Он собрался было выговорить то, что говорил сегодня по телефону раз двадцать, – и не смог. Не хватило духу. Затосковав, он сказал:
– Похороны завтра, но я останусь до воскресенья, наверное. Как Сашка?
– Сашка в порядке. Наловчился шлепать на четвереньках со страшной скоростью, прямо Маугли, человеческий такой лягушонок. Я в комнату – он за мной, в кухню – за мной, и почти не отстает, представляешь? В туалете невозможно посидеть спокойно – сидит под дверью и воет, пока не выйду, совсем волчонок.
Николай хмыкнул.
– А что с мамой, Коль?
– Пока неясно, медзаключение только к пятнице обещают. А так каждый врач талдычит свое. Приеду – расскажу.
– Ага… Коль, тут мама хочет с тобой…
Трубку взяла теща, пособолезновала, спросила, когда похороны, нужна ли помощь – материальная или еще какая, – Николай отговорился-отблагодарился, потом вновь проклюнулась Таня:
– Держись, папка, – попросила она. – Ты там один, что ли?
– Один.
Она виновато вздохнула. Теща настаивала, чтобы они ехали вместе, но Танька, всю жизнь боявшаяся чужих людей и чужих смертей, не смогла себя пересилить.
– Приезжай скорее, – попросила она напоследок.
– Попробую, – пообещал он.
Потом вернулся в комнату, застелил чистую простыню, а подушку и одеяло взял мамины – менять белье не было сил. «Похоже, сдрейфил, – подумал он. – Хотя – разве объяснишь такое по телефону? Разве объяснишь такое московской девочке, защищенной от дремы и яростной безысходности провинциальной жизни тройным кольцом окружных дорог?..»
Раздеваясь, он ощущал свое одиночество как легчайшую паутину, заткавшую все углы, все пространство комнаты – двигаясь, он разрывал нити и отчетливо слышал шелковистый шелест разрывов.
«И не в теще дело, – подумал Николай с досадой, видя перед собой приветливые, профессионально-приветливые глаза тещи. – Бог с ней, с тещей, умная женщина, почти правильная, тщательно подавляющая в себе всемосковскую истерическую боязнь иногородних; не в теще суть, хотя в ней тоже, если видеть за ней все эти ходы, лабиринты, связи, спайку пирующих во время чумы, весь этот город на семи холмах, бывшую матушку-гусыню Москву, ставшую для россиян знатной тещей. Да и кому нужен его страшный груз там, на Москве, среди гранитных декораций державного распределителя, где отныне распределялось и на его долю, где он и впрямь жил, как на сцене, оставив за кулисами детство, друзей, родных, весь этот запущенный, задымленный город с его кровавыми зорями, черным снегом окраин и белыми, белыми площадями, закрытый на замок город с общагами, номерными заводами, продкарточками, а теперь вот и мамой… Мамой, которой нет, но еще не совсем, на волосок не совсем, на два-на три волоска, прилепившихся к ее подушке…»
А потом он уснул, закутавшись в мамино одеяло, вдыхая с прощальной, безнадежной, тоскливой нежностью родимые запахи ее тела – уснул круглым сиротой.
9
Наталья позвонила в половине восьмого, когда он уже был на ногах, даже успел побриться маминой бритвой. Целая сборная команда выезжала с ней из Грачей: бабушка, тетка, Сапрыкин, еще кто-то, он не расслышал, и Зойка с Машкой, боевые подружки, давние знакомые Николая по периоду загульной после-армейской жизни – помощницы, объяснила Наталья, отборные кадры, останутся на время похорон в квартире и соорудят стол.
Позавтракав, он пошел в прихожую одеваться, и тут опять зазвонил телефон.
– Это квартира Калмыковых? – заверещал пронзительный девичий голос. – Простите, это, наверное, Николай? Здравствуйте, это Костюгова говорит, жена Костюгова из отдела главного технолога, они вашу маму собираются провожать, а потом поминки, но ему нельзя пить, он запойный, понимаете, совсем нельзя! Проследите, пожалуйста! Его уволят, если он хоть раз еще прогуляет, Виктор Моисеевич лично предупреждал. Я вас очень прошу! Ни одной рюмки!
– Хорошо, – согласился Николай. – Только я не знаю вашего Костюгова в лицо – может, вы сами?..
– У меня ребенок грудной, восемь месяцев, я только позвонить выскочила! Вы там спросите, его все знают! – голос прямо-таки вонзался в ухо; Николай отставил трубку, пережидая верещание, потом сказал:
– Ладно, сообразим что-нибудь… Вы там это, успокойтесь, что – нибудь обязательно…
И положил трубку.
– Ну ты даешь, Костюгова, – пробормотал он, вбивая ноги в сапожки.
Мороз, похоже, отпустил, табло над проходной камвольного комбината показывало минус пять.
В автопарке ритуального комбината долго и нудно изучали его квитанции, наконец разыскали водителя – белобрысого парня с заспанным или просто мутным лицом – и сказали с ним ехать. Парень глянул на Николая, то есть на дубленку и прочее, забрал квитанции, подогнал к задам похоронного магазина катафалк – раздрызганный «лиазик» с широкой черной полосой по борту – выскочил, буркнул «пошли» и споро зашагал на склад. Николай старался не отставать. Пришли, нашли вчерашний, оплаченный, изнутри обитый серебристым мадаполамом гроб, и вдвоем отнесли в катафалк сначала гроб, потом крышку.
– По коням, – скомандовал белобрысый; вскочив в водительское кресло, он опять долго рассматривал квитанции, какие-то вернул Николаю, какие-то оставил себе, включил зажигание и лихо, отработанными виражами вырулил на Чкаловскую. Гроб заюзил и попытался съехать Николаю на ноги.
Улицы были запружены транспортом и людьми: победный созидательный поток катил во все стороны и трубил. Никому не было дела до их «лиазика», и Николай смотрел на улицы, на пешеходов с несколько странным ощущением, словно из автобуса-невидимки. На набережной они дважды попадали в заторы, их обгоняли прохожие, тогда слышны были скрип снега, даже обрывки фраз.
К моргу подъехали не со двора, а переулком. Вышли, шофер взбежал на резное белокаменное крыльцо, позвонил, поманил к себе Николая.
– Давай, – сказал он. – Давай заказывай.
Кованая железная дверь приоткрылась, выглянул вчерашний очкастый санитар, вдрабадан пьяный, добренький.
– За Калмыковой, – сообщил Николай.
– Угу, – промычал тот, с наслаждением втягивая в себя свежий воздух. – Щас, – подышал воздухом и исчез, оставив дверь приоткрытой.
Подъехал грузовик с брезентовым верхом, из него вывалила на крыльцо целая толпа мужиков, тоже требовали кого-то.
– Из района, – по номеру определил белобрысый.
Минут через двадцать кованая дверь распахнулась, мужики схлынули с крыльца, и санитар торжественно, с идиотской улыбкой от уха до уха вывез на обитой цинковым листом тележке нечто с открытым ртом и провалившимися щеками, наряженное в торчащие туфли и черное платье: труп старушки. Мужики роем загудели, засуетились.
– Не наше, – отворачиваясь, проговорил Николай.
Тут только он заметил, что транспорта в переулке много прибавилось: приехал еще один катафалк, и какой-то «рафик» нагло подрабатывал задом точнехонько под крыльцо.
– Ты давай, подшустри, – посоветовал водитель, – мне стоять некогда, на пол-одиннадцатого другой заказ.
Николай пошел на крыльцо, потоптался перед закрытой дверью. Минут десять спустя очкастый вывез другого жмурика, молодого оскаленного парня в мешковатом черном костюме – у соседнего катафалка взвыли, Николай подавил позыв к тошноте и дурным голосом заорал:
– Калмыкову давай, наша очередь!
Санитар, увозя тележку, кивнул.
Водитель сел в катафалк и включил мотор – должно быть, ноги замерзли. Подъехали еще две машины. Наконец дверь открылась, санитар выкатил на тележке очередное свое творение – дородного желтолицего мужчину; парни, топтавшиеся у «рафика», побросали сигареты и взялись за дело. Белобрысый, выскочивший было открывать заднюю дверь, аж притопнул от злости и скомандовал:
– Вымай гроб!
– Чего? – не понял Николай.
– Гроб вытаскивай! – заорал водила. – Меня, твою мать, люди ждут! Что мне, до вечера тут торчать? Вымай на фиг!
– Ты что, обалдел? – спросил Николай, сдуру соображая, как быть одному с гробом в этом поганом переулке. – Погоди, я пойду туда, разберусь. За мной не станет, клянусь!
– Я не обалдел, – впервые глянув Николаю в глаза, процедил белобрысый. – Это ты здесь торчишь, как пень на морозе. Даю тебе, – он взглянул на часы, – десять минут. Вчера надо было разбираться, сразу. Он же нарочно тянет, козел очкастый!
Николай бросился на крыльцо, ударился в дверь – заперто – побежал вдоль стены, вокруг часовенки, влетел в приемную, оклеенную плакатиками Минздрава, дернул дверь прозекторской – опять заперто; просунул руку в оконце, повернул замок, подал голос и пошел по коридору на вонь, на свет – в просторное, под высокими церковными сводами помещение, где на залитых светом оцинкованных столах лежали – о, Боже! – Николая шарахнуло по глазам, по мозгам, он пошел прямо на человекоподобного длиннорукого санитара, который один возвышался и колдовал над жутким желтовато-красным развалом человечины; что-то они говорили друг другу, санитар невнятно оправдывался: «ничего не знаю, никакой одежды не видел», – и приступал, шел потихоньку на Николая, выпирая его туловом из своего вертепа.
– Я вчера приносил! – орал Николай; санитар вытеснил его в коридор, нечаянно Николай заглянул в дежурку и сразу увидел в углу свою нетронутую авоську с одеждой.
– Вот же она! – вскричал он озаренно. – Тут же написано: Калмыкова!
– Откуда нам знать, чейная, – кося, бормотал санитар.
Николай выхватил конверт, показал надпись, достал из конверта червонец – санитар потянулся, отдернул руку, булькнул горлом и застенчиво, с придыханием прохрипел:
– Это н-нам, н-наше-е-ы-ы-ы…
– Сволочь, – вызверился Николай, отдавая червонец. – Немедленно одевай ее, понял? Немедленно! – И побежал прочь, на волю.
– Ну, сволочь! – поделился он с водителем. – Ну, скотина!
– Все в порядке? – спросил тот.
Николай кивнул.
– Давно бы так, – со скукой обронил водитель.
Тем не менее минут двадцать пришлось еще потоптаться, затем дверь отворилась и санитар, бормоча невесть что и кланяясь, не без кокетства вывез на крыльцо тележку. Узнав мамино платье, Николай скользнул по лицу взглядом и не сразу признал, а признав, похолодел, до того брезгливое, злобное, ведьмачье выражение было оттиснуто на этом чужом и мертвом, абсолютно чужом и все-таки мамином лице.
– Давай, шевелись, – торопил водила.
Они прислонили крышку гроба к машине, гроб выставили на крыльцо – тем временем санитар, склонясь над телом и от усердия приседая, расчесывал грязной железной щеткой оттаявшие, мокрые мамины волосы. Втроем переложили тело в гроб, в последний момент шофер подскочил и ловко перевернул подушку на другую сторону, где наволочка была намертво схвачена грубым швом:
– Когда подсохнет, перевернешь, – пояснил он.
Гроб задвинули в салон катафалка, накрыли крышкой. Санитар протянул Николаю его же авоську, в которой осталась лежать косынка, и спросил, что делать с халатом, в котором покойницу привезли.
– Носить, – бросил Николай, прыгая в салон.
– Родственница? – спросил на обратном пути водила.
– Мать.
– Мать? – удивился тот. – А ты ничего, крепкий. И что с ней?
– Умерла.
Белобрысый одобрительно хмыкнул.
– Это я догадался. А от чего?
– Повесилась.
– А-а-а… Пила, что ли?
– Нет.
– Даже так… – Они проскочили пути перед зазвеневшим трамваем и вписались во второй ряд машин, потоком скатывавшихся вниз, к набережной. – Стало быть, жить заленилась. Это быват, вот только заднего хода нет, это жаль.
– Все-то ты знашь, – недовольно заметил Николай. – Давно в этой фирме?
– Третий год. После армии покрутил в колхозе баранку, потом сюда…
– Что, веселее?
– А ты как думал? – азартно парировал белобрысый. – По мне, лучше жмуриков возить и жить, как человек, чем наоборот. Усек?
– Не знаю, – ответил Николай не сразу. – Не похоже все это на человеческую жизнь.
– Тоже верно, – согласился водитель. – Только где ты ее видал, человеческую жизнь – в кино? А это все, – он широким жестом обвел набережную, зацепив и тот берег, и этот, – в гробу я видал такую жизнь, вот где! Только я туда не спешу, – поспешно добавил он. – Насмотрелся на это дело. Уж лучше здесь как-нибудь пешком понемножку, чем в гробу на «лиазике», а хоть бы и на лафете с почетным, бля, караулом из генералов, верно я говорю?
– Верно, – безразлично согласился Николай, стараясь сосредоточиться на главном. У ног его стоял гроб, а в гробу, под обитой латунными гирляндами крышкой, лежало нечто, еще недавно бывшее его мамой, а теперь нуждавшееся в достойном погребении, и ничего важнее этого дела, этого долга, этого часа не было; не следовало отвлекаться на постороннее, тем более на плоские афоризмы этого белобрысого паренька с малоподвижным, застывшим в вечном похмелье лицом, смотревшего на мир сквозь ветровое стекло катафалка.
Они подрулили к задам похоронного комбината, переставили гроб на высокую тележку и распрощались. Николай отблагодарил водилу червонцем и вместе со служителем в пепельной униформе покатил тележку в чрево ритуального здания. Гроб вкатили в высокий, пустой и холодный зал, переставили на постамент, сняли крышку, тележку выкатили – Николай остался с телом один на один. Времени до открытия зала оставалось полчаса, но то, что лежало в гробу, нельзя было показывать бабушке, он отчетливо понимал это. Ужасное, злобное, брезгливое лицо покойницы не было маминым лицом – только там, в этом вертепе, могли сотворить с ней эдакое. Примеряясь к бабушкиному восприятию, он издали, от входа, глянул на тело в гробу, на крючконосое, уже пораженное красными пятнышками лицо и окончательно убедился, что бабушке этого видеть нельзя. Встав на какую-то подставку, он долго с ужасом и отчаянием смотрел на труп, потом, приподняв холодную, тяжелую, мокрую голову, повязал на шею косынку, расправив узел так, чтобы скрыть багровый, выползающий к подбородку ожог, и перевернул подушку на лицевую сторону. Первое прикосновение к телу обожгло – холодом – и успокоило: оно было холодным и твердым как лед, то есть замороженным в прямом смысле этого слова. Николай дотронулся до лица… Постарался высвободить черную прикушенную губу, смягчить ведьмачий оскал, придать, насколько возможно, обезображенному лицу знакомое мамино выражение. Верхние покровы подтаяли и были подвижны, но под ними все было твердым, вечная мерзлота – выражение не улавливалось, оплывало; Николай в шоке, со слезами на глазах пытался уловить его, потом застонал в отчаянии от этого надругательского хозяйствования над мамиными чертами, от этой безумной лепки ее лица из неживого, подобного холодной оплывающей глине материала, и спрыгнул на пол. Постанывая, он обежал зал и в углу обнаружил дверь с табличкой «Комната родственников», а за дверью – комнатенку с диваном, телефоном и холодильником; тут же, за другой дверью, помещались умывальник и туалет. Раздевшись и вымыв руки, он вернулся в зал. Теперь лицо в гробу показалось ему не столь ужасным, то есть ужасным, да, но отчасти и узнаваемым. Служитель, помогавший толкать тележку, внес два подсвечника с электрическими свечами, установил их на подставках по обе стороны от гроба и вышел, не оглянувшись, словно знал по опыту своему, какими дикими, немыслимыми делами занимаются родственники клиентов. По уходу его, ожив, тихонько загудела вытяжная труба, встроенная в стену над пьедесталом и замаскированная медным светильником, а еще выше, под потолком, негромко заиграла музыка. Николая знобило. Он прошел в комнату родственников, накинул дубленку. «Все, – подумал он, чувствуя в костях мамин лед. – Все, дальше некуда».
Он позвонил домой – просто так, просто, чтобы куда-нибудь позвонить из этого мертвого дома – трубку поднял Сапрыкин и бойко отрапортовал, что все в порядке: девицы лихие, шуруют вовсю, ему, Сапрыкину, приказано пить водку и ни во что не вмешиваться. Бабушка, Полина, Наталья уже выехали, то есть едут к нему.








