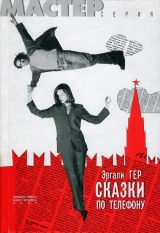
Текст книги "Наталья"
Автор книги: Эргали Гер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Как зачем? На твой день рождения, – хотя день рождения был накануне, и приехал он без подарка, с пустыми руками… если не считать его самого, его приезд за подарок. Обычно это сходило, денег у него никогда не было и подарки для матери все чаще в последние годы откладывались на потом, к Новому году, а там и к восьмому марта, но на этот раз мать психанула, он слышал, как на другой день она жаловалась по телефону Полине:
– …и говорит, что приехал на мой день рождения… Вот именно. Нет, ну что за человек, а?
Это обращение к Полине, с которой у матери прежде не было доверительной близости, задело-таки его за живое, заставило понять, как отдалилась она за последние годы, как срослась со своим одиночеством, со всем своим отлаженным и безрадостным существованием, которое он потревожил так глупо, так мимолетно и так, в сущности, бесцельно. За три дня дома он так и не смог толком поговорить с матерью, не сумел поделиться с ней собственным, разбуженным в нем отцовским чувством – Сашка был главным его московским откровением, обнаружившим в Николае интонации матери, ее фразы, запавшие с детства, и какую-то новую, взрослую, серьезную нежность к ней. Этой осенью он вспоминал мать как никогда часто. Вспоминал молодой, задорной, вспыльчивой – и такой, какой оставил нынешним летом: еле-еле ковылявшей от остановки к дому, согбенной, с нелепой старушечьей кошелкой и жутким, застывшим, обращенным вовнутрь взором…
Вспоминая, он с горьким, щемящим чувством думал о том, как неумолимо сужается ее мир, как унизительны и безысходны ее хождения по врачам, взяточникам и бездарям, ее одиночество, сумерки некогда удачной карьеры – что из этого и какими словами можно было передать матери? А главное – чем он, любящий всепонимающий сын, мог помочь? Вот именно. Так и не поговорил, даже не стал пытаться, понадеявшись на долговременный фактор материнской любви, всегда работавший на него, а зачастую и вместо него, на эту свою незримую, необременительную, сыновнюю власть над нею.
Неожиданно в коридоре прозвенел живой телефонный звонок, он снялся с табуретки и пошел в коридор.
– Слава богу, – сказал Натальин голос. – Я так и думала, что ты там. Все в порядке?
– Угу.
– Ты один?
– Нет, – ответил он раздраженно. – Тут еще тень отца Гамлета.
– Не страшно? – полюбопытствовала Наталья и замолчала.
Николай тоже молчал.
– Ты там не убирал? Нет? Ну ладно, не задерживайся, а то Серафима Никифоровна совсем извелась. Я серьезно говорю, не сиди там долго.
– Ладно, – пообещал Николай.
А в самом деле, подумал он, возвращаясь на кухню, зачем я в тот раз приезжал, неужто действительно на день рождения? Выходило, что так, других причин не припоминалось.
5
Поздно вечером, пожелав Серафиме Никифоровне уснуть, Николай с Натальей пошли к Полине. Домишко ее стоял в третьем ряду от Волги, впритык к железнодорожной насыпи, на которую выходил огородами весь этот ряд глубоко посаженных в снег и мглу грачанских домов. Николай помнил его большим, сумрачным, со всеми запахами двадцатилетней давности – это был его первый дом, они жили в нем до шестьдесят пятого года, пока маме не дали квартиру в городе. Они переехали, а в домике поселилась Полина, жившая до этого с бабушкой.
Идти было недалеко, минут десять. В ночном небе дрожало зарево городских огней, изредка полыхали трамвайно-троллейбусные зарницы, а за Волгой, в России, в заснеженных полях и лесах правобережья еще стояла рождественская, благословенная тишь. Шли вдоль железнодорожной насыпи – так повела Наталья, а Николай не спрашивал, что это ей взбрело: вряд ли для того, чтобы провести мимо «отцова» места, – скорее, просто не хотела показываться с ним на улице; брели по крахмальной, свежепроломленной в грязно-сером насте тропе между насыпью и заборами, синей мглой за заборами, мимо гаражей и дровниц с искрящимися шапками снега. Мощные дистанционные светильники обливали полотно мертвенным белым светом; по путям, громыхая буферными сцепками, ползли составы с цистернами, в интервалах скрипел под ногами снег и отлетала за Волгу хриплая брань диспетчеров. Шли молча, и только перед домом Полины, уже в саду, Наталья вдруг обернулась и спросила:
– А что ж твоя благоверная не приехала?
– А куда ей с Санькой? – беспечно ответил он; Наталья, однако, что-то все-таки расслышала в его голосе, опять обернулась и с усмешкой присоветовала:
– Это ты бабушке сказки рассказывай. Полтора года – уже не грудной. По такому случаю могли бы и на тещу оставить.
Он молча, с досадой пожал плечами.
У Полины их ждал сюрприз: объявился Сапрыкин. Похоже, тетка и сама не ждала сюрприза – объявился он, как всегда, внезапно, часа полтора назад, но уже переоделся, сидел за столом, накрытым на четверых, в выглаженной линялой сорочке и домашних штанах; вишневки в лафитничке убыло примерно на треть, это и помогло Николаю определить время прибытия с точностью плюс-минус двадцать минут – по лафитничку, как по клепсидре. Объявлялся Сапрыкин у Полины набегами, наскоками, наездами два-три раза в году, больше недели-двух никогда не задерживался, зато и не изменял этому своему графику вот уже лет пятнадцать – с того самого дня, как угораздило его выпрыгнуть из вагона-телятника попить и облиться водой из шланга – тетка как раз поливала в огороде клубнику, – а поезд с его телятами взял да ушел, а Сапрыкин взял да плюнул поезду вслед, не стал догонять. Бог знает, что с теми телятками сталось, но перевозчиком скота он больше не работал, это факт, хотя долго еще околачивался при дороге, навещая Полину то линейным контролером, то экспедитором, то проводником на поездах дальнего следования, пока железнодорожные магистрали не обрыдли ему вконец, а может, Сапрыкина уже знали все службы МПС и отовсюду гнали Полина, во всяком случае, расписывала именно так. Последние несколько лет он вахтенным методом шоферил в Тюмени: летал туда самолетами Аэрофлота на месяц-два, потом по очереди отогревался у какой-нибудь «доброй дуры вроде меня», по определению Полины, отнюдь не строившей иллюзий относительно своего «десантника» – так прозвали его между собой сестры, Полина и мама, притом задолго до внедрения на Самотлоре вахтенного метода.
Теперь Сапрыкин сидел за столом, переодетый во все чистое, во все свое, а тетка встречала гостей в прихожей, одновременно служившей кухонькой. Вид у Полины был замороченный, она лишь рукой махнула на удивленное Натальино замечание, что у нее гость, и скривила рот, давая понять, что только Сапрыкина ей и не хватало для полного счастья, – они разделись и прошли в единственную комнатушку, освещенную мягким розовым светом торшера. Сапрыкин поднялся им навстречу, пробормотал «вишь, Колян, как быват», потрепал по плечу, хотел еще что-то сказать, но не нашелся, они постояли и сели на диван, а Сапрыкин в кресло. За время, что Николай не видел его, он обрюзг, полысел и выглядел Полине под стать, хотя когда-то был лет на десять помладше. Тетка села последней; подождали, пока Сапрыкин разольет настойку по рюмкам, потом переглянулись – ну, давайте, негромко пригласила Полина – и в полной тишине выпили.
Сапрыкин тут же наполнил рюмки.
– Впервой за сегодняшний день присела, – выдохнув, призналась тетка. – Ты, Витюш, не гони, и вообще, давай пересядем, мне с Николкой еще поговорить надо.
Они с Сапрыкиным поменялись местами, тетка поставила себе на колени сумку, покопалась в ней и протянула Николаю листок:
– Держи, это разрешение на захоронение. Завтра поедешь на Семеновское кладбище, отдашь заведующему. Сунь ему четвертной, пусть подберет место получше. Сам пригляди, чтобы потом знать, куда везти, понял? И еще, – она извлекла из сумки две зеленые пятидесятирублевки, – это матпомощь. Выписали на мое имя, но для тебя, так что держи. А это собрали ребята из патентного, – она развернула сверток, Николай увидел трешки, червонцы, пятирублевки, даже один четвертной. – Семьдесят пять рублей. Итого сто семьдесят пять, на завтра хватит.
– Мне бабушка дала двести рублей, – краснея, признался он.
– Знаю. Потому и говорю, что хватит, – насмешливо пояснила Полина. – Это ведь не пособие по бедности, так что бери, не стесняйся.
– Все равно неудобно, – принимая деньги, пробормотал он. – Ты хоть спасибо им передай, а то ведь я никого там не знаю, в патентном…
Тетка, улыбнувшись Наталье, снисходительно возразила:
– Ты у нас пока что не президент, сам передашь. Всех после похорон пригласишь на поминки и поблагодаришь, так это делается. Кстати: где думаешь поминки справлять?
Он об этом не думал, но твердо сказал:
– Там, дома.
– Не поместятся. И посуды не хватит. Ничего не хватит.
– Не танцевать же… А посуду у соседей одолжим. Там ее дом, там и поминать, больше негде.
– А про ресторан ты не думал?
– Нет, – признался Николай. – А что, и такое уже бывает?
– Ну, в городскую квартиру не больно-то пригласишь на поминки, – задумчиво проговорила тетка. – И кто, по-твоему, всем этим займется?
Он пожал плечами.
– Ладно, разберемся, – сказала Наталья. – Я тоже за то, чтобы дома.
– Как хотите, – тетка пометила что-то в блокноте. – Только учти, Натуля, это будет твоя забота. Поехали дальше… – Она перелистнула блокнот и значительно взглянула на Николая. – Так вот, милый мой… Институт берет на себя все расходы по похоронам. И не думай, что пробить это было просто – у нас не очень-то любят, когда человек так уходит, сам понимаешь. Зал институтский занят, там, по-моему, еще елку не убрали, но есть специальный зал на Чкаловской, где новое бюро этих, ритуальных услуг, там, говорят, ничего. Твое дело – снять его, заказать все необходимое, там объяснят, а главное – сохрани все квитанции, ну, кроме случаев, когда будешь в лапу давать, это профсоюз не оплачивает…
Она еще долго инструктировала Николая – затем, усомнившись в нем, вырвала из блокнота листок и подробно расписала все его завтрашние дела и маршруты.
– Вроде все, – сказала Полина, вручая Николаю листок и откидываясь в кресле. – А теперь, Витюш, налей ему полную, да и мне, пожалуй.
Сапрыкин всем с готовностью налил по полной, не только тетке с племянником.
– Ну, детки… – Он приподнял рюмку и оживился. – За Надюшу теперь и не выпьешь до похорон – не положено – так что давай за тебя, Полина Ивановна, воробушек ты мой хлопотливый…
– Можно и за меня, только не сейчас, – уклонилась тетка. – Не готова я, Витенька, извини. Давайте молча, как начали, каждый про себя, а то слова – они и есть слова, что ими скажешь…
И выпила. Сапрыкин закивал, соглашаясь, и выпил вслед, Наталья и Николай тоже. От настойки в груди потеплело и потекло, дышать стало легче. Потом и слова нашлись, у каждого свои – когда по третьей рюмочке пропустили – один Николай точно в осадок выпал: сидел, раскачиваясь, словно укачивал в себе боль, то и дело уплывая под разговоры куда-то в ночь от застольной беседы, но не было в той ночи ни звездочки, одна кромешная, безысходная мгла – измаявшись, он выплывал обратно на голоса, на теплый розовый свет торшера.
– Да-а, удивила-удивила, удивила Надежда, что и говорить, – бормотал Сапрыкин, разминая свинцовыми, точно обугленными пальцами сигарету. – Хотя, конечно, по нынешним временам дело обычное. И бабы себя решают, и мужики, и совсем зеленые ребятишки – кто хошь, тот и вперед. При Иоське такого не было. До чего народ выдрючил – даже этого, то есть руки на себя наложить – и то боялись…
– Раньше дружней жили, слитней, а сейчас озлобились, разбежались по своим углам и водку хлещут, – возразила Наталья.
– А почему хлещут – потому что страшно по одному, плохо. Это, конечно, не про Надежду Ивановну, тут особый случай, а вообще. Раньше – тяжелее жили, но душевнее.
Сапрыкин озадаченно посмотрел на нее.
– Не видала ты по молодости той душевности, Наташенька, так что благодари судьбу. А я хлебанул – вот так… Вот ты можешь представить себе такое, чтобы за пирожок уворованный десятилетнего пацана бабы, бабы на базаре в клочья разнесли?.. То-то. А я – своими глазами. В сорок седьмом году, в Рыбинске. Дружка моего.
С минуту он помолчал, покурил, потом сказал:
– Не понять вам этого никогда. И слава богу… Я вот прошлым летом хиппаря одного вез. Пятьсот километров вместе ехали. Старый уже хиппарь, за тридцать, уже, поди, детей наплодил по всему свету, а все шакалит. Волосней зарос до жопы, глазки приторные, вроде как понимающие, а по всему видать – не понимает ни хрена. Всю Сибирь решил проехать-пройти, жизнь посмотреть. И в кармане, естественно, ни шиша, хрен ночевал. Еханный бабай, думаю… Да тебя в прежние времена, да с такой волосней – на сто первом километре от Москвы просто так, не по злобе, а любопытства ради прирезали и бросили бы подыхать на обочине, убедившись, что анатомия у тебя стандартная, а щас па-ажалуйста – полстраны проехал и еще полстраны пройдешь, если, конечно, милиция не остановит… Ночевка у нас была занятная. Остановились у ручейка болотного, вскипятили чайку на примусе, поели, спиртику выпили – ну его и развезло с голодухи, расчувствовался, стал объяснять мне, какой русский народ удивительный, какой простой и добрый, прямо как иностранец. Мне даже смешно стало: вот сукин сын, думаю. Подвезли тебя, накормили, еще и от комарья упрячу в кабине на ночь – нет, чтобы промолчать, понимаешь, возводит все это дело в принцип, в закон, делает из меня священную дойную корову! Как будто без того не понятно, что ты, голь перекатная, чужой добротой живешь. Легли – я наверху, на спальном месте, он на сиденье – у меня уже глаза слипаются, а он все чешет и чешет: мы и великие, мы и могучие, и Христос нас за пазухой носит, и философы нам песни поют, и мы еще покажем всему миру со своей добротой… Надоел, зараза. Насчет доброты, говорю, это ты верно – ведь мог я тебя прирезать и в болото бросить, чтобы с концами, а не зарезал, притом исключительно по доброте души. А теперь давай спать, хватит аплодисментов. Вот тут он и припух. Совсем неслышно стало. Я даже перепугался: струхнул, думаю, попутчик, как бы с перепугу глупостей не наделал. Но ничего, обошлось. Едем наутро дальше. Километров двадцать проехали, гляжу – укачало его, носом клюет, оползает попутчик мой манной кашей – выходит, всю ночь не спал, о доброте моей думал… Вот так.
– Черный ты человек, Сапрыкин, – усмехнувшись, сказала Полина. – И что ты ему доказал? Чему одна голь перекатная другую голь научила?
– А ничему, – запальчиво возразил Сапрыкин, забыв, должно быть, к чему все это рассказывал. – Чему их научишь, когда они, от титьки не оторвавшись, заливают про молочные реки?
– Это я, что ли, от титьки не оторвавшись? – даже не возмутилась, а скорее удивилась Наталья…
«Вот видишь, – подумал Николай, – мы пьем, разговариваем, сидим, как ты сидела за этим столом позавчера, а ты уже только из меня, изнутри можешь смотреть на это, да и то вряд ли. Тебя уже нет, это я по привычке так говорю, придумывая для себя, а тебя уже нет нигде, вот какая беда…» – «Беда, – соглашалась мама виновато, и в голосе ее были жалость и нежность. – Беда, сынку…»
– Что, тяжко? – спросила Полина. – Может, поспишь?
– Нет. Лучше налей еще, Поль.
– Хватит тебе, – встрепенулась Наталья. Но тетка не согласилась:
– А что, ничего, сегодня можно, – и плеснула ему собственноручно. Лафитничек у нее был бокастенький, вроде бы небольшой, но очень даже вместительный.
Выпив, он опять отключился от общей беседы, зато разговорилась тетка. Голосок ее журчал ровно, спокойно, повествовательно, под него хорошо думалось о своем и сиделось со всеми.
– …всегда на виду была, любила быть на виду, да и была такая, знаете, огонечек трепещущий, сплошное «взвейтесь кострами, синие ночи» – звонкая, боевая, спортивная, вот как в кино показывают, такой и была… И у мамы была любимицей, мама даже не скрывала. Меня с малых лет пустоцветом звала – как в воду глядела – а Надюшка была ее кровиночка, это факт.
Зато и цапались, надо сказать: уж если цапались, то смертельно, характеры-то – ого-го; не видали вы Серафиму Никифоровну в мочах. Как схлестнутся – перья летят, неделями не разговаривали, только через меня, а я между двух огней, как дура, а им хоть бы хны – принцип держали… Вот и додержались. Надька только-только гимназию закончила, думала к нам поступать, в Политехнический – я тогда в Политехническом училась, на вечернем, вот как Наташа теперь, не то пятьдесят второй, не то пятьдесят третий год… Нет, пятьдесят третий… Прихожу домой, а дома шум, крик, тарарам, мать кулаком по столу – опять ругаются, думаю, и тут Надежда – а меня не видит, я за спиной стою – тоже кулаком по столу – бац! – и прямо маме в лицо: «Ненавижу!» Та пошатнулась, за сердце схватилась, тоже как в кино, и говорит: «Это за что же, интересно знать, родной матери?» – «А за все! – орет Надька. – За всю твою ложь, за Сталина твоего сраного, – так и сказала, ей-богу, а ведь только-только отплакали, отрыдали, только-только в Мавзолей положили, и мы все, Надька тоже, все вместе плакали, а тут – нате вам! – за Сталина, говорит, твоего сраного, за то, что в школе нам про верность и честность пела, а сама от отца отреклась!» Как из нее это выскочило – не пойму, мы никогда про это не разговаривали, честное слово. Это в крови сидело – нельзя, самое настоящее табу, как у папуасов. Мать как заорет: «Вон, вон из моего дома, вон из моей жизни!» – и пощечину ей, серьезную такую затрещину, и поделом, потому что Надька только-только вылупилась, когда отца взяли, да и мне было четыре годика, вот и судите, кто может… Она потом и сама поняла, что не права, но это потом. А тогда – чемоданчик сложила, и будь здоров. В Москву махнула, вот как Колянька сейчас. И пять лет мы ее – не видели…
– Да, она рассказывала, – вздохнув, проговорила Наталья.
– Очень себя корила. Они ведь тогда с Серафимой Никифоровной лет семь не разговаривали, верно? – Полина кивнула.
– И еще рассказывала, что все эти годы ты высылала ей по двадцать рублей в месяц, иначе бы, говорит, не продержалась в Москве.
– Старыми по двести, – уточнила Полина. – Смотри-ка, – удивилась она, – это когда же она рассказывала?
– Давно, еще когда Колька в армии был.
– Смотри-ка, – повторила тетка и усмехнулась.
– Добрый ты наш воробушек, свет Полина Ивановна! – пропел Сапрыкин. – Пустоцвет, говоришь? Давайте, детки, выпьем за ее ангельскую доброту. Квартиру-то, поди, не тебе оставили, а, Полина Ивановна?
– Да поди ты, – отмахнулась Полина. – С квартирой без тебя, Сапрыкин, разберемся.
– Квартиру оставили кому надо, – сказал Николай. – Бабуля там все равно одна не потянет, так что, считайте, она как бы для Поли оставлена. И не надо ля-ля.
– Вот именно, – поддержала тетка. – Не надо этого.
– Ну, извините, – Сапрыкин поднял руки вверх. – Пардон.
Наталья пошла ставить чайник, заодно убрала со стола грязные тарелки.
– А что, Поль, здорово мама обиделась на меня в последний приезд? – поколебавшись, тихо спросил Николай, чувствуя, что не надо бы спрашивать об этом, – а все-таки не удержался, спросил.
– Конечно, обиделась. Ты ведь тоже – тот еще подарок…
Он кивнул, чувствуя, как отхлынула от лица кровь, вся ушла, как вода из раковины, и в пустоте гулко, чуждо, как по радио, прозвучал теткин голос:
– … только выкинь все это из головы, понял? У других вон сыновья восемь классов пооканчивают, только выйдут за порог – да в колонию, да в тюрьму, кого до армии дотянули – Бога благодарят, считай, спасли человека… Так что ж теперь, всем грачанским бабам веревки мылить? Нет, малыш. У Нади своя дорога была, свой путь в жизни, и она прошла его до конца. Поверь мне, старой дуре, уж я-то знаю.
– Ну, ты всегда все знаешь, – буркнул он с напускной досадой и облегчением.
Тетка взглянула на него с удивлением.
– Коль, ты же сам сказал сегодня, что знал, – напомнила, возвращаясь из кухни, Наталья.
– Да что я знал, что? Как я мог знать? Я боялся, да, я думал об этом, потому что это было самое такое расхожее восклицание – когда совсем прижимало, когда опускались руки, это было самое такое расхожее восклицание: «Лучше повеситься, чем так жить!» Это как проклятье говорилось, как присказка, а однажды я вдруг услышал, с каким выражением она ее произносит – и обмер, честное слово. Это уже не присказка, не риторика была, а твердое убеждение. Я страшно перепугался, именно что обмер, а потом – спохватился, испугался своего молчания – она тоже замолчала – бросился обнимать ее, успокаивать, но это уже было не то, уже прострелило что-то, вот с тех пор страх во мне и сидел, наверное… А что я мог ей сказать? Погоди, маменька, не кляни ты своих врачей, вот я уеду, а ты останешься одна – так, что ли?
– Не дави, малыш, – попросила тетка. – И не мучай себя. А впрочем, это дело такое. Живые всегда виноваты перед умершими, от этого никуда не денешься, если ты живой человек. Только имей в виду, все-таки, что каждый человек сам решает свою судьбу. И ни ты, ни я – никто со стороны не мог, прости за такие дурацкие слова, кардинально изменить ситуацию. Мог ты вылечить маму? Мог переделать ее, переделать жизнь? Сделать так, чтобы она в детстве, когда тобой и не пахло, не так безоглядно верила в счастье и светлое будущее, в то, что не так мы будем жить, как жили, а уж она-то, такая способная и целеустремленная, уж она-то подавно? Ты взгляни на сверстниц моих, людей нашего с Надеждой поколения – мы же все клячи, все в мыле, запаленные рабочие лошади, вот мы кто! Все врозь – правильно Наташа подметила – все врозь, поодиночке тащим свой воз, а вокруг какая-то не-разбери-глухомань, все глуше и глуше с каждым годом, и уже не выбраться – нам уж точно не выбраться, силы уже не те. Мужики наши поразбежались, кто спился, кто проворовался, кто рыбу ловит – извини, Витюш, мы тут уже на обобщения перешли, – детки тоже не больно привыкли о нас заботиться, верно я говорю? Да и не приучены вы заботиться, это о вас заботятся все кому не лень, так что вы вроде недоумков на побегушках, ходу вам нет, все места заняты, и денег нет, и квартир, и мяса, и молока… Ничего нет! Такую ли жизнь мы ожидали увидеть в свои пятьдесят? Это что, и есть коммунизм обещанный?
– Так вроде обменяли наш коммунизм на ихнюю Олимпиаду, так что коммунизм теперь в Греции. Вы что, не знали? – схохмил Сапрыкин.
– И еще такой вопросик, малыш, – отдышавшись, проговорила тетка. – А даже если б ты знал, что случится с мамой, ты отказался бы от собственной жизни? Жил бы, как паинька, при ней, чтобы уберечь ее от этого шага? Нет.
– Да, – сказал Николай.
– Да что ты говоришь, Поля?! – перебила ее Наталья. – Какая ты, в самом деле, причем тут полезно-бесполезно?
– Я знаю, что говорю! – взорвалась Полина. – Это же один корень – что он, что Надежда, что Серафима Никифоровна – одного поля ягоды. Самовоспро… Самовоспроизводящиеся эгоисты, вот кто. Это не упрек, просто они такие. Они быстрее срываются. Им тяжелее дается понимание того, что жизнь больше нас и подвластна нам лишь отчасти, и нам никогда не овладеть ею, понимаете, во всей полноте, хотя бы потому, что не нами она началась и не нами кончится… Это все очень такие нормальные, первичные ощущения для обывателей вроде меня, а для эгоиста это высшая математика. И если он не вполне овладел этой высшей математиков, он, как говорится, в тяготах уязвим весьма. «Возлюби ближнего своего как самого себя», – тоже ведь сверхзадача, до конца не постижимая и не выполнимая, верно? Но зато, когда человеку совсем худо, когда все покатится в тартарары, в руках останется ниточка, чтобы вернуться к жизни, вернуть себе силы, по крайней мере, душевные, радость бытия – все можно вернуть, все вернется, если начать не с распоряжения жизнью по собственному хотению, а с того, что, ничего уже для себя не желая, жить ради ближних своих и дальних, ради самой жизни как бесценного, безусловного дара. Разве не так?
– Так, – согласилась Наталья.
– Да ты, Полина Ивановна, никак сама за себя тост сказала! – весело изумился Сапрыкин и потянулся за рюмкой. – Ну и правильно. За тебя, умница, – хорошо говоришь!
– Сапрыкин, я тебя изгоню! – вознегодовала Полина, возбужденная собственным красноречием, и – осеклась, напоровшись на неподвижный, налитый слезами взгляд Николая.
– У тебя нет никакого права осуждать ее, – проговорил он с дрожью с голосе. – Как ты можешь осуждать ее, когда она на такое пошла, Поля! Ты же знаешь, как она мучилась, как любила жизнь, какая веселая была до болезни, неужели тебе не жаль ее, Поля?! Какие пустые твои слова, если тебе не жаль! Она ведь давно уже ничего не хотела сверху, ты же знаешь, только самого простого – здоровья, работы, ничего сверху, и того у нее не было! Даже золотого колечка! Она как-то пожаловалась: «Как я хочу хоть маленькое, но золотое колечко, у меня в жизни не было ничего золотого». И это она, понимаете, она, которой всегда было плевать на это! Я подумал тогда, что обязательно подарю ей это колечко несчастное, с первой же получки, и так и не подарил! – Слезы брызнули из глаз, он зарыдал навзрыд и заголосил: – Так что даже колечка у нее не было в жизни, Поля, это ты понимаешь? А я совсем, совсем уже свыкся, что с первой получки, и так и не подарил! А она не дождалась, не захотела ждать больше! Ей уже не надо, понимаешь? Не на-до!!!
Теплая Натальина ладонь легла ему на плечо, но было поздно – настойка растопила внутри все переборки, душа потекла, он ревел, не помня себя, орал, чтоб не трогали маму, потом убежал в прихожую-кухоньку и там отрыдался, зарывшись лицом в висящие на вешалке шубы, – коварная настойка была у тетки. Где-то над ним, в вышине, беззвучно плакала мамочка, по лицу ее текли слезы, и не было, не было ее на свете, он остался один.
Потом он сходил в нужник, на морозец, на обратном пути черпанул пригоршней снег из сугроба, обтер лицо и, глядя на звезды, мерцавшие поверх заснеженных яблонь, пожалился:
– Господи, что ты с собой сделала?
И опять заплакал.
– …Зато теперь я спокойна, – призналась тетка, когда они уходили. – В нашем деле главное – вовремя отрыдаться. Кто выплакался от души, тот все выдюжит, это закон.
– Инженер человеческих душ, – прокомментировал Сапрыкин, подавая руку и подмигивая Николаю. – Держись, Колян.
Все столпились в прихожей, Николай ошарашенно кивал и ждал, когда женщины наговорятся. Наконец вышли, пошли сквозь сад вдоль насыпи, по краю холодного, бьющего в полотно голубоватого света – Николай, пошатываясь, впереди, Наталья следом. В себе он ощущал только ночь, она перетекала в завтра и послезавтра, сгущаясь за послезавтра враждебной, непроницаемой мглой. Он был человек конченый. Тут – они подошли к месту, куда мать носила букетики – из-за спины с ревом выстрелил товарняк, загрохотал прямо по головам, по головам, по головам, насыщая воздух беспокойным электричеством. Николай сомнамбулой полез на насыпь, проламывая грязный наст и проваливаясь в снег по колено, – Наталья вцепилась ему в рукав, опрокинула в черный снег и заорала:
– Ты куда?! С ума сошел?
– Я не хочу жить, Наташка, – забормотал он, но она и слушать не стала:
– А ну, вставай!
– Отстань! – заорал он, озлясь; Наталья заплакала, села в снег и вцепилась двумя руками в ворот его дубленки.
– Я устала, Колька, ты слышишь, устала, пожалей меня! Вы мне всю душу вымотали, Калмыковы, я не могу больше, я хочу покоя от вас, покоя! По-хорошему тебя прошу – встань, слышишь, вставай, гад, не то сама придушу, своими руками! Вставай, тебе говорят!
Она кричала, перекрывая грохот товарняка, и с таким остервенением трясла Николая за ворот, что он опешил, обиделся и несколько даже протрезвел от обиды.
Товарняк проскочил, смыкая, подобно застежке-молнии, верхние и нижние Грачи в единое ночное пространство. Высморкавшись, Наталья сказала:
– Пить надо меньше. Давай, вставай. Я обещала привести тебя домой и приведу, а там как знаешь.
– Ладно, – сказал он отчужденно. – Сейчас.
6
Утром, еще затемно, Николай с теткиным списком дел отправился в город, долго ждал трамвая на привокзальной площади, потом плюнул, пошел на стоянку такси и за три рубля взял мотор, хотя до дома не набивало и двух. Денег при нем было как никогда – почти четыреста рублей; можно было позволить себе не торговаться с таксистами, смотревшими сквозь клиентов бессонными пустыми глазами.
Дома, стиснув зубы, он принялся за уборку: расставил в туалете все по местам, отвязал от крестовины сливной трубы лопнувший поясок, завернул его вместе с мамиными шлепанцами в газету и спрятал в шкаф. Уборка заняла минут пятнадцать, и еще с полчаса он до снежной белизны надраивал раковину, унитаз, ванну, тер пол и кафель, пока туалет не засиял холодно и торжественно, как фамильный склеп. Затем, собрав последнюю передачу маме – парадное платье, туфли, колготки, комплект нижнего белья, а, подумав, и шелковую французскую косынку, – упаковал все это в сумку-авоську и поехал в Госпитальный переулок, в морг второй городской больницы.
Морг оказался пузатенькой, с прорубленными квадратными окнами часовенкой на отшибе больничного, бывшего госпитального двора. Из заснеженных колокольных глазниц, с оледеневших карнизов свисали кривые, голенькие березки. Взойдя на крыльцо, оплывшее желтой наледью, Николай рванул на себя дверь и оказался в тесной приемной, оклеенной плакатиками Минздрава о профилактике гриппа. В приемную выходили две двери. На одной висела табличка «Патологоанатом», ниже – «Прием родственников с 14 до 17 час.»; другую, с врезанным фанерным оконцем для передач, украшало традиционное «Посторонним вход запрещен» и другое, очень даже своеобразное объявление: «Передавать санитарам деньги и спиртные напитки строго запрещается». Надо же, удивился Николай, с содроганием представив себе бессловесных, до скотства замордованных червонцами и коньяком санитаров. Поразмыслив, он порылся в наплечной сумке, нашел чистый конверт, вложил червонец, написал на конверте фамилию мамы и засунул его в авоську с одеждой. Другой червонец, памятуя теткины наставления, вложил в собственный паспорт, после чего постучался к патологоанатому.
– Можно? – спросил он, открывая дверь.
– Нельзя, – ответил из-за стола сухощавый, жилистый мужчина в халате и докторской шапочке, курящий и стремительно что-то пишущий одновременно. – Закройте дверь и прочтите, что там написано.
Николай сбивчиво затараторил, что ему нужна справка и непременно с утра, и так-таки всучил паспорт сухощавому, который автоматически открыл его и подхватил предательски выпорхнувший червонец.
– Это что, взятка?
Николай, мгновенно вспотев, тупо продолжал твердить про справку сейчас.
– Эх, чудо, – снисходительно сказал сухощавый, возвращая Николаю паспорт вместе с червонцем, – кто ж врачу-патологоанатому, да еще с утра, дает взятку деньгами? С утра дают взятку коньяком, запомни. Днем – водкой, вечером – спиртом, ночью – портвейном. А деньги, это вообще не по нашей части. Ладно, не пугайтесь. Приходите после обеда, как все нормальные люди, будет вам справка. Как фамилия?








