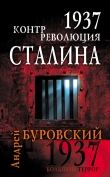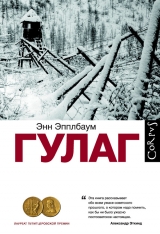
Текст книги "ГУЛАГ. Паутина Большого террора"
Автор книги: Энн Эпплбаум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Это написал в начале своих воспоминаний о годах заключения Анатолий Марченко. Его записки, которые циркулировали в Москве с конца 60-х, шокировали московскую интеллигенцию, считавшую, что лагеря, какими они были, ушли в прошлое.
Марченко происходил из рабочей семьи (и отец и мать были неграмотны) и первый срок получил за хулиганство. Второй раз его судили за измену: он пытался бежать в Иран. Срок отбывал в Мордовии, в Дубравлаге – в одном из двух печально знаменитых политических лагерей строгого режима.
Многие подробности испытанного Марченко были знакомы тем, кто слышал рассказы о сталинских лагерях. Подобно его предшественникам, Марченко ехал в лагерь в «Столыпине». Подобно предшественникам, в пересыльной тюрьме он получил на дорогу «буханку черного хлеба, граммов 50 сахару и одну селедку». Этого должно было хватить до следующей «пересылки». Подобно предшественникам, он обнаружил, что утоление жажды зависит от конвоира: «Если подобрее, так раз или два принесет, а надоело ему бегать с чайником – хоть умирай от жажды».[1458]1458
А. Марченко, с. 11–19.
[Закрыть]
В лагере Марченко испытывал такой же, как его предшественники, постоянный голод. Его дневной рацион содержал 2400 калорий: 700 г хлеба, 450 г капусты и картошки (часто гнилых), 80 г трески (часто испорченной), 50 г мяса, 30 г крупы или лапши, 20 г жиров, 15 г сахара. При этом сторожевой овчарке полагалось 450 г мяса. Как и в прошлом, заключенным доставалось не все, что было положено по нормам питания, и возможностей купить что-либо дополнительно было мало. «За шесть лет тюрьмы и лагеря я дважды ел хлеб с маслом – привозили на свидание. Съел два огурца: в 1964 году один огурец, а еще один – в 1966-м. Ни разу не ел красного помидора, ни разу яблока. Это все запрещено».
Выполнение трудовой нормы по-прежнему имело значение, но характер работы изменился. Марченко работал грузчиком и столяром. Леонид Ситко, который тоже был в то время в Дубравлаге, занимался изготовлением мебели. Заключенные мордовских женских лагерей работали на фабриках – часто на швейных машинах.[1459]1459
Ратушинская, с. 60–62.
[Закрыть] В другом лагере для политических, находившемся близ Перми, работали опять-таки с древесиной. В одиночных камерах, куда часто стали сажать к 80-м годам, шили рукавицы и арестантскую одежду.[1460]1460
Виктор Шмыров, разговор с автором, 31 марта 1998 г.
[Закрыть]
Со временем Марченко обнаружил, что условия жизни ухудшаются. В середине 60-х годов в лагерях было три режима – облегченный, общий и строгий. Соответственно, как минимум три категории заключенных. Очень скоро заключенным строгого режима (в их число входили все политические) снова запретили носить свою одежду и стали выдавать черные бумажные куртки. Хотя письма и бандероли с книгами, журналами, газетами (только советскими) можно было получать без ограничений, отправлять письма разрешалось два раза в месяц. На строгом режиме заключенный не мог получать с воли продукты и сигареты.
Марченко пришлось отбывать срок и по уголовной, и по политической статье, и его описания блатного мира звучат знакомо. По сравнению со сталинским периодом уголовная субкультура стала еще грубее и подлее. После войны между ворами и суками конца 40-х преступники разделились на большее число категорий. Евгений Федоров, бывший заключенный, получивший первый срок в 1967 году за грабеж, называет несколько «мастей»: не только «воры» и «суки», но и «свояки» (начинающие воры) и «красные шапочки» («воры-одиночки») – возможно, «духовные» преемники послевоенных «красных шапочек». Заключенные-«земляки» объединялись в «семьи» для самозащиты и прочего. «Семья», по словам Федорова, решала, кого послать на убийство: «Допустим, попадает так, что у Рашида срок 12 лет, ну что ему добавят? – трешку. Рашид берет нож и идет убивает».
Жестокая «культура» гомосексуального насилия и господства, о которой говорилось и в некоторых более ранних описаниях тюрем и колоний для несовершеннолетних, тоже играла теперь гораздо большую роль в жизни уголовников. Неписаными правилами они подразделялись на две группы – тех, кто «шел за женщину», и тех, кто исполнял роль мужчин. «Первых все презирали, вторые ходили в героях, хвастаясь своей мужской силой и своими „победами“ не только друг перед другом, но даже и перед начальством», – пишет Марченко. Начальство учитывало гомосексуальный фактор: в любой тюрьме, по словам Федорова, «есть камера, где педерасты, вся нечисть сидит». Попасть в нее мог, в принципе, кто угодно: «Ну, проигрался в карты, и ты должен вместо женщины…». В женских лагерях столь же широко было распространено лесбиянство, и порой оно было не менее свирепым. И. Ратушинская вспоминала, как одна заключенная отказалась пойти на свидание к приехавшему мужу и двухлетнему сыну. У нее была лагерная возлюбленная, и она смертельно боялась сцены ревности.[1461]1461
Ратушинская, с. 174–175.
[Закрыть]
В 60-е годы в советских тюрьмах и лагерях вспыхнул туберкулез – это бедствие продолжается и сегодня. Федоров описывает положение так: «Если в бараке спят восемьдесят человек, из них человек пятнадцать тубиков. Их никто не лечил, там таблетки все были одинаковые, от головы, от ноги. Врачи там были как эсэсовцы, она с тобой не разговаривает, вообще не смотрит, ты никто».
В довершение всего многие заключенные пристрастились к чифирю – чрезвычайно крепкому чаю, производящему наркотический эффект. Другие разными сложными способами добывали алкоголь. Те, кому разрешали работать вне лагеря, ухитрялись незаметно проносить спирт в зону: «Берется презерватив и соединяется герметично с тонкой пластиковой трубкой (кембриком). Затем расконвоированный все это хозяйство заглатывает, оставляя наружный конец кембрика во рту. Чтоб его не затянуло внутрь, он крепится в щели между зубами (зэки со всеми тридцатью двумя зубами вряд ли встречаются в природе). Через кембрик с помощью шприца в проглоченный презерватив закачивают эти самые три литра – и зэк идет в зону. Если соединение сделано неловко или презерватив вдруг порвется в зэковском желудке – это верная и мучительная смерть. Тем не менее рискуют и носят – ведь из трех литров спирта получится семь литров водки! Когда герой является в зону, ожидающие его приятели начинают процесс выкачивания. Зэка подвешивают за ноги к балке в бараке, конец кембрика вынимают наружу и подставляют посудину, пока все не вытечет. Потом вытаскивают пустой презерватив – он свое отслужил. И весь барак гуляет…».[1462]1462
Ратушинская, с. 258–259.
[Закрыть]
По-прежнему распространено было членовредительство – оно даже приняло еще более зверские формы. В тюрьме Марченко видел, как двое заключенных «сломали от своих ложек черенки и проглотили; потом, смяв каблуком черпачки, проглотили и их». После этого они разбили стекло и глотали куски, пока не вмешались надзиратели.[1463]1463
А. Марченко, с. 50.
[Закрыть] Эдуард Кузнецов, осужденный за попытку захвата самолета в аэропорту «Смольный» под Ленинградом, описал десятки способов самокалечения: «Я десятки раз был свидетелем самых фантастических самоистязаний. Килограммами глотают гвозди и колючую проволоку; заглатывают ртутные градусники, оловянные миски (предварительно раздробив их на „съедобные“ куски), шахматы, домино, иголки, толченое стекло, ложки, ножи и… что угодно; заталкивают в уретру якорь; зашивают нитками или проволокой рот и глаза; пришивают к телу ряды пуговиц; прибивают к нарам мошонку <…> надрезают кожу на руках и ногах и снимают ее чулком; вырезают куски мяса (на животе или ноге), жарят их и поедают; напускают в миску кровь из вскрытой вены, крошат туда хлеб и съедают эту тюрю; обложившись бумагой, поджигают себя; отрезают пальцы рук, нос, уши, penis…».
Заключенные, пишет Кузнецов, уродовали себя не столько из чувства протеста, сколько ради того, чтобы «попасть на больничку, где сестрички так лихо виляют бедрами, где дают больничный паек и не гоняют на работу, добиться получения наркотиков, диетпитания, посылки, свидания с заочницей и т. д. Более того: многие из этих страдальцев очень похожи на мазохистов, пребывающих в состоянии депрессии от кровопускания до кровопускания».
Несомненно, сильно изменились со времен Сталина и отношения между уголовниками и политическими. Блатные по-прежнему иногда издевались над «политиками» и избивали их: украинскому диссиденту Валентину Морозу урки, сидевшие с ним в одной камере, не давали спать по ночам, а один из них ранил его в живот заостренным черенком ложки.[1464]1464
«Хроника текущих событий», выпуск 32, июль 1974 г.
[Закрыть] Но нередко уголовники проявляли к политическим уважение за их сопротивление властям. Владимир Буковский пишет: «Просили рассказать, за что мы сидим, чего добиваемся, с любопытством читали мой приговор и только одному не могли поверить – что все это мы бесплатно делаем, не за деньги».[1465]1465
Буковский, «И возвращается ветер…», с. 38.
[Закрыть]
Некоторые уголовники даже стремились перейти в разряд политических, пусть даже с добавочным сроком: в политических лагерях, считали они, условия лучше. Для этого писались листовки против партии и Хрущева, полные матерных ругательств, или делался из тряпки американский флаг. В конце 70-х часто можно было встретить уголовников с татуировками на лбу, подбородке и щеках: «Раб КПСС», «Большевики, хлеба!», «Долой советский Бухенвальд-âàëüä!» и др..
Еще более глубокой была перемена в отношениях между политзаключенными нового поколения и начальством. В послесталин-скую эпоху политические понимали, за что сидят, ожидали посадки и заранее знали, как будут вести себя в заключении. Они проявляли там организованное, демонстративное неповиновение. Еще в феврале 1968 года группа заключенных Дубравлага, в которую входил Юлий Даниэль, начала голодовку, требуя облегчения лагерного режима, отмены принудительного труда, снятия ограничений на переписку и, подобно социалистам начала 20-х, признания за политзаключенными особого статуса.[1466]1466
«Хроника текущих событий», выпуск 6, февраль 1969 г., приведено в Reddaway, Uncensored Russia, с. 207
[Закрыть]
Начальство шло на уступки, но потом постепенно отнимало у заключенных завоеванные права. Тем не менее требование политических держать их отдельно от уголовников в конце концов было выполнено, не в последнюю очередь потому, что лагерная администрация и сама увидела, что политических нового поколения с их постоянными требованиями и голодовками нужно держать как можно дальше от обычных заключенных.
Голодовки и забастовки стали настолько частым явлением, что с 1969 года в «Хронике текущих событий» сообщения о них составляют почти непрерывную цепь. В том году, например, заключенные протестовали против отмены прав, полученных годом раньше; против запрета на свидания; против помещения одного из них в барак усиленного режима; против запрета другому на получение посылки от родных; против перевода некоторых из лагеря в тюрьму. Забастовкой был отмечен и Международный день прав человека 10 декабря.[1467]1467
Там же, приведено в Reddaway, Uncensored Russia, с. 20—216.
[Закрыть] Указанный год не был необычным по части протестов. Голодовки, забастовки и другие акты неповиновения были и в следующем десятилетии регулярным явлением как в мордовском, так и в пермском лагере.
Голодовки, которые иногда были короткими, однодневными, а иногда превращались в затяжную, мучительную борьбу с начальством, даже обросли нудной рутиной, которую описывает Марченко: «Первые дни никто на его голодовку внимания не обращает; через несколько дней – иногда через 10–12 – переводят в отдельную камеру к другим таким же и начинают кормить искусственно, через шланг. Сопротивляться бесполезно, все равно скрутят, наденут наручники. В лагере эта процедура проделывается еще более жестоко, чем в следственной тюрьме, два-три раза „накормят“, и без зубов можешь остаться».
К середине 70-х некоторых из «худших» политических перевели из мордовского и пермского лагерей в специальные, хорошо охраняемые тюрьмы. Самой знаменитой из них была владимирская, известная еще с царских времен как Владимирский централ. Там политзаключенные почти постоянно были заняты борьбой с начальством. Игра была опасной и велась по сложным правилам. Заключенные старались «набирать очки», добиваясь улучшения условий, о чем через самиздат становилось известно на Западе. Целью начальства было сломить волю заключенных, превратить их в стукачей, в своих пособников, а лучше всего – получить от них публичное отречение от своих взглядов, которое можно было бы продемонстрировать внутри страны и за границей. Хотя методы, применявшиеся властями, в чем-то напоминали сталинские, главную роль в них играли уже не пытки как таковые, не физическое воздействие, а психологическое давление. Натан Щаранский, один из активнейших участников тюремных и лагерных протестов конца 70-х и начала 80-х, а ныне видный израильский политический деятель, пишет об этом так: «Тебя пригласят на беседу, угостят конфетами или яблоками, нальют чаю или кофе… „Ничто от вас не зависит? Наоборот: все в ваших руках, – объяснят тебе. – Можно, например, хорошо питаться. По высшей больничной норме и даже еще лучше! Вы любите мясо? Хорошее сухое вино? Не хотите ли сходить со мной как-нибудь в ресторан? Переоденем вас в штатское – и пойдем. Поймите: все эти нормы – для преступников. Если же мы, КГБ, видим, что вы встали на путь исправления, что вы нам готовы помочь… Что? Вы не хотите стучать на товарищей? Но что значит – стучать? И на каких товарищей? Ведь этот русский (еврей, украинец), который сидит с вами, – знаете, какой он националист? Как он ненавидит вас – евреев (русских, украинцев)? Тогда-то, он сказал тому-то… Кстати, у вас скоро свидание. Сколько вы не видели своих? Год? Да, а на вас тут есть еще рапорты: не встал после подъема, разговаривал после отбоя… Опять администрации придется лишить вас свидания. Может, поговорить с начальником?..“».[1468]1468
Щаранский, с. 259.
[Закрыть]
Как и раньше, начальство могло предоставлять льготы и отбирать их, могло наказывать заключенных (обычно карцером). Оно могло воздействовать на жизнь заключенного посредством небольших на первый взгляд, но существенных изменений, могло назначить ему в тюрьме общий или строгий режим – всякий раз, конечно, в полном соответствии с правилами. Марченко пишет: «Разница между этими режимами для человека, не испытавшего их на себе, может показаться ничтожной, – для заключенного она огромна. На общем режиме есть радио, на строгом – нет; на строгом окно с намордником – на общем нет; на общем прогулка по часу каждый день – на строгом полчаса в день, в воскресенье прогулки нет; на общем есть еще свидание раз в год – на тридцать минут».
К концу 70-х годов количество норм питания возросло до восемнадцати (от 1-а до 9–6), по каждой полагалось определенное количество калорий (от 2200 до 900) и свой набор продуктов. Заключенным назначали одну или другую норму в зависимости от поведения. По норме 9–6 питались в «сытые дни» в штрафных изоляторах. Официально она включала в себя 450 г хлеба, 10 г муки, 50 г крупы, 60 г рыбы, 6 г жира, по 200 г картофеля и капусты, 5 г томатной пасты. На практике из-за воровства заключенные не получали и этого.[1469]1469
Щаранский, с. 258; Ратушинская, с. 183–184.
[Закрыть]
Штрафной изолятор или карцер был, с точки зрения начальства, идеальным наказанием – наказанием вполне законным, которое формально нельзя было назвать пыткой. Голод и тяжелые условия постепенно разрушали там здоровье людей, но поскольку прокладывать железные дороги через тундру уже не надо было, власти это не волновало. Штрафные изоляторы брежневских времен были вполне сравнимы со всем тем, что изобрели органы НКВД при Сталине. В документе Московской Хельсинкской группы за 1976 год подробно описаны карцеры Владимирской тюрьмы, которых в ней было около пятидесяти: «Стены покрыты цементной „шубой“ – острыми выступами, буграми. Пол – грязный, сырой. <…> Часть стекла разбита, и окно заклеено обрывками газет. В других карцерах <…> окна вообще забиты, заложены кирпичом. Сидеть практически не на чем. Имеется специально оборудованный выступ стены: вертикальный полуцилиндр радиусом около 20–25 см, высотой около 50 см, сверху покрытый доской <…>, окованной по краям железом. <…> На ночь втаскивается топчан. <…> Можно лечь – на голые доски и железо. Но холод не дает спать. Часто невозможно даже лежать. <…> В некоторых <карцерах> оборудована вентиляция, которая втягивает вонь из канализации».[1470]1470
Собрание документов самиздата, АС № 2598.
[Закрыть]
Возможно, труднее всего людям, привыкшим к активной жизни, было переносить вынужденное безделье, которое описывает Юлий Даниэль:
За неделею неделя
Тает в дыме сигарет.
В этом странном заведеньи
Все как будто сон и бред.
<…>
Тут не гаснет свет ночами,
Тут не ярок свет дневной.
Тут молчанье, как начальник,
Утвердилось надо мной.
Задыхайся от безделья,
Колотись об стенку лбом —
За неделею неделя
Тает в дыме голубом.[1471]1471
Даниэль, с. 648–649.
[Закрыть]
Пребывание в штрафном изоляторе могло длиться сколь угодно долго. Формально там могли держать не более пятнадцати суток, но это правило было легко обойти: заключенного на день выпускали, а потом опять сажали. Марченко однажды продержали в карцере сорок восемь дней, «выпуская только для того, чтобы зачитать новое постановление о „водворении в штрафной изолятор“». В лагере Пермь-35 одного заключенного не выпускали из ШИЗО почти два месяца, прежде чем перевести в санчасть, другого продержали там сорок пять дней за то, что он отказался работать токарем, требуя, чтобы ему разрешили работать по специальности – слесарем.[1472]1472
Собрание документов самиздата, АС № 2598.
[Закрыть]
Многих отправляли в ШИЗО за еще менее значительные «проступки»: когда начальство хотело сломить чью-то волю, оно жестоко наказывало за мельчайшие нарушения режима. В 1973 и 1974 году в пермских лагерях два заключенных были лишены свиданий за то, что они «сидели на постели в дневное время». Другого наказали за то, что на свидании ему передали банку варенья на спирту. Придирались по множеству поводов: «Почему медленно идешь?», «Почему без носков?» и т. д..[1473]1473
«Хроника текущих событий», выпуск 33, декабрь 1974 г.
[Закрыть]
Иногда такое давление давало результат. Алексей Добровольский, которого судили вместе с Александром Гинзбургом, «сломался» очень быстро. Он обращался к властям с письменными заявлениями о том, чтобы ему разрешили выступить по радио и телевидению с рассказом о своей «преступной» диссидентской деятельности и тем самым предостеречь молодежь от подобных опасных ошибок.[1474]1474
«Процесс четырех», с. 22.
[Закрыть] Петр Якир тоже поддался нажиму и «раскаялся» уже на суде.[1475]1475
Reddaway and Bloch, с. 305; Якир.
[Закрыть]
Другие погибли. Юрий Галансков, тоже подельник Гинзбурга, скончался в 1972-м в лагерной больнице. В заключении у него обострилась язвенная болезнь, от которой он не получал должного лечения. Марченко умер в 1986-м, возможно, от препаратов, которые ему давали во время голодовки. Еще несколько заключенных умерло (один покончил с собой) во время месячной голодовки в лагере Пермь-35 в 1974 году.[1476]1476
Commission on Security and Cooperation in Europe (Testimony of Alexandr Shatravka and Dr. Anatoly Koryagin).
[Закрыть] В 1985-м в Перми скончался украинский поэт и правозащитник Василь Стус.[1477]1477
Виктор Шмыров, разговор с автором, 31 марта 1998 г.
[Закрыть]
Но люди сражались. В 1977 году политзаключенные Перми-35 так описали свою борьбу: «Мы часто голодаем. В карцерах, в этапных вагонах. В обыкновенные, ничем не знаменательные дни, в дни смерти наших товарищей. В дни чрезвычайных событий в зонах, 8 марта и 10 декабря, 1 августа и 8 мая, 5 сентября… мы слишком часто голодаем. Дипломаты, государственные деятели заключают новые соглашения о правах человека, о свободе информации, об отмене пыток… и мы голодаем, т. к. в СССР все это не выполняется».[1478]1478
Собрание документов самиздата, АС № 3115.
[Закрыть]
Благодаря усилиям диссидентов сведения об их движении все шире распространялись на Западе, и протесты звучали все громче. В результате власти взяли на вооружение новый способ воздействия на некоторых арестантов.
Хотя, как я уже отмечала, рассекречено мало архивных документов, относящихся к 70-м и 80-м годам, некоторые все же стали известны. В 1992 году Владимира Буковского пригласили в Россию из Великобритании, где он жил с 1976-го, когда его выслали из СССР в обмен на освобождение лидера чилийской компартии. Буковский должен был участвовать в качестве официального эксперта в слушаниях в Конституционном суде России по «делу КПСС» после того как компартия опротестовала решение президента Ельцина о ее запрете. Он явился в Конституционный суд с портативным компьютером и ручным сканером. Уверенный, что «таких вещей в России пока никто не видел», он сидел посреди зала Конституционного суда и спокойно сканировал секретные документы на глазах у всех. Когда оставалось скопировать всего несколько страниц («Ну как в кино!» – вспоминал позднее Буковский), один из членов политбюро сообразил, что происходит, и завопил: «Он же там все опубликует!». Буковский сложил свой компьютер, тихо пошел к выходу, поехал в аэропорт и улетел.[1479]1479
Буковский рассказал об этом на пресс-конференции в Варшаве в 1998 г. Текст можно найти на сайте Info-Russ (см. раздел «Архивы» в Библиографии).
[Закрыть]
Благодаря Буковскому мы знаем, в частности, как проходило в 1967 году – сразу же после его ареста – заседание политбюро. В особенности поразило Буковского то, сколь многие из присутствующих чувствовали, что «привлечение к уголовной ответственности указанных лиц вызовет определенную реакцию внутри страны и за рубежом». Ошибкой будет, заключили они, просто арестовать Буковского. Было решено поместить его в психиатрическцю больницу.[1480]1480
Буковский, «Московский процесс», с. 144–161.
[Закрыть] Началась эпоха психушек.
Использование психиатрии против инакомыслящих имело в России свою предысторию. Русский философ Петр Чаадаев, который написал, в частности, что «Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов», был по приказу царя Николая I, заявившего, что его сочинения являются «смесью дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного», объявлен сумасшедшим и подвергнут домашнему аресту.[1481]1481
Reddaway and Bloch, с. 48–49; Seton-Watson, с. 257–258.
[Закрыть]
После «оттепели» власти СССР начали помещать диссидентов в психиатрические больницы. Эта практика имела для КГБ много преимуществ. Прежде всего, она способствовала дискредитации инакомыслящих как на Западе, так и внутри страны и ослаблению внимания к ним. Если эти люди – не серьезные политические противники режима, а всего-навсего душевнобольные, какие могут быть возражения против их госпитализации?
Советские психиатры приняли активное участие в фарсе. Для объяснения феномена диссидентства был изобретен термин «вялотекущая шизофрения». Эта форма шизофрении, объясняли специалисты, не ослабляет интеллект и не влияет на внешнее поведение, но является причиной любой борьбы за переустройство советского общества. «Наиболее часто идеи „борьбы за правду и справедливость“ формируются у личностей паранойяльной структуры», – писали два профессора из Института имени Сербского. И далее: «Характерной чертой сверхценных идей является убежденность в своей правоте, охваченность отстаиванием „попранных“ прав, значимость переживаний для личности больного. Судебное заседание они используют как трибуну для речей и обращений».[1482]1482
Буковский, «И возвращается ветер…», с. 315–316.
[Закрыть]
Руководствуясь таким критерием, почти всех диссидентов можно было записать в сумасшедшие. Писателю и ученому Жоресу Медведеву поставили диагноз «вялотекущая шизофрения с паранойяльным реформаторским бредом». У него нашли также «раздвоение личности», связанное с тем, что он работал и как ученый, и как публицист. У первого редактора «Хроники текущих событий» Натальи Горбаневской обнаружили «изменение эмоционально-волевой сферы и недостаточную критику». Ей тоже поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Экспертиза психического состояния генерала Петра Григоренко, ставшего диссидентом, установила, что оно «характеризуется наличием идей реформаторства, в особенности в отношении реорганизации государственного аппарата; это сочетается с переоценкой собственной личности, принявшей масштабы мессианства».[1483]1483
Reddaway and Bloch, с. 176, 140 и 107;
[Закрыть] В докладной записке УКГБ по Краснодарскому краю, направленной в ЦК КПСС, говорится: «Многие страдающие психическими заболеваниями пытаются создавать новые „партии“, различные организации, советы, готовят и распространяют проекты уставов, программных документов и законов».[1484]1484
Info-Russ, #0200.
[Закрыть]
Людей, которых хотели признать психически больными, в зависимости от обстоятельств отправляли в разные учреждения. Некоторых обследовали в спецпсихбольницах МВД, других посылали в специальные отделения обычных психиатрических больниц. Особую роль в преследовании инакомыслящих играл Институт судебной психиатрии имени Сербского, 4-е отделение которого возглавлял в 60-е и 70-е годы профессор Даниил Лунц, занимавший высокое положение.[1485]1485
Reddaway and Bloch, c. 226.
[Закрыть] Он лично обследовал Синявского, Буковского, Горбаневскую, Григоренко, Виктора Некипелова и многих других. «Недаром голубой его мундир украшают две генеральские звезды войск МВД», – пишет Некипелов. Некоторые советские психиатры, эмигрировавшие на Запад, утверждали, что Лунц и другие врачи института были искренне убеждены, что их пациенты психически больны. Однако политзаключенные, которые имели с ним дело, в большинстве своем характеризуют его как оппортуниста, послушно исполнявшего задания руководства и ничем не отличавшегося от врачей-преступников, которые проводили бесчеловечные эксперименты над заключенными в нацистских концлагерях.[1486]1486
Reddaway and Bloch, c. 220–221; Никипелов, с. 116.
[Закрыть]
Арестантов, признанных психически больными и невменяемыми, держали в психиатрических больницах – одних несколько месяцев, других много лет. Пребывание в какой-либо из нескольких сотен обычных советских психбольниц считалось лучшим вариантом. Там царили теснота и антисанитария, среди персонала нередко встречались пьяницы и садисты, но эти пьяницы и садисты были людьми гражданскими, и режим в обычных больницах был в целом менее строгим, чем в тюрьмах и лагерях. Не было, в частности, таких ограничений на переписку, и свидания разрешали не только с родственниками.
Однако «особо опасных» посылали в спецпсихбольницы МВД, которых было всего несколько. Врачи в них имели, как Лунц, звания МВД. Эти больницы выглядели как тюрьмы (караульные вышки, колючая проволока, охранники, собаки), и атмосфера в них была соответствующая. На фотографии, сделанной в Орловской спецпсихбольнице в 70-е годы, видны пациенты, гуляющие во внутреннем дворе, неотличимом от тюремного.[1487]1487
Prisoners of Conscience in the USSR, с 190.
[Закрыть]
Как в обычных, так и специальных больницах врачи добивались от пациентов опять-таки отречения от своих убеждений.[1488]1488
Reddaway and Bloch, c. 214.
[Закрыть] Пациентов, соглашавшихся раскаяться, признать, что на критику советского строя их толкнула болезнь, могли объявить излечившимися и выпустить на свободу. Тех же, кто упорствовал, принимались «лечить». Поскольку советская психиатрия не признавала методов психоанализа, это делали в основном с помощью медикаментов, электрошока и различных видов физического обуздания. Сплошь и рядом применялись препараты, запрещенные на Западе еще в 30-е годы и вызывавшие повышение температуры тела до 40 °C, сильную боль и дискомфорт. Людей пичкали транквилизаторами, которые вызывали много побочных явлений – физическую скованность, замедленность реакций, тик, непроизвольные движения, не говоря уже об апатии и безразличии.[1489]1489
Prisoners of Conscience in the USSR, с 197–198.
[Закрыть]
В числе других способов воздействия были прямое избиение, инъекции инсулина, вызывавшие у недиабетиков гипогликемический шок, и так называемая укрутка: «За какую-нибудь провинность заключенного туго заматывали с ног до подмышек мокрой, скрученной жгутом простыней или парусиновыми полосами. Высыхая, материя сжималась и вызывала страшную боль, жжение во всем теле. Обычно от этого скоро теряли сознание…».[1490]1490
Буковский, «И возвращается ветер…», с. 183.
[Закрыть] В Институте имени Сербского, по свидетельству Некипелова, практиковали спинномозговую пункцию. Вернувшиеся после процедуры несколько часов неподвижно лежали на боку, «хребты их были густо вымазаны йодом».
Пострадали многие. В 1977 году, когда Питер Реддауэй и Сидни Блох опубликовали свое обширное исследование злоупотреблений психиатрией в СССР, было известно по меньшей мере 365 случаев принудительного лечения здоровых людей от «политического» сумасшествия, и наверняка таких случаев были еще сотни.[1491]1491
Reddaway and Bloch, с. 348.
[Закрыть]
Тем не менее, помещая диссидентов в психиатрические больницы, советский режим в конечном счете не добился, чего хотел. Самое главное – он не сумел отвлечь внимание Запада. Во-первых, ужасы советской психиатрии подействовали на воображение западных людей, пожалуй, куда сильнее, чем действовали более знакомые истории о лагерях и тюрьмах. Всякий, кто видел фильм «Полет над гнездом кукушки», легко мог представить себе советскую психушку. Во-вторых, что еще более важно, сообщения о злоупотреблениях психиатрией побудили к действию четко очерченную, способную высказываться во всеуслышание профессиональную группу – западных психиатров. С 1971 года, когда Буковский переправил на Запад более 150 страниц документов о карательной психиатрии в СССР, эту тему стали постоянно поднимать такие организации, как Всемирная ассоциация психиатров, британский Королевский колледж психиатров и другие национальные и международные ассоциации психиатров. Самые бескомпромиссные группы выступали с заявлениями, а те, что не выступали, подвергались осуждению за трусость и навлекали на СССР еще более острую критику.[1492]1492
Там же, с. 79–96.
[Закрыть]
И наконец, эта тема всколыхнула научную общественность Советского Союза. Когда в психиатрическую больницу отправили Жореса Медведева, многие советские ученые подписывали письма протеста в Академию Наук СССР. Физик-ядерщик Андрей Сахаров, который к концу 60-х стал моральным лидером диссидентского движения, во время международного научного симпозиума в Институте общей генетики написал на доске обращение в защиту Медведева. Солженицын адресовал советским властям открытое письмо протеста: «Пора бы разглядеть: захват свободомыслящих здоровых людей в сумасшедшие дома есть ДУХОВНОЕ УБИЙСТВО».
Международное давление, вероятно, в какой-то мере подействовало на советское руководство, и оно отпустило часть узников, в том числе Медведева, который позднее уехал из страны. Но некоторые высшие руководители СССР считали, что реакция властей должна быть иной. В 1976 году Юрий Андропов, тогдашний председатель КГБ, составил секретную записку, где довольно точно (если отбросить язвительный тон и антисемитский душок) описывается международная «антисоветская кампания против „использования в СССР психиатрии в политических целях“»: «Последние данные свидетельствуют о том, что эта кампания носит характер тщательно спланированной антисоветской акции. <…> В настоящее время инициаторы кампании втягивают в нее международные и национальные организации психиатров, отдельных авторитетных ученых, создают специальные „комитеты“ по контролю за деятельностью психиатров в различных странах и в первую очередь в СССР. <… > Активную роль в нагнетании антисоветских настроений играет Королевский колледж психиатров Великобритании, находящийся под влиянием просионистских элементов».[1493]1493
Info-Russ, #0204.
[Закрыть]
Андропов подробно описывает «попытки втянуть в кампанию Всемирную ассоциацию психиатров» и обнаруживает весьма детальное знание того, на каких международных научных симпозиумах советская карательная психиатрия подверглась осуждению. В ответ на его записку Министерство здравоохранения предложило в связи с приближающимся съездом Всемирной ассоциации психиатров начать широкомасштабную пропагандистскую кампанию, подготовить документы, отвергающие обвинения, и выявить «прогрессивно настроенных признанных психиатров» западных стран, чьей поддержкой можно было бы заручиться. Этих психиатров (некоторые из них были названы поименно) предлагалось пригласить в СССР для чтения лекций.[1494]1494
Там же.
[Закрыть]