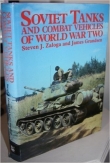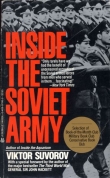Текст книги "ГУЛАГ. Паутина Большого террора"
Автор книги: Энн Эпплбаум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Начальство ГУЛАГа в Москве хорошо знало об ужасах морского и речного этапирования. В отчете о прокурорской проверке в Норильлаге в 1943 году говорится, что заключенные, которых отправляли на баржах по Енисею, часто прибывали к месту назначения в плохом физическом состоянии. Из 14125 заключенных, прибывших в Норильск в 1943-м, около пятисот были госпитализированы в Дудинке в первый или второй день после прибытия; около тысячи из-за истощения были признаны временно нетрудоспособными.[518]518
ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 2063.
[Закрыть]
Несмотря на все показное негодование, система перевозки заключенных почти не менялась. Сверху вниз шли директивы, снизу вверх – жалобы. Тем не менее 24 декабря 1944 года на станцию Комсомольск прибыл этап, состояние которого признал крайне тяжелым даже заместитель прокурора СССР Г. Сафонов. Его официальный отчет о судьбе «эшелона с/к 950» из 51 вагона поражает даже на фоне общей кошмарной истории гулаговских этапов: «Заключенные прибыли в неотепленных и необорудованных для перевозки заключенных вагонах. В каждом вагоне было в среднем по 10–12 нар, на которых могло разместиться не более 18 чел., в то время как заключенных было размещено по 48 чел.
Вагоны не были снабжены достаточным количеством бачков для воды, вследствие чего имелись перебои в снабжении водой по целым суткам.
<…> Хлеб заключенным выдавался мерзлый, а в течение 10 дней совершенно не выдавался.
Заключенные прибыли одетые в летнее обмундирование, грязные, завшивленные, с явными признаками обморожения.
<…> Больные заключенные валялись на мерзлом полу без медицинской помощи и тут же умирали. Трупы умерших в течение длительного времени находились в вагонах».
Из 1402 заключенных, отправленных эшелоном с/к 950, прибыло 1291; 53 человека умерло в пути, 66 оставили в лечебных учреждениях в разных точках маршрута. По прибытии еще 335 человек было госпитализировано с обморожениями III и II степени, воспалением легких и другими болезнями. Поездка длилась 60 дней, 24 из которых поезд стоял «в связи с плохой организацией работы питательных пунктов и задержек железной дороги». Но даже в этом вопиющем случае начальник эшелона Хабаров отделался выговором с предупреждением.[519]519
ГАРФ, ф. 8131 оп, 37, д. 2041. ГАРФ, ф. 8131 оп, 37, д. 2041.
[Закрыть]
Многие пережившие подобные этапы пытались объяснить эту чудовищную жестокость со стороны молодых, неопытных конвойных, которые отнюдь не были матерыми убийцами вроде тех, что подвизались в тюрьмах. Нина Гаген-Торн писала: «Это не было проявление злобы, а просто полное равнодушие конвоя – он не рассматривал нас как людей. Мы – живой груз». Такого же мнения придерживается поляк Антони Экарт, арестованный после советского вторжения в Польшу в 1939 году: «Нас не мучили жаждой сознательно – просто носить воду означало для конвоиров добавочный труд, и они не хотели носить ее без приказа. Начальник конвоя не проявлял к этому вопросу интереса, а конвоирам слишком хлопотно было на станциях по нескольку раз в день водить заключенных к колодцам или кранам, повышая риск побега».[520]520
Ekart, с. 44.
[Закрыть]
Но некоторые заключенные отмечали больше чем безразличие: «Утром вышел в коридор начальник конвоя <…> А он стоит лицом к окну, спиной к нам, даже не оглянулся. Потом рыкнул: „Тра-та-та, вашу мать! Надоели вы мне!“»
Усталостью, скукой и озлоблением из-за необходимости исполнять унизительную работу объясняет эту труднообъяснимую жестокость Солженицын. Он даже попытался вникнуть в образ мысли конвоиров. Штаты ограничены, дел много, а «носить воду ведрами – далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен воду таскать, как ишак, для врагов народа?» Солженицын продолжает: «Потом еще: воду эту раздавать больно долго – своих кружек у заключенных нет, у кого и были, так отняли, – значит, пои их из двух казенных, и пока напьются, ты все стой рядом, черпай, черпай да подавай. <…>
Но и все б это конвой перенес, и таскал бы воду и поил, если б, свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так: не дашь им сутки воды – и оправки не просят; один раз напоишь – один раз и на оправку; пожалеешь, два раза напоишь – два раза и на оправку. Прямой расчет все-таки – не поить».[521]521
Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть вторая, гл. 1 (мал. собр. соч., т. 5, с. 351–352).
[Закрыть]
Каковы бы ни были причины – безразличие, усталость, злоба, уязвленная гордость конвоя – заключенные страдали неимоверно. Как правило, их доставляли к месту назначения не только сбитыми с толку и униженными тюрьмой и следствием, но и физически истощенными – словом, во всех отношениях созревшими для очередной стадии путешествия по ГУЛАГу – для прибытия в лагерь.
Если не было темно, если заключенный не был болен и если у него хватало любопытства поднять глаза, первое, что он видел, были лагерные ворота. Чаще всего на них красовался лозунг. Над воротами одного из колымских лагпунктов «во всю ширь, от столба к столбу – сияла фанерная „радуга“, задрапированная присобаченным к ней кумачовым транспарантом: „Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства!“». Барбару Армонас в трудовой колонии близ Иркутска встретил плакат: «Честным трудом отдам долг отчизне».[522]522
Armonas, с. 137.
[Закрыть] В 1933 году на Соловках, ставших к тому времени спецтюрьмой, висел лозунг: «Железной рукой загоним человечество к счастью!». Юрий Чирков, арестованный в четырнадцать лет, увидел над воротами Соловецкого кремля лозунг: «Через труд – к освобождению!», очень похожий на тот, что висел над входом в Освенцим: «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»).[523]523
Чирков,с. 22.
[Закрыть]
Как и прибытие в тюрьму, приезд новичков в лагерь сопровождался своими ритуалами: бывших обитателей тюремных камер, измотанных этапом, надо было превратить в зэков-работяг. Поляк Кароль Колонна-Чосновский вспоминал: «По прибытии в лагерь нас очень долго пересчитывали. <…> В тот вечер этому, казалось, не будет конца. Бесчисленное количество раз мы строились по пять человек в ряд, каждый ряд должен был сделать три шага вперед по команде озабоченных сотрудников НКВД: „Один, два, три“. Они старательно записывали все цифры в большие блокноты. Видимо, прибавляя количество живых к количеству расстрелянных по дороге, они не получали требуемой суммы».[524]524
Colonna-Czosnowski, с. 53.
[Закрыть]
После пересчитывания мужчин и женщин вели в баню и брили всюду, где росли волосы. Эта процедура, осуществляемая, согласно официальной инструкции, с гигиеническими целям (предполагалось, и не без оснований, что у заключенных, побывавших в советских тюрьмах, должны быть вши), имела, кроме того, важное ритуальное значение. С особым ужасом и отвращением о ней вспоминали женщины, и этому трудно удивляться. Часто им приходилось раздеваться и обнаженными ждать своей очереди на бритье на глазах у конвоиров-мужчин. «Кажется, в первый раз я услышала вопли протеста. Женщины остаются женщинами», – пишет Екатерина Олицкая, подвергшаяся этой процедуре по приезде на Колыму. Ольга Адамова-Слиозберг перенесла нечто похожее в пересыльной тюрьме: «Раздевались мы внизу и хотели уже подняться наверх по лестнице, когда увидели, что вдоль перил снизу доверху выстроились конвоиры. Мы скучились.
Почти все стояли, опустив глаза, с красными пятнами на лицах. Я подняла глаза и встретилась с глазами офицера, начальника конвоя. Он исподлобья смотрел на меня и говорил:
– Ну, давайте, давайте, не задерживаться!
И вдруг я почувствовала облегчение, мне даже стало смешно.
„Плевать мне на них, они для меня такие же мужчины, как бык Васька, которого я боялась в детстве“, – подумала я и первая, нахально глядя в глаза конвоира, пошла вперед. За мной пошли остальные».[525]525
Адамова-Слиозберг, с. 76.
[Закрыть]
Когда заключенные были вымыты и побриты, начинался второй этап превращения мужчин и женщин в безликих зэков – выдача одежды. Правила, определяющие, могут ли заключенные носить собственную одежду, менялись от периода к периоду и от лагеря к лагерю. Создается впечатление, что на практике это зависело от местного лагерного начальства: «На одной колонне можно было свою носить, на другой ни в коем случае», – сказала мне Галина Смирнова, которая была в Озерлаге в начале 50-х годов. Это не всегда имело большое значение: к тому времени, как заключенные попадали в лагерь, у многих одежда становилась не лучше лагерной или оказывалась добычей уголовников.
Лагерная одежда, как правило, была старой, рваной, плохо сшитой и неподходящей по размеру. Некоторым – особенно женщинам – казалось, что одеждой их сознательно стремятся унизить. Алла Андреева, жена писателя и спиритуалиста Даниила Андреева, вначале носила в лагере свою одежду, но в 1950-м ее отобрали и выдали казенную. Она восприняла перемену как оскорбление: «…ведь у нас отняли все, у нас отняли имя, то, что является личностью человека, и одели нас, я уж не говорю, что это были безобразные платья. Главное, конечно, это номера на спине».
Никто не заботился о том, чтобы одежда подходила человеку по размеру. «Каждому из нас, – вспоминал Януш Бардах, – выдали кальсоны, черную гимнастерку, ватные штаны, бушлат, ушанку, зимнюю обувь на резиновой подошве и меховые рукавицы. Все это раздавалось как попало, и подбирать себе одежду по размеру должны были мы сами. Все, что я получил, было мне страшно велико, и мне стоило многочасовых усилий поменяться на что-то более приемлемое».[526]526
Bardach, с. 227.
[Закрыть]
Другая бывшая лагерница, столь же критически настроенная в отношении лагерных «мод», писала, что женщинам выдавали «телогрейки, ватные гольфы до колен и лапти. Мы стали выглядеть как пугала. У нас почти не осталось своей одежды – все было продано уголовницам, точнее, обменяно на хлеб. Шелковые чулки и шарфы вызвали такой восторг, что пришлось их продать – отказаться было опасно».[527]527
Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
[Закрыть]
Поскольку рваная одежда воспринималась как унижение, многие тратили большие усилия на ее починку. Одна бывшая заключенная вспоминала, что поначалу не очень переживала из-за старой, изорванной одежды, но позднее «поддалась общей, неистребимой потребности женщин прихорашиваться» и стала зашивать дыры, делать карманы и т. д. Это помогало сохранить достоинство.[528]528
Улановская Н., Улановская М., с 356.
[Закрыть] Женщины, хорошо умевшие шить, обычно могли заработать себе на добавочную еду, поскольку даже небольшие усовершенствования в стандартной одежде ценились высоко: способность чем-то отличаться, выглядеть хоть ненамного лучше других ассоциировалась, как мы увидим, с более высоким положением, лучшим здоровьем, привилегированностью. Варлам Шаламов хорошо понимал значение этих мелких различий: «Нательное белье в лагере бывает „индивидуальное“ и „общее“. Это – казенные, официально принятые выражения наряду с такими словесными перлами, как „заклопленность“, „завшивленность“ и т. д. Белье „индивидуальное“ – это белье поновей и получше, которое берегут для лагерной обслуги, десятников из заключенных и тому подобных привилегированных лиц. <…> Белье же „общее“ есть общее белье. Его раздают тут же, в бане, после мытья, взамен грязного, собираемого и пересчитываемого, впрочем, отдельно и заранее. Ни о каких выборах по росту не может быть и речи. Чистое белье – чистая лотерея, и странно и до слез больно было мне видеть взрослых людей, плакавших от обиды при получении истлевшего чистого взамен крепкого грязного. Ничто не может человека заставить отойти от тех неприятностей, которые и составляют жизнь».[529]529
Шаламов, «Колымские рассказы», кн. 1, с. 504. Шаламов, «Колымские рассказы», кн. 1, с. 504.
[Закрыть]
Мытье, бритье и раздача зэковской одежды были, при всем их шокирующем воздействии, только первым этапом длительной «инициации». Затем сразу же начиналось распределение будущих работников по категориям. Эта сортировка решала в жизни лагерников очень многое. От нее зависело все: статус заключенного в лагере, барак, в котором он жил, работа, которую он выполнял. Это, в свою очередь, нередко определяло, останется он в живых или нет.
Должна сказать, что я не нашла в мемуарах указаний на сортировку, подобную той, что практиковалась в нацистских лагерях смерти. Иными словами – на сортировку, после которой более слабых отводили в сторону и расстреливали. Зверства при приемке новых партий заключенных, безусловно, случались (об одном эпизоде рассказывает переживший его бывший соловчанин),[530]530
Ширяев, с. 31–37
[Закрыть] но обычная практика, по крайней мере в конце 30-х и начале 40-х годов, была иной. Ослабевших не везли в какой-нибудь дальний лагпункт на расстрел, а помещали на «карантин», во-первых, чтобы оградить других от возможных инфекций, во-вторых, чтобы люди, перенесшие тюрьму и мучительный переезд, могли подкормиться. Лагерное начальство, судя по всему, относилось к этому правилу серьезно, что подтверждается как архивными документами, так и воспоминаниями бывших заключенных.
Александру Вайсбергу, к примеру, прежде чем послать его на общие работы, предоставили еду и отдых.[531]531
Weissberg, с. 92.
[Закрыть] После долгого этапа в Ухтижемлаг польский социалист Ежи Гликсман, которому в свое время так понравился московский спектакль по «Аристократам» Погодина, получил трехдневный отдых, во время которого с ним и другими новоприбывшими обращались как с «гостями».[532]532
Gliksman, c. 240
[Закрыть] Петр Якир, сын советского генерала, прошел двухнедельный карантин в Севураллаге. Для Евгении Гинзбург, которая прибыла в Магадан тяжело больной, первые дни в столице Колымы «слились в сплошной клубок беспамятства, боли, провалов в черноту небытия». Ее, как и других, прямо с парохода «Джурма» отправили в лагерную больницу, где за два месяца она полностью поправила здоровье. Некоторые были настроены скептически. «– Телец на заклание, – желчно шутила Лиза Шевелева, на воле личный секретарь Стасовой, – кому только нужна эта поправка? Выйдете отсюда – сразу на общие. За неделю опять превратитесь в тот же труп, что были на „Джурме“…»[533]533
Е.Гинзбург, т. 1, с. 244–247.
[Закрыть]
Поправившись (если им давали такую возможность) и одевшись по-лагерному, заключенные проходили сортировку. По идее это была в большой мере регламентированная процедура. Еще в 1930 году было издано «Положение об ИТЛ», которое содержало очень строгие и подробные правила, касающиеся классификации заключенных. Теоретически характер их работы определялся двумя группами критериев: «социальным положением» и приговором, с одной стороны, и здоровьем – с другой. В тот ранний период арестантов разбивали на три категории: заключенные «из трудящихся», не замешанные в контрреволюционных преступлениях и приговоренные не более чем к пяти годам; заключенные «из трудящихся», не замешанные в контрреволюционных преступлениях и приговоренные более чем к пяти годам; «нетрудовые элементы и лица, осужденные за контрреволюционные преступления».
Заключенному каждой из трех категорий назначался тот или иной режим содержания – первоначальный (самый суровый), облегченный или льготный. Кроме того, они проходили медицинское освидетельствование. По его результатам, а также в зависимости от категории и режима лагерная администрация направляла человека на ту или иную работу. В соответствии с ее характером и в зависимости от выполнения нормы ему назначался один из четырех продовольственных пайков – основной, трудовой, усиленный или штрафной.[534]534
«ГУЛАГ: Главное управление лагерей», с.65–72.
[Закрыть] Эти подразделения многократно менялись. Например, в 1941 году, согласно приказу народного комиссара внутренних дел, заключенные подразделялись на годных к физическому труду, годных к работе по своей специальности и годных к легкому физическому труду. За числом заключенных в разных категориях Москва постоянно следила, и начальство лагерей, где оказывалось слишком много «слабосилки», получало взыскания.[535]535
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 97.
[Закрыть]
Реальный процесс был далек от упорядоченности. У него были формальные стороны, определявшиеся лагерными начальниками, и неформальные: заключенные шли на ухищрения, заключали друг с другом сделки. Со многими во время этой первой лагерной сортировки обращались довольно грубо. Молодой венгр Дердь Бин, взятый в Будапеште в конце Второй мировой войны, сравнил сортировку, которую он прошел в 1946-м, с торговлей рабами: «Всем приказали выйти во двор и раздеться. Когда заключенного вызывали по фамилии, он представал перед медицинской комиссией для обследования, которое состояло в оттягивании кожи на ягодицах, – так определяли объем мускулатуры. По мышцам судили о том, на что человек годен, и если его брали, его документы откладывали в особую стопку. Этим занимались женщины в белых халатах, но выбор у них был маленький – сплошь ходячие мертвецы. Поэтому выбирали молодых – независимо от мускулатуры».[536]536
Bien, неопубликованные записки.
[Закрыть]
О «рынке рабов» говорит и Ежи Гликсман. Он описывает сортировку в котласском пересыльном лагере, откуда зэков отправляли в лагеря к северу от Архангельска. Охранники разбудили заключенных среди ночи и велели всем, даже серьезно больным, собраться утром с вещами. Людей повели из лагеря через лес. Через час пришли на большую поляну, где их построили по шестнадцати человек в ряд. Заключенные провели на поляне целый день: «В течение всего дня появлялись незнакомые сотрудники в форме и в штатском. Они ходили среди заключенных, некоторым приказывали снять фуфайку, щупали руки, ноги, осматривали ладони, приказывали нагнуться. Иногда требовали, чтобы человек открыл рот, и смотрели на его зубы, как лошадники на ярмарке. <…> Некоторые искали инженеров, квалифицированных слесарей, токарей; другим требовались плотники; и всем нужны были физически сильные мужчины для работы на лесоповале, в сельхозах, на угольных шахтах и нефтяных скважинах».
Главной заботой лагерного начальства было, понял Гликсман, «не набрать ненароком калек, инвалидов, больных – словом, дармоедов. Вот почему время от времени посылались специальные агенты за подходящим человеческим материалом».[537]537
Gliksman, с. 218–221.
[Закрыть]
С самого начала, кроме того, было ясно, что правила сортировки порой можно и нужно нарушать. В 1947 году в Темниковском лагере Нина Гаген-Торн прошла через крайне унизительную процедуру, которая, однако, кончилась для нее хорошо. По приезде в лагерь женщин немедленно повели в баню. Их одежду отправили в прожарку, а их самих, мокрых и голых, выстроили в предбаннике якобы для «саносмотра». Но осматривали их, помимо врача, нарядчик и начальник режима: «Майор идет вдоль строя, быстро осматривая тела. Отбирает товар – на производство, в швейную! В сельхоз! В зоне! В больницу! Нарядчик записывает фамилии. <…> Я, после первого тура, была посредственным товаром, почти не стоившим внимания.
– Фамилия? – проходя, спросил нарядчик.
– Гаген-Торн.
Черные глаза майора пристальнее остановились.
– К профессору Гаген-Торну какое отношение? – спросил он.
– Дочь.
– Положите в больницу, у нее чесотка: красная сыпь по животу».
Поскольку чесотки у Нины Гаген-Торн не было, она предположила (догадка, как потом выяснилось, была верна), что майор знал ее отца, восхищался им и теперь решил дать ей отдохнуть.
Поведение заключенного во время сортировки, непосредственно после нее и вообще в первые дни лагерной жизни могло иметь для него очень большое значение. Например, польский писатель Густав Герлинг-Грудзинский в первые три дня в Каргопольлаге оценил свое положение и «продал урке из бригады грузчиков офицерские сапоги за сносную цену – 900 грамм хлеба». В благодарность урка использовал свои связи в лагерной администрации и помог Герлингу-Грудзинскому стать грузчиком на продовольственной базе. Это тяжелая работа, сказали ему, но зато «можно что-то съедобное украсть» (так и оказалось). И он сразу получил «привилегию». Начальство велело ему «явиться на склад за бушлатом, ушанкой, ватными штанами, рукавицами и валенками „первого срока“ (т. е. новыми или чуть поношенными) – за полным комплектом одежды, который положен только ударным бригадам».[538]538
Герлинг-Грудзинский, с. 40.
[Закрыть]
Люди обделывали свои дела разными способами. Попав в Ухтижемлаг, Гликсман сразу понял, что статус «специалиста», который он получил на котласской пересылке (его записали как квалифицированного экономиста), в лагере не имеет никакого значения. Между тем он заметил, что в первые лагерные дни его более смекалистые русские знакомые постарались использовать личные связи: «Большинство „специалистов“ употребили три свободных дня на посещение разных административных подразделений лагеря, где они выискивали старых знакомых и вели подозрительные переговоры с начальством и вольнонаемными работниками. Все были возбуждены и озабочены. У каждого были свои секреты, и каждый боялся, как бы кто-нибудь не испортил ему игру, перехватив более легкую или выгодную должность. Большинство очень быстро сообразило, куда идти, к кому обращаться и что говорить».
В результате квалифицированного польского врача отправили на лесоповал, а бывший сутенер устроился счетоводом, «не имея ни малейшего понятия о бухгалтерии и будучи к тому же малограмотным».[539]539
Gliksman, с. 246–248.
[Закрыть]
Заключенные, которые избежали таким образом тяжелой физической работы, добились этого благодаря тому, что успели выработать начатки стратегии выживания – но только начатки. Теперь им предстояло усвоить особые правила повседневной лагерной жизни.