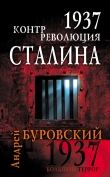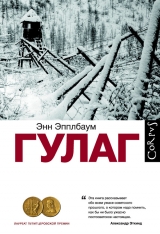
Текст книги "ГУЛАГ. Паутина Большого террора"
Автор книги: Энн Эпплбаум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава 18
Бунт и побег
Если бы я услышал лай упряжных собак, означающий, что началось патрулирование, мне, думаю, физически стало бы плохо. Мы пробежали несколько шагов к наружному заграждению. <…>
Шума мы, скорее всего, производили немного, но каждый звук казался оглушительным. <…> Последним отчаянным рывком мы влезли на внешний забор из колючей проволоки, спрыгнули, вскочили на ноги, огляделись, затаив дыхание, и дружно бросились бежать.
Славомир Равич. Долгий путь
Среди многих мифов о ГУЛАГе одним из главных представляется миф о невозможности побега. Побеги из сталинских лагерей, пишет Солженицын, «были затеями великанов, но великанов обреченных».[1074]1074
Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть пятая, гл. 4 (мал. собр. соч., т. 7, с. 70–71).
[Закрыть] Анатолий Жигулин утверждает: «Побег с Колымы невозможен».[1075]1075
Жигулин, с. 192.
[Закрыть] Варлам Шаламов с характерной для него суровостью пишет, что почти всегда беглецы – это «новички-первогодки, в чьем сердце еще не убита воля, самолюбие и чей рассудок еще не разобрался в условиях Крайнего Севера».[1076]1076
Шаламов, «Колымские рассказы», кн. 1, с. 514.
[Закрыть] Бывший заместитель начальника Норильского гарнизона Николай Абакумов категорически отверг возможность успешного побега: «Из лагерей некоторые убегали, но до материка не добрался никто».[1077]1077
MacQueen.
[Закрыть]
Об одном неудачном побеге рассказал Густав Герлинг-Грудзинский. После длительной подготовки арестант ушел во время рабочего дня, не замеченный охраной. Проблуждав несколько дней в морозном лесу, он, голодный, в полубессознательном состоянии пришел в деревню, находившуюся всего километрах в пятнадцати от лагеря. Жители вернули его в лагерь. «Свобода не для нас, – всегда заканчивал он потом в бараке свой рассказ о побеге. – Мы на всю жизнь прикованы к лагерю, хоть и не носим цепей. Мы можем пробовать, блуждать, но в конце концов возвращаемся».[1078]1078
Герлинг-Грудзинский, с. 133–139.
[Закрыть]
Лагеря, разумеется, строились с тем расчетом, чтобы бежать из них было трудно; для этого служили заграждения, колючая проволока, караульные вышки и прочесываемая граблями запретная зона. Но во многих лагерях колючая проволока была почти что и не нужна. Против беглецов работали климат – десять месяцев в году температура ниже нуля – и географический фактор, который невозможно оценить в полной мере, пока сам не побываешь на месте какого-нибудь отдаленного северного лагеря.
Например, заполярную Воркуту – город, построенный около угольных шахт Воркутлага, – с полным правом можно назвать городом практически недоступным. Туда не ведет ни одна автомобильная дорога, до города и шахт можно добраться только поездом или самолетом. Зимой всякий идущий по безлесной тундре представляет собой очень удобную мишень. Летом здесь непроходимое болото, которое просматривается не хуже, чем зимой.
В лагерях, расположенных южнее, расстояния тоже были проблемой для беглецов. Если даже зэк перелезал через «колючку» или убегал из рабочей зоны (невнимательность конвоя порой делала эту задачу не такой уж трудной), он оказывался вдалеке от дорог и населенных пунктов. Не было еды, не было укрытия, иногда негде было достать воду.
Что еще важнее, повсюду были часовые и патрули. Весь колымский регион – многие тысячи квадратных километров тайги – фактически был одним огромным лагерем, как и вся республика Коми, немалая часть казахских степей и север Сибири. В таких местах было мало обычных деревень с обычными жителями. Одинокого человека без надлежащих документов не могли принять за кого-либо иного, кроме как за беглого заключенного, и его либо расстреливали на месте, либо избивали и возвращали в лагерь. Один заключенный решил поэтому не присоединяться к группе, готовившей побег: «Куда я пойду без документов и денег, когда кругом лагеря, посты и патрули?».[1079]1079
Petrov, с. 104–107.
[Закрыть]
От местных жителей, не имеющих отношения к лагерям, беглому зэку, встреть он их даже, ожидать помощи было трудно. В царские времена в Сибири люди традиционно сочувствовали беглецам. На ночь крестьяне выставляли для них на завалинку хлеб и молоко. Как пелось в старинной песне каторжан,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
В сталинском СССР все было иначе. Беглого «врага народа», и уж тем более беглого уголовника-рецидивиста, скорее всего, сдали бы властям – не только потому, что люди верили или наполовину верили официальной пропаганде насчет заключенных, но и потому, что за укрывательство беглеца можно было самому получить большой срок.[1080]1080
Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть пятая, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 7, с. 136–137).
[Закрыть] В параноидальной атмосфере тех лет достаточно было того, что люди испытывали общий, неспецифический страх: «Что касается местного населения, то никто спасать или прятать, как спасали и прятали беглецов из немецких концлагерей жители западных стран, не стал бы. Потому что много лет все жили в постоянном страхе и подозрительности, с часу на час ждали какую-то беду, даже друг друга боялись <…> В местности, где от мала до велика болели шпиономанией, на успех побега рассчитывать было бесполезно».[1081]1081
А. Морозов, с. 187.
[Закрыть]
Помимо идеологии и страха, действовала жадность. Справедливо или нет, многие мемуаристы высказывают мнение, что местные жители – якуты на севере, казахи на юге – зачастую рады были поймать беглеца, рассчитывая на награду. Некоторые становились профессиональными охотниками на заключенных, за которых можно было получить кило чая или мешок муки.[1082]1082
Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть пятая, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 7, с. 136–137).
[Закрыть] На Колыме лагерным начальством однажды было объявлено, что за правую руку застреленного беглеца любому местному жителю заплатят 250 рублей. По другим сведениям, доказательством пресечения побега служила отрезанная голова убитого зэка. Сообщения о денежных наградах сохранились в архивах.[1083]1083
Кусургашев, с. 34–36; Росси, «Справочник по ГУЛАГу», с. 193.
[Закрыть] Согласно одному документу, рыбак, опознавший в неизвестном человеке разыскиваемого заключенного, получил 250 рублей, его сын, которого он послал сообщить оперстрелку, – 150 рублей. В другом случае сцепщик поездов получил за беглеца целых 300 рублей.[1084]1084
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 552 и 64.
[Закрыть]
Пойманных наказывали чрезвычайно жестоко. Многих расстреливали на месте. Трупы беглецов служили пропагандистским целям: «Когда мы приблизились к воротам, мне на секунду показалось, что я вижу кошмарный сон: на столбе висел голый труп. Руки и ноги обмотаны проволокой, голова свисает на сторону, остекленелые глаза полуоткрыты. Над головой фанера с надписью: „Так будет с каждым, кто попробует бежать из Норильска“».
Жигулин пишет, что на Колыме тела беглецов иной раз лежали у проходной много дней. Эта практика, восходящая к Соловкам, стала к 40-м годам почти повсеместной.[1085]1085
Росси, «Справочник по ГУЛАГу», с. 370.
[Закрыть]
И все же зэки уходили в побег. Судя по гулаговской статистике и по недовольной переписке начальства на эту тему, сохранившейся в архивах, попыток – удачных и неудачных – было больше, чем думало большинство мемуаристов. Имеются, к примеру, приказы о наказаниях за допущенные побеги. В 1945 году после нескольких групповых побегов при этапировании заключенных из «ИТЛ строительства НКВД № 500» (строилась железная дорога в Восточной Сибири) виновные в них офицеры ВОХР были посажены под арест на пять-десять суток с удержанием 50 процентов суточной зарплаты за каждый день ареста. В других случаях после громких побегов охранников отдавали под суд, начальников лагпунктов снимали с должности.[1086]1086
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 185.
[Закрыть]
Сохранились сведения и о поощрениях охранникам, предотвратившим побег. Дежурного, который принял решительные меры после того, как группа заключенных, задушив надзирателя, попыталась бежать, наградили 300 рублями. Начальник караула и дежурный по штабу получили по 200 рублей, четыре красноармейца – по 100 рублей.[1087]1087
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 7.
[Закрыть]
Ни один лагерь не исключал побега полностью. Считалось, например, что из Соловецкого лагеря из-за отдаленности его расположения бежать невозможно. Но в мае 1925 года двум бывшим белогвардейцам – С. Мальсагову и Ю. Безсонову – удался побег из одного из материковых подразделений СЛОН. Напав на охранников и разоружив их, они затем тридцать пять дней шли к финской границе. Оба впоследствии написали книги о своих приключениях, которые принадлежат к числу первых публикаций о Соловках на Западе.[1088]1088
Мальсагов.
[Закрыть] Другой известный побег с Соловков произошел в 1928-м, когда лагерь покинуло сразу несколько заключенных. Все они впоследствии были задержаны.[1089]1089
В. В. Иофе, «Соловки. Большой побег 1928 года». Труды Морской арктической комплексной экспедиции. Вып. IX: Соловецкие острова, т. 2: Остров Большая Муксалма. М., 1996, с. 215–216.
[Закрыть] Два эффектных побега (тоже с Соловков) датируются 1934 годом. Первый совершило четверо «шпионов», второй – «один шпион и двое бандитов». Обе группы бежали на лодках, стремясь, судя по всему, добраться до Финляндии. В результате один из лагерных начальников был снят с работы, другие получили выговоры.
В конце 20-х годов, когда подразделения СЛОН стали создаваться на материке (в Карелии), возможностей для побега стало больше, чем не преминул воспользоваться Владимир Чернавин. До ареста он работал в мурманском «Севгосрыбтресте» и вопреки абсурдно завышенному пятилетнему плану храбро отстаивал реалистический подход к делу, в результате чего был обвинен во «вредительстве» и отправлен на пять лет в Соловецкий лагерь. С определенного момента он работал ихтиологом в рыбопромышленном отделении СЛОН в Кеми и совершал длительные поездки без конвоя по северной Карелии для организации новых рыбных промыслов.
Чернавин не торопился. За долгие месяцы он завоевал доверие начальства, и оно разрешило ему десятидневное свидание с женой и четырнадцатилетним сыном. Они приехали летом 1933-го, и однажды все вместе отправились на «экскурсию» на карбасе по местным морским бухтам. Потом причалили и отправились к финской границе пешком. «Я бежал с каторги, рискуя жизнью жены и сына. Без оружия, без теплой одежды, в ужасной обуви, почти без пищи. Мы пересекли морской залив в дырявой лодке, заплатанной моими руками. Прошли сотни верст. Без компаса и карты, далеко за полярным кругом, дикими горами, лесами и страшными болотами», – писал Чернавин.[1090]1090
Чернавин, с. 6.
[Закрыть] Десятилетия спустя его сын вспоминал, что отец надеялся своей книгой о пережитом изменить взгляд мировой общественности на Советский Союз. Книгу он написал. Взгляд на СССР не изменился.[1091]1091
«ГУЛАГ», документальный фильм ВВС, продюсер – Ангус Маккуин, 1998 г.
[Закрыть]
Судя по всему, история Чернавина не единична: первый период ГУЛАГа, период его бурного расширения, поистине можно назвать золотым веком беглецов. Количество заключенных стремительно росло, количество охранников за ним не поспевало, и к тому же лагеря располагались сравнительно близко от Финляндии. В 1930 году на финской границе было задержано 1174 нарушителя, а в 1932-м – уже 7202. Можно предположить, что число успешных побегов возросло в той же пропорции. Согласно статистике ГУЛАГа (хотя за полную ее достоверность, конечно, ручаться нельзя), в 1933 году из лагерей бежало 45 755 человек, из которых поймано было только чуть больше половины – 28 370.[1092]1092
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 5.
[Закрыть] Отмечалось, что беглые заключенные терроризируют местное население, и начальники лагерей, пограничники и местные органы ОГПУ постоянно посылали запросы о подкреплении.
ОГПУ ужесточило контроль. В этот период к пресечению побегов стали активно подключать местное население: один приказ ОГПУ предписывал «организовать в 25—30-километровой полосе (прилегающей к лагерям) актив из местного населения для борьбы с побегами», а также «обеспечить выявление и задержание бежавших заключенных на железнодорожном и водном транспорте». Был, кроме того, издан приказ, запрещавший открывать камеры для вывода заключенных после вечерней поверки. Местные начальники настойчиво просили усилить надзор за лагерями. Законом было увеличено наказание за побег. За убийство беглецов были установлены премии.[1093]1093
Росси, «Справочник по ГУЛАГу», с. 286.
[Закрыть]
Тем не менее количество побегов снижалось медленно. В 30-е годы на Колыме груповые побеги были все еще довольно частым явлением. Уголовники «организовывались в банды, а овладев оружием, нападали на вольнонаемных дальстроевцев, геологические партии, коренных жителей Колымы». В 1936 году там «изъяли 22 банды», и для предупреждения побегов «особо опасный элемент» перевели в специально созданное лагерное подразделение на 1500 человек.[1094]1094
Козлов, «Севвостлаг НКВД СССР», с. 81.
[Закрыть] В январе 1938-го, в разгар Большого террора, один из заместителей народного комиссара внутренних дел разослал по всем лагерям приказ, констатирующий, что, «несмотря на целый ряд приказов о решительной борьбе с побегами заключенных из лагерей, <…> серьезного перелома в этом отношении нет».[1095]1095
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 20.
[Закрыть]
В первый период после вступления СССР во Вторую мировую войну количество побегов вновь резко подскочило: передислокация лагерей из прифронтовой полосы в тыл и общая неразбериха создавали для этого дополнительные возможности.[1096]1096
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 128; Кучин, «Полянский ИТЛ», с. 148.
[Закрыть] В июле 1941-го из Печорлага, одного из самых отдаленных лагерей Коми АССР, бежало пятнадцать человек. В августе того же года из Воркутлага бежало восемь краснофлотцев, возглавляемых бывшим старшим лейтенантом Северного флота.
На более позднем этапе войны число побегов уменьшилось, но они не прекратились. В 1947 году, когда было больше всего побегов за весь послевоенный период, попытку совершили 10 440 заключенных, из которых поймали только 2894.[1097]1097
ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2632; Кучин, «Полянский ИТЛ», с. 148.
[Закрыть] Это, конечно, очень малая доля от тех миллионов, что находились тогда в лагерях, и все же приведенные цифры говорят, что побег, вопреки сложившемуся у многих мнению, был возможен. Не исключено даже, что частота побегов была одной из причин ужесточения лагерного режима и усиления охраны в последние пять лет существования сталинского ГУЛАГа.
Мемуаристы сходятся на том, что подавляющее большинство беглецов составляли уголовники. На блатном жаргоне о побеге в теплое время года говорили так: «Придет весна, и меня освободит зеленый прокурор». Шаламов пишет: «Путешествие по тайге возможно только летом, когда можно, если продукты кончатся, есть траву, грибы, ягоды, корни растений, печь лепешки из растертого в муку ягеля – оленьего мха, ловить мышей-полевок, бурундуков, белок, кедровок, зайцев…».[1098]1098
Шаламов, «Колымские рассказы», кн. 1, с. 513; Росси, «Справочник по ГУЛАГу», с. 314.
[Закрыть] В заполярной тундре, однако, почти невозможно было передвигаться, пока не замерзали болота и воздух был наполнен гнусом и мошкарой. Люди там надеялись на «белого прокурора».
Урки имели при побеге гораздо лучшие шансы, чем политические. Если вору удавалось добраться до крупного города, он мог влиться в местный преступный мир, подделать документы и найти себе убежище. Нередко блатные вовсе даже не стремились всерьез вернуться в «свободный» мир – просто хотели погулять немного «на воле». Если беглого вора ловили и он оставался после этого в живых, что значили еще десять лет для человека, у которого уже было два двадцатипятилетних срока? Один бывший зэк вспоминал про блатнячку, бежавшую всего-навсего ради свидания с мужчиной. Вернулась она полная восторга, хотя ее немедленно отправили в штрафной изолятор.[1099]1099
Львов, неопубликованные записки.
[Закрыть]
Политические убегали гораздо реже. Дело не только в том, что им недоставало связей и опыта, но и в том, что их усердней искали и преследовали. Чернавин, который много думал об этом прежде чем решиться на побег, объясняет разницу так: «Охрана особенно и не старается преследовать уголовных, все равно они или сами находятся, когда выйдут на железную дорогу, или доедут до города и там будут выловлены. За бежавшими каэрами всегда наряжается погоня, иногда мобилизуются ближайшие села, в преследовании всегда принимает участие пограничная стража. Каэр почти всегда пытается бежать за границу, потому что на родине скрыться ему негде».
Большую часть беглецов составляли мужчины, но были среди них и женщины. Из лагеря, где находилась Маргарете Бубер-Нойман, бежала вместе с лагерным поваром молодая цыганка. Услыхав об этом, цыганка постарше понимающе кивнула: «Она знает, что где-то поблизости стоит табор. Доберется – значит, спасена».[1100]1100
Buber-Neumann, c. 112.
[Закрыть] Обычно побеги планировались заранее, но иной раз они происходили экспромтом. Солженицын вспоминает случай, когда заключенный перелез через колючую проволоку во время пыльной бури в Казахстане.[1101]1101
Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть пятая, гл. 6 (мал. собр. соч., т. 7, с. 101).
[Закрыть] Чаще (но далеко не всегда) бежали из рабочих зон, которые охранялись хуже. За выбранный наугад месяц (сентябрь 1945-го) 51 процент зафиксированных случаев побега произошли в рабочей зоне, 27 – в жилой зоне, 11 процентов – во время этапирования. Эдуард Бука с группой молодых украинцев задумали побег из вагона поезда, который вез их в Сибирь. Он так описывает этот план: «Моим ножовочным лезвием мы собирались выпилить четыре-пять досок, работая только ночами и маскируя пропилы смесью хлеба и конского дерьма с пола вагона. Когда дыра была бы готова, мы дождались бы остановки в лесу, выбили бы доски, выскочили бы наружу – столько людей, сколько успело бы выскочить, – и разбежались бы в разные стороны, чтобы сбить с толку конвой. Некоторых застрелили бы, но большая часть бы ушла».[1102]1102
Buca, c. 33.
[Закрыть]
От плана пришлось отказаться, потому что охрана заподозрила неладное. Побеги с поездов, однако, случались: к примеру, в мае 1940-го двое заключенных бежали через люки товарных вагонов. В том же году Януш Бардах выскользнул из вагона, выломав гнилые доски. Но на место он их не поставил и поэтому был немедленно пойман: его выследили с собаками, жестоко избили, но в живых оставили.[1103]1103
Bardach, с. 106–121.
[Закрыть]
Некоторые побеги, пишет Солженицын, начинаются «не с рывка и отчаяния, а с технического расчета и золотых рук».[1104]1104
Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть пятая, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 7, c. 141).
[Закрыть] Однажды в товарном вагоне заключенные сделали ложную внутреннюю торцевую стенку; план был – втиснуться за стенку и уехать в вагоне из лагеря.[1105]1105
Солженицын, там же; Юрий Моруков (бывший сотрудник МВД), разговор с автором, ноябрь 1999 г.
[Закрыть] В другой раз двадцать шесть уголовников сделали подкоп под забором, удачно выбрались, но, как утверждал сотрудник «органов», возглавлявший поиск, все до одного были пойманы в течение года.[1106]1106
Моруков, там же.
[Закрыть]
Другие, подобно Чернавину, использовали для побега свое особое положение в лагере. В архиве сохранились сведения о том, как заключенный нарочно вызвал крушение товарного поезда и бежал в возникшей после этого суматохе.[1107]1107
ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 10.
[Закрыть] В другом случае заключенные, которым поручили рыть могилы на лагерном кладбище, убили конвоира и, «зарыв труп в могилу, скрылись». Их исчезновение, как и труп, было обнаружено не сразу.[1108]1108
ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 319.
[Закрыть] Легче было бежать и бесконвойным, имевшим право выходить за зону.
Беглецы пытались маскироваться. Варлам Шаламов рассказывает о беглом заключенном, который провел на свободе два года, путешествуя по Сибири под видом геолога. В Якутске местное «научное начальство», гордясь приездом в город крупного специалиста, чрезвычайно почтительно попросило его прочесть лекцию. «Кривошей улыбался, цитировал по-английски Шекспира, что-то чертил, перечисляя десятки иностранных фамилий». В конце концов его разоблачили: роковую роль сыграло то, что он посылал деньги жене.[1109]1109
Шаламов, «Колымские рассказы», кн. 1, с. 522–527.
[Закрыть] Возможно, это вымышленная история, но в архивах есть сведения о сходных случаях. Один колымский беглец обзавелся документами на чужое имя, вылетел самолетом в Якутск и там устроился в городской гостинице. При задержании у него изъяли 200 граммов золота.[1110]1110
ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 552.
[Закрыть]
Не все побеги были сопряжены с полетом творческой фантазии, но многие – вероятно, большинство, особенно если бежали уголовники, – были сопряжены с насилием. Беглецы нападали на охранников, вольнонаемных работников и местных жителей, стреляли в них, резали, душили. Не щадили и собратьев-лагерников. Один распространенный способ побега предполагал людоедство. Двое заключенных, сговорившись заранее, подбивали бежать с ними третьего («мясо»), которому предстояло стать пищей для первых двух на время пути. Бука описывает суд над профессиональным вором и убийцей, бежавшим вместе с другим вором и с лагерным поваром, который был для них «ходячим провиантом»: «Не им первым пришла в голову такая мысль. Когда огромная масса людей только и мечтает, что о побеге, обсуждаются, само собой, все возможные способы. Желательно, чтобы „ходячий провиант“ был упитанным. Если надо, его можно будет убить и съесть. А до той поры он будет нести свое мясо сам».
Два вора поступили с поваром как было задумано, но они не рассчитали длительность путешествия. Они снова проголодались. «Оба понимали, что тот, кто заснет первым, будет убит. Поэтому оба притворялись, что не устали, и всю ночь рассказывали друг другу байки, пристально наблюдая друг за другом. Старая дружба исключала для них как открытое нападение, так и признание в подозрениях».
Наконец одного сморил сон. Другой перерезал ему горло. Бука пишет, что через два дня его поймали и в мешке у него нашли куски сырого человеческого мяса.[1111]1111
Buca, с. 123–127.
[Закрыть]
Хотя у нас нет возможности узнать, как часто при побегах творилось такое, сходные истории, относящиеся к разным периодам – от начала 30-х до конца 40-х, – рассказывает немало бывших заключенных, и есть основания думать, что людоедство действительно иногда случалось.[1112]1112
Виленский, интервью с автором.
[Закрыть] Томас Сговио слышал на Колыме смертный приговор двоим таким беглецам, которые взяли с собой «малолетку», убили и засолили его мясо.[1113]1113
Sgovio, с. 177.
[Закрыть] Вацлаву Дворжецкому подобную историю рассказали в Карелии в середине 30-х.[1114]1114
Дворжецкий, с. 48.
[Закрыть]
В устных преданиях ГУЛАГа сохранились поистине необычайные рассказы о побегах, многие из которых, возможно, недостоверны. Солженицын подробно пишет о побегах эстонца Георгия Тэнно, политического заключенного, убегавшего из лагерей не раз. В одном случае он, стремясь добраться до Омска, проделал пешком, на лошади и на лодке почти 500 километров. Некоторые из рассказов Тэнно, вероятно, правдивы (позднее он подружился с другим гулаговцем – Александром Долганом, автором лагерных мемуаров, которого Тэнно познакомил с Солженицыным), но истинность иных из них, самых красочных, вызывает определенные сомнения.[1115]1115
Dolgun, с. 338.
[Закрыть] В одном английском сборнике можно прочесть историю эстонского пастора, который, бежав из лагеря, подделал документы и вместе со спутниками перешел афганскую границу. В том же сборнике рассказано об испанце, которому помогло бежать то, что он притворился мертвым после землетрясения, повредившего лагерные постройки. Затем он якобы проник в Иран.[1116]1116
C. A. Smith.
[Закрыть]
И наконец, имеются удивительные мемуары Славомира Равича «Долгий путь», содержащие самое красочное и захватывающее описание побега во всей гулаговской литературе. Равич пишет, что его арестовали после советского вторжения в Польшу и отправили в лагерь на севере Сибири. Оттуда он, по его словам, бежал с молчаливого согласия жены начальника лагеря вместе с шестью другими заключенными, один из которых был американец. Прихватив с собой по дороге молодую депортированную польку, они двинулись к границе СССР.
В течение своего невероятного путешествия (если оно и вправду имело место) они обогнули Байкал, перешли монгольскую границу и через пустыню Гоби, Тибет и Гималаи попали в Индию. Четверо беглецов погибли в пути, остальные перенесли крайние лишения. К сожалению, несколько попыток получить подтверждение этой истории (она отчетливо напоминает рассказ Киплинга «The Man Who Was») успехом не увенчались. «Долгий путь» – великолепно написанная книга независимо от того, правда в ней рассказана или нет. Ее убедительность – хороший урок тем из нас, кто пытается написать основанную на фактах историю побегов из ГУЛАГа.[1117]1117
Вениамин Иофе, один из ведущих российских специалистов по ГУЛАГу и глава «Санкт-Петербургского Мемориала», безуспешно пытался найти в архивах дело Равича. Его сомнения усилились после того, как он вступил с автором (ныне покойным) в переписку. Ответы Равича показались Иофе неубедительными.
[Закрыть]
Ибо фантазирование о побеге играло важную роль в жизни многих заключенных. Даже для того громадного большинства, что никогда не решилось бы на побег, мысль о нем, мечта о нем были важной психологической опорой. Один бывший колымчанин сказал мне, что побег был одной из самых очевидных форм противостояния режиму. Особенно много планов, обсуждений, споров о побегах было в среде молодых зэков мужского пола. Сами эти разговоры были средством борьбы с ощущением бессилия. Герлинг-Грудзинский пишет: «Мы очень часто собирались в одном из бараков и в узком надежном кругу обсуждали детали побега, собирали в одно место найденные во время работы куски металла, старые коробки и осколки стекла, из которых якобы можно было сделать кустарный компас, делились услышанными сведениями об окрестностях, о расстояниях, о климатических условиях и географических особенностях Севера <…>. В царстве вымысла, куда привезли нас с запада сотни товарных эшелонов, всякая попытка зацепиться за свой собственный вымысел обладала чем-то ободряющим. В конце концов, если принадлежность к несуществующей террористической организации может быть преступлением, за которое дают десять лет, то почему бы спиленному гвоздю не стать стрелкой компаса, обломку доски – лыжей, а клочку бумаги, покрытому черточками и точками, – картой?».
В глубине души, считает Герлинг-Грудзинский, все понимали, что эти начинания смешны. Но польза от них была: «Я даже помню кадрового офицера-кавалериста из Белостока, который в период бушующего в лагере голода нашел в себе столько силы воли, чтобы каждый день отрезать от пайки тонкий хлебный ломтик и, высушив над печкой, убирать в мешочек, спрятанный в никому неизвестное место в бараке. Когда через несколько лет мы встретились в армии, в иракской пустыне, я, вспоминая в палатке за бутылкой лагерные времена, дружески пошутил по поводу его „плана“ побега. „Не смейся, – ответил он серьезно, – я пережил лагерь благодаря надежде на побег, пережил „мертвецкую“ благодаря скопленному хлебу. Человек не может жить, не зная, зачем живет“».[1118]1118
Герлинг-Грудзинский, с. 135.
[Закрыть]
Если побег из лагеря большинству уцелевших представлялся делом невозможным, то бунт был немыслим. Карикатурный образ забитого, растоптанного зэка, утратившего человеческий облик и достоинство, отчаянно стремящегося угодить начальству, неспособного не то что создать антисоветскую организацию, но даже подумать плохое о советской власти, появляется во многих мемуарах и, не в последнюю очередь, в книгах двух крупнейших русских авторов, писавших о ГУЛАГе, – Солженицына и Шаламова. Не исключено, что на протяжении большей части истории ГУЛАГа этот образ не был далек от истины. Развитая система стукачества делала заключенных подозрительными друг к другу. Изнурительный подневольный труд и верховенство блатных не давали людям поднять голову, подумать об организованном сопротивлении. Тяжелый и унизительный опыт следствия, тюрьмы, депортации лишали многих желания жить, не говоря уже о желании противостоять начальству. Герлинг-Грудзинский, объявивший в лагере вместе с несколькими другими поляками голодовку, так описывает реакцию на это русских заключенных: «Их не мог не взволновать и по-своему увлечь тот факт, что кто-то осмеливается поднять руку на нерушимые законы неволи, которых до сих пор не затронул ни один порыв бунта; но в то же время действовал инстинктивный, принесенный еще с воли страх нечаянно замешаться в дело, грозящее военным трибуналом. Есть ли уверенность, что на следствии не раскроются разговоры, которые вел бунтовщик в бараке сразу после совершения преступления?».
И опять-таки архивы рисуют несколько иную картину. Документы сообщают о многих мелких лагерных протестах и забастовках. В частности, уголовники, если они хотели чего-либо добиться от начальства, нередко устраивали краткие, лишенные политической подоплеки забастовки и «волынки». Начальство реагировало на это довольно спокойно. Особенно часто такие акты неповиновения малого масштаба происходили в конце 30-х и начале 40-х годов, когда уголовники занимали в лагерях привилегированное положение, что уменьшало их страх перед наказанием и давало им дополнительные организационные возможности.[1119]1119
Иванова, «ГУЛАГ в системе тоталитарного государства», с. 55.
[Закрыть]
Спонтанные протесты уголовников случались и во время длительных железнодорожных этапов на восток, когда заключенных кормили селедкой и почти не давали пить. Чтобы добиться от конвоя воды, поднимали «дикий и оглушительный крик», которого, по словам одного бывшего лагерника, «чекисты боялись как огня <…>. Когда-то воины римских железных легионов плакали от криков древних германцев – такой ужас наводили они на них. И этот же ужас чувствовали садисты из ГУЛАГа…».[1120]1120
Петрус, с. 61.
[Закрыть] Эта традиция существовала и в 80-е годы, когда, согласно воспоминаниям поэта и диссидента Ирины Ратушинской, заключенные в вагоне, недовольные тем, как с ними обращаются, подняли уровень протеста на ступеньку выше:
«– Ребята! Качай!
<…> Зэки начинают раскачивать вагон. Все вместе, в такт, отшатываясь от одной стены клетки к другой. Вагон так набит людьми, что это дает результат почти немедленно. Этак можно запросто свести вагон с рельс, а поезд, соответственно, под откос».[1121]1121
Ратушинская, с. 17–18.
[Закрыть]
Теснота и голод порой доводили людей до своего рода массовой полу организованной истерии. Очевидец пишет: «Около двухсот женщин, словно по команде, мгновенно разделись и совершенно голые выскочили во двор.
В непристойных позах толпились они возле вахты и кричали не своими голосами, рыдали и хохотали, ругались, в страшных конвульсиях и припадках катались по земле, рвали на себе волосы, до крови обдирали лица, снова падали на землю и снова вскакивали на ноги и бежали к воротам:
– А-а-а-а-а-у-гу! – ревела толпа…».
Помимо спонтанных взрывов такого рода, в распоряжении заключенных была голодовка – старинный, традиционный способ протеста, чьи цели и методы были напрямую унаследованы от политзаключенных начала 20-х годов – социал-демократов, анархистов, меньшевиков, которые, в свою очередь, переняли их у политзаключенных царской России. Члены этих партий прибегали к голодовкам и после того, как в 1925-м их перевели с Соловков в другие тюрьмы – «политизоляторы». Один из ведущих эсеров Александр Федодеев неоднократно объявлял в Суздальском политизоляторе голодовки, требуя права на свидания, вплоть до своего расстрела в 1937 году.[1122]1122
«Хотелось бы всех поименно назвать…», с. 87—109; Serge, с. 71.
[Закрыть]
Но и после того, как их из тюрем опять перевели в лагеря, некоторые из них продолжали традицию голодовок. В середине 30-х к голодовкам социалистов стали присоединяться и некоторые подлинные троцкисты. В октябре 1936 года сотни троцкистов, анархистов и других политзаключенных начали в воркутинском лагере голодовку, продолжавшуюся до 13 февраля 1937 года. Эта акция, безусловно, носила политический характер. Голодающие требовали отделения политических от уголовников, восьмичасового рабочего дня, политпайка вне зависимости от характера работы. В другом подразделении воркутинского лагеря произошла еще одна крупная забастовка, к которой присоединилось некоторое количество урок. В марте 1937-го начальство пообещало голодающим удовлетворить их требования, но к концу 1938-го большинство их было расстреляно в ходе массовых казней того года.[1123]1123
Полещиков, с. 65–73; Иофе, с. 122–130; Росси, «Справочник по ГУЛАГу», с. 117–118; Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть третья, гл. 10 (мал. собр. соч., т. 6, с. 202–203).
[Закрыть]
Примерно в то же время другая группа троцкистов подняла протест в пересыльном лагере Владивостока, ожидая отправки на Колыму. Троцкисты провели в лагере организационные собрания и избрали старостат. Они потребовали осмотра парохода, на котором их собирались везти, но получили отказ. Поднявшись на борт, они стали петь революционные песни и даже, если верить сообщениям осведомителей НКВД, развернули плакаты с лозунгами: «Долой Сталина», «Да здравствует Л. Д. Троцкий, гениальный революционер!» Прибыв в Магадан, троцкисты вновь стали выдвигать требования: содержание на Колыме на правах ссыльных, работа по специальности, оплата труда по общетарифной сетке, совместное проживание супругов, свобода переписки с материком. Они провели ряд голодовок, одна из которых длилась 100 дней. Современник писал: «…руководство заключенных на Колыме троцкистов ушло от действительности, игнорировало реальное соотношение сил». В октябре 1937 года все они были расстреляны.[1124]1124
«Хотелось бы всех поименно назвать…», с. 109–134; М. Байтальский, «Троцкисты на Колыме», в альманахе «Минувшее», т. 2, 1990, с. 346–357.
[Закрыть] Но их страдания не прошли незамеченными. Годы спустя бывший колымский следователь вспоминал: «…все, что произошло потом, произвело на меня и моих товарищей такое сильное впечатление, что несколько дней лично я ходил словно в тумане и передо мной проходила вереница осужденных троцкистских фанатиков, бесстрашно уходивших из жизни со своими лозунгами на устах».[1125]1125
«Сопротивление в ГУЛАГе», с. 158.
[Закрыть]