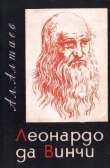Текст книги "Флорентийский волшебник"
Автор книги: Эндре Мурани-Ковач
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Эта незначительная на первый взгляд деталь, как позднее убедился Леонардо, многое раскрывала из характера Цецилии Галлерани. Порою казалось удивительным, что крайне педантичная в мелочах Цецилия обладает такой широтой взглядов, так ценит великое и прекрасное. Простота же и непосредственность Цецилии Галлерани обезоруживали всякого, кто даже самое короткое время находился в ее обществе.
К Леонардо она была расположена, отлично помня то неотразимое впечатление, какое произвел он на нее и на герцога и на всех присутствовавших при своем первом волшебном появлении на сцене. Словно оберегая себя от колдовства, Цецилия не желала больше подпадать под чары того видения и тех сказочных звуков. Она даже не подозревала, какое облегчение приносило флорентийскому художнику то обстоятельство, что она никогда больше не просила его петь или играть ни ей самой, ни ее друзьям.
– Пусть так неизменно сохранится в памяти тот удивительный вечер, – сказала она как-то, сидя рядом со своим сиятельным покровителем. При этом ее миндалевидные темные глаза покосились на Леонардо.
К просьбам Цецилии отказаться от Леонардо как исполнителя песен синьор Лодовико относился со скрытым раздражением, считая это женским капризом. Влюбленный в музыку, он желал часто слушать замечательного создателя и повелителя «поющего конского черепа».
Он и в мыслях не имел отказать себе в таком удовольствии, однако в присутствии Цецилии делал вид, что охотно исполняет ее волю. Таким образом, между правителем Милана и художником создалось нечто вроде сообщничества.
– Никто не должен знать об этом, – шептал Лодовико Моро. – А то еще скажут ей…
Он велел запереть все двери. Будто собираясь обсудить с мессером Леонардо самые сокровенные государственные тайны, он задернул на окнах тяжелые портьеры, даже из смежных помещений удалил всех придворных слуг, стоящих у дверей стражников. Художнику же было велено принести под плащом лиру и играть на ней, но так тихо, чтобы звуки не просочились из залы. Иногда синьор Лодовико просил Леонардо петь, но в целях предосторожности петь тоже pianissimo.
В такие минуты не Леонардо, а синьор Лодовико походил на художника или скульптора, изучающего натурщика – проницательный взгляд герцога был устремлен на светловолосую голову певца, казалось, ни одна черточка на лице юноши не осталась герцогом неизученной. И Леонардо все больше убеждался в том, что синьор Лодовико старается угадать его тайну.
А тайна была. И не одна. Как между герцогом и художником, так и между возлюбленной герцога и художником.
Цецилия Галлерани готовила своему покровителю сюрприз: свой портрет. Герцог не должен был об этом даже подозревать, пока картина не будет готова.
– Как вы думаете, возможно это? – спрашивала она шепотом у Леонардо.
– Разве взять, да по волшебству, незримо, перенести сюда доску, ящик с красками, сосуды с растворителями и все прочее, – смеялся Леонардо. – Ну-ка, где ваша волшебная палочка? Нет? Что ж, стало быть, написать с вас втайне портрет здесь, в вашем дворце, невозможно. А что, если бы вы соизволили явиться ко мне в мастерскую? Нет, опять же нельзя: мастерская-то не моя… И из тайны снова ничего не выйдет. Вот что! У меня есть идея. Я попытаюсь срисовать вас. Незаметно. Несколько набросков, пара рисунков углем – а там я смогу дома написать портрет маслом… пожалуй…
– Блестящая идея! – воскликнула Цецилия, хлопнув в ладоши и подняв на Леонардо благодарный взгляд.
Леонардо трижды рисовал ее тайком. Но возвращаясь затем в мастерскую, напрасно пытался писать портрет на основе этих рисунков. Раз двадцать приступал он к работе. И столько же раз бросал ее.
– Не идет, – недовольно сообщил он, наконец, заказчице. – Не могу я так, заочно, придать эту вот живость… Писать нужно только с натуры. Если это невозможно…
Цецилия Галлерани покачала головой и с мягкой насмешкой скривила губы.
Но эта ирония не только не задела Леонардо – наоборот, он еще больше залюбовался своей необычной заказчицей, огонь миндалевидных глаз которой уже успел проникнуть в его сердце.
И теперь, когда он на пути к Милану покачивался в седле тощей, взятой напрокат клячи, сквозь листву придорожных каштанов вместе с последними лучами солнца снова сверкнули те карие глаза. Он тут же явственно представил ее лицо, стан, всю Цецилию. Но только не такой, какой видел ее в кругу друзей или рядом с синьором Лодовико. Леонардо не мог дать себе отчета, почему его воображение рисовало подле нее маленького Леонардо, не виденного им крестного сына. И тотчас же перед ним возникла картина, она выросла и расцвела из схемы алтарного образа. Да, именно он, воображаемый ангел, будет смотреть на зрителя своими миндалевидными глазами, ангел будет указывать на маленького Иоанна своим удивительным пальцем. Так, как делает она.
Леонардо пришпорил лошадь. Она перешла на галоп.
Наконец и Милан. Леонардо спешился. Он с нетерпением ожидал той минуты, когда возьмет в руку кисть и встанет перед эскизом алтарного образа.
Как ни бесконечной казалась Леонардо, обуреваемому творческим огнем, эта поездка, все же она окончилась. И вот он стоит перед мольбертом. Зародившийся в его воображении образ был по-прежнему ярким. Леонардо не стал сейчас касаться сырых набросков фигур, даже не стал их рассматривать. Он самозабвенно принялся писать чуть склонившего набок голову, изящным жестом указывающего вперед ангела, облекая его плечи в затканный серебром брокат, а руки – в легкую, прозрачную ткань.
Несколько дней увлеченно работал он над картиной. Работал с тем азартом, который даруется только вдохновением. Его новый друг Амброджо де Предис с крайним недоумением следил за ним. Его пугало поведение Леонардо. Ему чудились в нем даже признаки помешательства, когда тот порою по целому часу мог неподвижно стоять, впиваясь взглядом в почти пустую доску, затем, теряя грань между днем и ночью, в исступлении писать картину. И все же быть не может, что это помешательство… Ведь, работая, Леонардо любезно улыбается ему, балагурит с ним, сыплет прибаутками. Его ретивый помощник, этот флорентинец Томмазо, словно завороженный, ни на шаг не отходит от него, разве только Леонардо сам попросит его о чем-нибудь. Но и в эти минуты верный Томмазо так шустро принимается растирать краски или промывать кисти, как будто от быстроты выполнения этих работ зависит его жизнь.
С каждым мазком кисти явственней, совершенней, прекрасней становился окутанный шелками ангел. Амброджо де Предис не видел в своей жизни ничего подобного. Когда лицо это спустя пять-шесть дней окончательно ожило каждой своей черточкой, он, пораженный, воскликнул:
– Да ведь это же не ангел! Это же она! Синьорина Цецилия Галлерани.
Леонардо, не отрываясь от работы, засмеялся, потом запел:
Частенько в памяти всплывает разное,
Но чаще вспоминаю я о ней.
Мне шепчет вкрадчиво: – Твоя прекрасная! —
И сердце бьется, и дышать трудней!
Амброджо де Предис испуганно перекрестился. Испуг этот еще больше возрос, когда в мастерской появился гонец из замка: герцог немедленно требует Леонардо да Винчи к себе.
– Теперь это, к сожалению, никак невозможно! – бросил художник через плечо.
– Как так? – обомлел гонец. Ни один смертный не отважился бы прекословить владыке Милана. Впрочем, будучи смышленым малым, он попытался объяснить:
– Начинаются работы над каналом Мартезана. – Об этом он слыхал в замке. Тут Леонардо все же оторвал свой взгляд от картины.
– Канал Мартезана? По моему проекту? Превосходно! Писать я буду лишь до тех пор, пока солнце светит. А к вечеру прилечу к синьору Лодовико. Ничего, до завтра-то ангел уж как-нибудь подождет.
– Это ангел?
Гонец только теперь приблизился к Леонардо и взглянул на картину.
– Да ведь это же… – воскликнул он и выбежал из мастерской.
А через час произошло событие, невиданное доселе на этой узенькой миланской улице, не отличавшейся от других никакими достопримечательностями, разве тем, что один из выстроившихся в ряд, старых, ветхих домиков снимал Амброджо де Предис. Перед этим домиком толпилась блестящая свита правителя герцогства Миланского. Вельможи, оттесняя друг друга, при суетливой толкотне стремянных старались спешиться. Но, всех опередив, в мастерскую ворвался одетый в блестящий золотой брокат синьор Лодовико. Его высокая фигура, едва не полностью закрыв дверной проем, заслонила собой свет майского солнца.
– Это называется, я обзавелся инженером! – начал он громко и ядовито. – Некий необыкновенный флорентийский маэстро, чуть ли не самым заветным желанием которого было стать моим военным инженером, который вручил мне трактат на шести страницах о пользе строительства каналов, о возможностях сделать судоходной Мартезану, теперь, видите ли, вбил себе в голову, что должен немедленно написать алтарный образ для церкви Сан-Франческо. По какому же это случаю?
Леонардо, улыбнувшись, поклонился. Из рук он еще не выпустил ни кисти, ни палитры.
– А по такому случаю, что на жалованье инженера герцогства, не будь никому в обиду сказано, можно прожить, лишь положив зубы на полку.
– Ах ты, золотобородый флорентийский разбойник! Конечно же, будешь ходить не солоно хлебавши, коли втайне от всех прячешь в Павии для своей утехи юную девицу.
– Ваша светлость имеет в виду мою кузину?
– Кузину? Да нет у тебя никакой кузины! Из Флоренции прибыло достоверное сообщение!
– Не знаю, что за сообщение… Не могут же учесть во Флоренции всех моих родственников…
– Ах, вон ты куда!.. Напрасно крутишь! Все знаем. Пока мои агенты, добросовестно потрудившись, напали на след, ты открыл клеточку и – кш-ш! Птичка улетела!
– Никуда она не улетела, ваша светлость. А живет в генуэзском доме морского капитана Никколо Кортенуова да Винчи.
– Ну вот, еще один родич!
– Это мой друг детства.
– Часом, не тот ли черномазый проказник, что перепробовал в твоем и Аталанте обществе вина всех погребков Милана?
– От вашей светлости, я вижу, нельзя ничего скрыть.
– В этом ты прав. И именно потому я здесь. Где картина?
– Потрудитесь, синьор, пройти сюда, вот сюда!
Сноп солнечных лучей осветил лицо ангела.
Синьор Лодовико прищурился, наморщил лоб. Он долго, пристально изучал глядевшего в его сторону ангела. Да, это на самом деле ангел! Ангел его жизни… Как она хороша! И как жизненно передана здесь, на картине! Герцог был глубоко тронут, но скрывал свои чувства. Нет, он не должен выказывать, насколько нравится ему эта… этот ангел. А стоит ли таиться?
– Одно бы мне узнать, – приглушенно заговорил он, плохо владея собой, – кем тебя считать: разбойником или волшебником?
– Живописцем, ваша светлость.
– Живописцем? Гм… А почему не волшебником, не чародеем, сведущим в черной магии?
– Милостивый синьор изволил забыть, что по этому поводу я уже выразил перед ним свои скромные соображения.
– Не беда, повтори еще раз. К тому же, граф Бергамино, например, еще не слыхал… Да будут твои взгляды известны и ему. А то страшно, как бы не попал и он во власть какого-нибудь заклинателя.
Острие иронии Лодовико Моро теперь направил на одного из самых почтенных вельмож своей свиты, и Леонардо счел это хорошим признаком. Он сообщнически подмигнул герцогу, но и от этого улыбка не сошла с губ синьора Лодовико.
Художник поклонился убеленному сединами графу Бергамино и, будто вся эта напыщенная компания явилась сюда только за тем, чтобы услышать его суждения, он повторил все высказанное им уже однажды синьору Лодовико.
– По моему мнению, глупейшим следует считать утверждение, что черная магия с ее суевериями достойна внимания. Ибо некромантия – это развеваемый ветром стяг, это вожак своры глупцов, разглагольствующих о великих успехах «вызывателей духов», о том, чего на самом деле еще никто не ощущал. И все-таки этим начиняют книги твердя, что духи могут проявлять силу и умеют говорить. Хотя они не люди. В действительности же говорить могут только люди, благодаря имеющимся у них органам речи. Утверждают еще, что при помощи магии можно переносить большие тяжести, вызывать грозу, дождь, что она может обращать людей в кошек, волков и прочих животных. А я считаю, что животному скорее уподобляется тот, кто верит подобным россказням.
– Ты понял, мой граф? – обратился синьор Лодовико к Бергамино, который, по-утиному крякая, хватал ртом воздух.
– Да-а-а… – выдавил он наконец.
– Ну, значит, ты достоин своей славной в веках родословной, – засмеялся властитель Милана – сам он не мог похвастать столь благородными предками, его отец, Франческо Сфорца, начал свою карьеру с кондотьера.
Теперь, взглянув на Леонардо, синьор Лодовико указал на картину:
– Кто это?
– Ангел.
– Ангел? Гм…
– Он стоит на коленях перед Мадонной, Мой синьор видит очертания Мадонны?
– Я вижу нечто другое, мессер Леонардо! Но не могу сказать, что я недоволен. Значит, это будущий алтарный образ церкви Сан-Франческо? Работа очень спешная?
– У меня договор, мой синьор.
– Спешный ли это заказ?
– В течение года я полагаю закончить.
– А ангела, гм, этого ангела ты сколько времени писал?
– Целую неделю не покидал я мастерскую.
– С тех самых пор, как ты возвратился из Павии?
– Да, с тех пор, как я возвратился из Павии. Но он еще не закончен.
– И не скоро будет закончен. Ты прервешь работу!
– Из-за канала?
– А-а, к чему мне теперь этот канал! Ты будешь писать картину. Для меня. Это будет твоей срочной работой! Портрет синьорины Галлерани!
Глава седьмая
К вершинам
– Когда же ты кончишь тот портрет? – сочувственно спросил Амброджо де Предис, услыхав, что Леонардо отдает Томмазо подробные указания: какие краски следует приготовить, как их растереть и что из инструментов надо собрать для отправки во дворец Галлерани.
Улыбнувшись, Леонардо развел руками: что мог ответить он другу, когда сам был в полном неведении.
Впрочем, он чувствовал уверенность, бодрящую уверенность.
Уже несколько дней, как к нему вернулась эта бодрость духа. Жизнь снова представлялась легкой, податливой, простой, а сам себе он казался теперь освобожденным, недавно скинувшим оковы человеком.
Да так оно, пожалуй, и было на самом деле. Он разбил невидимые оковы…
Вот уже сколько недель он пишет этот портрет, сколько мятежных, полных недовольства и самобичевания недель! Не с красками, не с сюжетом вступил он в единоборство, а с самим собой. В груди волной вздымались противоречивые чувства, в напряженном мозгу боролись несовместимые мысли. В душе воцарился полнейший хаос».
Первоначальную радость, ощущение новизны начатой работы сменило тупое безразличие. Он работал с перерывами и в каком-то полусне.
В часы позирования Цецилия Галлерани, бывало, взявшись за лиру, вполголоса напевала – тогда зала наполнялась не только звуками ее голоса, чистого и волнующего, но и очарованием, излучаемым всем ее существом, и все это вместе пленяло художника, опутывая его невидимыми сетями. Леонардо был околдован той, которая звала его волшебником. Какой же он волшебник! Ему просто тридцать лет. А напротив – Цецилия во всеоружии своих семнадцати…
Синьорина Цецилия музицировала или с милой непосредственностью сообщала какую-нибудь миланскую историю. Иной раз она сама обращалась к Леонардо с просьбой рассказать что-нибудь интересное. Но не настаивала, если у Леонардо не было настроения развлекать ее, и сама покорно умолкала, когда художник в интересах работы просил ее об этом.
Леонардо с чувством стеснения в груди следил за каждым движением Цецилии Галлерани, за трепетом ее длинных шелковистых ресниц, жадно ловил всякое слетавшее с ее уст слово, но, по мере того как он, постоянно изучая лицо своей натурщицы, все глубже проникал в тайники души молодой женщины, его увлечение слабело. Видя, как портрет обретает все более явственные черты, как успешно увековечивает его кисть на куске дерева сияющую юность прекрасного лица, Леонардо постепенно избавлялся от цепей невысказанной, бессмысленной страсти. Ожоги от взглядов миндалевидных глаз начали понемногу заживать.
И вчера, когда Леонардо заметил, что этот удивительный взгляд обрел жизнь на дереве, а губы на продолговатом изящном лице так естественны, что, кажется, вот-вот откроются и заговорят, ему стало ясно, что он победил не только свою любовь, но и Цецилию Галлерани. Победил тем самым, что спас ее юную красоту от тлена, увековечив, сохранив ее для будущих поколений. Он, мессер Леонардо да Винчи, оказался сильней…
– Сначала я еще съезжу на строительство канала, – бросил он уже из двери мастерской.
Амброджо де Предис понимающе кивнул.
Строительство канала шло своим чередом: синьорина Галлерани не соглашалась позировать более нескольких часов в день, и Леонардо охотно выезжал в свободное от работы над картиной время за город. Пусть там не было трогательных, ласкающих взор ландшафтов родного края (впрочем, окрестность Милана имела, несомненно, свою прелесть), Леонардо довольствовался видом деревьев, цветов, полей с работавшими там крестьянами да отрезком неба, на шелку которого летят провожаемые взглядом птицы.
«Когда-нибудь еще и я полечу», – думал он, схематично запечатлевая в альбоме для эскизов мелькание ласточки и плавный полет хищной птицы, как последняя камнем падает наземь, взмахи крыльев вороны и строение крыльев диких гусей.
Леонардо не сомневался в том, что после изучения вопросов, связанных с полетом птиц, и проведения соответствующих опытов, он сумеет создать такую машину, которая подымет его к клубящимся облакам. Он был уверен в этом, как и в своих расчетах, отстаиваемых им в споре с руководителями земляных работ или коллегами-инженерами.
А спорить приходилось много. Работавшие на строительстве инженеры нередко находили его замыслы слишком смелыми.
На канале работало свыше тысячи рабочих. Взглянув на вырытый участок бассейна, Леонардо уже представил себе величаво плывущие, снаряженные особыми пушками, парусные суда, возвещающие о величии творения рук человека, о его изобретательности.
«…и о власти синьора Лодовико», – съязвила мысль.
А ведь он намеревался увековечить славу рода Сфорца и конной статуей. Она была задумана еще во Флоренции, в то время, когда перед Верроккио встала сложная задача: создать конную статую кондотьера Коллеони. Тогда же Леонардо решил сделать памятник Франческо Сфорца. Наезжая в Павию, он всякий раз обстоятельно изучал там древнюю конную статую, рассчитывая пропорции. Когда на глаза попадалась породистая лошадь, Леонардо поспешно зарисовывал ее корпус, движения. Затем представлял себе в седле лошади кондотьера, ставшего впоследствии герцогом Миланским…
Теперь, на пути ко дворцу Галлерани, ему встретился весьма интересный всадник. Черный жеребец и облаченный во все черное верховой. Очевидно, чужестранец. Но вот вспугнутый внезапно появившейся у перекрестка повозкой конь вздыбился. Леонардо, прислонившись к стене дома, несколькими штрихами зарисовал позу коня.
Затем вошел во дворец Галлерани.
– Вы, кажется, в приятном расположении духа! – встретила художника хозяйка дома, протягивая ему обе руки с красивыми длинными пальцами. – Значит, вы меня сегодня будете, развлекать!
Она уселась на тахте, обычном своем месте. При ней теперь была одна лишь синьора Тереза, ее прежняя кормилица – женщина скромно склонилась над столиком с рукоделием в отдаленном углу залы.
– У нас побывал Беллинчони, но его сонет мне не понравился, а когда я об этом сказала, он, оскорбленный, удалился, – сообщила синьорина Галлерани. – С тех пор мне тоже не по себе. Я сейчас действительно нуждаюсь в том, чтобы меня развлекали.
– Не знаю, удастся ли. – II Леонардо снял с портрета защищавшее его покрывало.
С картины смотрело живое, редкой красоты женское лицо с удивительно тонкими, одухотворенными чертами. Что ж, осталось, собственно, отработать только фон, можно будет повозиться еще с отдельными деталями одежды… а потом… а потом… все.
– Не будьте таким букой, мессер Леонардо, – сердилась на молчавшего художника хозяйка дома. – А то на вас обрушится моя семикратная месть, да-да!
– Семикратная месть?… – рассеянно переспросил художник. – Скажите, пожалуйста, мой помощник принес новые краски?
– Он приготовил их вон там, – сказала, подняв глаза от рукоделия, синьора Тереза.
Леонардо разводил краски, помешивал олифу. Цецилия, капризно надув губки, следила за его движениями.
– Семикратно отомщу! – процедила она.
– А знаете, отчего вы повторяете именно число семь? – спросил Леонардо. В этот момент его внимание привлек не портрет, а живая фигура, живое лицо. Вокруг красивой женщины витали яркий свет и вкрадчивая тень.
– Семь? Просто это число взбрело мне на ум. Чистая случайность! – едва заметно передернув плечами, сказала Цецилия Галлерани.
– Нет, это вам только так кажется, – строго и наставительно возразил Леонардо. – А вы подумайте! Ну, не вспомнили? Семикратная месть…
– А, вы о библии! Или нет?…
– II о ней тоже… – пробормотал художник.
– А ведь правда! Как я об этом не подумала! О семи смертных грехах, не так ли?
– А в противовес грехам имеется семь дел милосердия, – улыбнулся Леонардо.
– Вот уж нисколько они меня не интересуют!
– А семеро святых?
– Мессер Леонардо, видно, решил щегольнуть своей осведомленностью?
– Ну вот! – продолжал улыбаться художник. – Только вы не подумайте, что мои знания лезут шилом лишь из мешка церкви… И уж если говорить о числе семь, то могу добавить, что неделя состоит из семи дней, что предшествующий пасхе пост длится семь недель.
– Вы сведете меня с ума своими премудростями! Я попрошу синьора Лодовико назначить вас вместо моего кузена каноником. 3начит, ничего интересного у вас для разговора нет?
– Возможно, и найдется. Вы слыхали, вероятно, о халдеях? Они считали, что существует семь небесных светил. По мнению же персов, семеро добрых духов противостояли семерым злым духам преисподней. Кстати, и змею они считали существом о семи главах.
– Как будто бы не хватило такой вредной твари одной-единственной головы?! К тому же, примите к сведению, мессер Леонардо, что я не симпатизирую персам. Вы лучше расскажите что-нибудь о римлянах! У них тоже играет роль Эта священная – или грешная – семерка?
– Синьорина, ведь и вам знакома история римлян. Перед возникновением республики там было семеро царей. Город же построен на семи холмах.
– Правда? Ну а дальше что?
– Некую тайну в одной книге хранили за семью печатями.
– Ну а как вы думаете, мою тайну сколько печатей хранит?
– Одна-единственная, – засмеялся Леонардо.
– Вы это о нем? О синьоре Лодовико? – В голосе Цецилии прозвучала досада. – Тогда уж лучше продолжайте свои мудрствования о семерке. Каким смыслом наделяли ее, скажем, греки?
– Я вам напомню. Вы ведь знаете, что у греков было семеро знаменитых мудрецов, семеро героев Фив. Греческие мифы повествуют о семи чудесах света. И…
Леонардо умолк. Уловив в глазах натурщицы искомый блик, поспешил запечатлеть его на картине.
– Ну а дальше? – торопила хозяйка дома.
– Дальше… Вы помните строки? «За честь называться отчизной Гомера спорили семь городов…»
– Да сокрушат семь громов твою премудрость, мессер Леонардо! – раздался в дверях голос Лодовико Моро. – Я уже несколько минут стою здесь и слушаю твои пространные речи! Вот почему никогда не будет готов портрет! – Однако притворное негодование быстро сбеясало со смуглого лица, которое вдруг просветлело.
Герцог поспешил к Цецилии.
– Как давно вы не видели картину! – Хозяйка дома с упреком взглянула на своего сиятельного покровителя.
Лодовико Моро вежливо поклонился и, снисходительно прошествовав к мольберту, встал рядом с художником.
– Мессер Леонардо! Да ведь портрет уже готов! – с удивлением воскликнул он.
– Почти.
– Почти? О, это нечто невыразимое. Синьорина, скорее сюда! Здесь перед вами… – он осекся, будучи не в силах выразить то, что видел на портрете. Нет, он видел не только лицо. Не только прекрасное лицо. То был образ юности. Светлой, могущественной юности в момент, когда она излучает, согревая и озаряя все вокруг, свою силу и очарование.
– Мессер Леонардо! – воскликнул еще раз герцог.
– Мессер Леонардо! – прошептала Цецилия Галлерани, зачарованно стоя перед своим двойником.
Властитель Милана не мог совладать с собой. В восторге он стал кружить Цецилию, затем принялся обнимать Леонардо.
– Такого еще не было! Уж я ли не видел картин! Бывал во Флоренции, Риме, Генуе, Пизе и Ферраре, где восхищался творениями наших мастеров. Но то были картины. А вот Это – сама жизнь. Ведь она дышит! Синьорина Цецилия, примите к сведению, что вы отныне живете в двух вариантах! Ты же, мессер Леонардо, будешь работать. Будешь писать для меня…
– Буду, буду, – улыбнулся Леонардо. Но вдруг вспомнил о другом: – А как же конная статуя?
– И ее сделаешь! Все! Все, что хочешь! Но только мне! Никому другому! Как ты сказал о Гомере? «За честь называться отчизной Гомера спорили семь городов…» Да разве играет какую-нибудь роль, где он родился? Намного важней, где он творит, где подобный тебе мастер созидает. О, ты – Гомер живописи! Семь городов? Да знаешь ли ты, что, вступи сейчас со мной в единоборство семь городов Италии и семеро владык, я не отдам моего Леонардо, чтобы их, а не меня околдовывал он чарами прекрасного, – не отдам! Даже если мне посулят земли, села, коней, несметные сокровища. Нет, ты останешься у меня!
– Останется? О нет, он пойдет дальше, к вершинам! – мечтательно проговорила Цецилия Галлерани.
«К вершинам, – мысленно повторил Леонардо. – Это верно, но к вершинам надо лететь».
Он знал, что достигнет их.