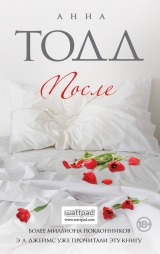
Текст книги "После империи. Pax Americana – начало конца"
Автор книги: Эмманюэль Тодд
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 2
Великая демократическая yгроза
Рассмотрение образовательных и демографических параметров в планетарном масштабе добавляет убедительности гипотезе Фукуямы о существовании смысла истории. Всеобщая грамотность и контроль за рождаемостью предстают сегодня как явления универсально человеческие. Легко ассоциировать эти два аспекта прогресса с развитием «индивидуализма», конечным пунктом которого' может быть утверждение индивидуума в политической сфере. Одно из первых определений демократии принадлежит Аристотелю, который вполне в современном духе объединил свободу (eleutheria) с равенством (isonomia), чтобы позволить человеку «вести свою жизнь как ему хочется».
Умение читать и писать действительно позволяет каждому достичь более высокого уровня сознания. Снижение индексов фертильности выявляет всю глубину этой психологической мутации, которая касается и сферы сексуальности. И не представляется алогичным, что в этом мире, объединяемым всеобщей грамотностью и демографическим равновесием, появляется множество политических режимов, стремящихся к либеральной демократии. Можно высказать гипотезу, что личности, ставшие сознательными и равными в результате всеобщей грамотности, не могут бесконечно находиться под авторитарным режимом. Практическая цена авторитаризма в условиях, когда люди пробудились к определенному типу сознания, делает экономически неконкурентоспособным общество с авторитарным режимом. В сущности, можно до бесконечности рассуждать о взаимосвязях между образованием и демократией. Общность этих двух процессов и была совершенно понятна таким людям, как Кондорсе, который развитие образования поставил в центр своей работы «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1773 г.) [Condorcet M. – J. Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain. – P.: Vrin, 1970]. Не столь уж и трудно объяснить, опираясь на этот важнейший фактор, представления Токвиля о «провиденциальном» шествии демократии.
Его анализ представляется мне значительно более подлинно «гегельянским», чем анализ Фукуямы, которого сбивают с толку экономизм и одержимость материальным прогрессом. Идеи Токвиля кажутся мне также более реалистичными, более правдоподобными, когда речь заходит об объяснении множественности демократий: в бывшей советской сфере в Восточной Европе, в Латинской Америке, в Турции, Иране, Индонезии, на Тайване, в Корее. Едва ли возможно объяснить обилие плюралистических избирательных систем только растущим процветанием мира. Эра глобализации в экономической сфере совпадает со снижением темпов роста, замедлением повышения уровня жизни масс, а в некоторых случаях и с его падением, с усугублением неравенства. Трудно поверить в убедительность объяснений на основе «экономизма»: как растущая материальная неуверенность может объяснить крушение диктаторских режимов и стабилизацию избирательных процедур? Напротив, образовательная гипотеза позволяет понять, почему происходит движение к равенству под покровом экономического неравенства.
Какова бы ни была критика в адрес Фукуямы, не стоит отвергать его гипотезу о едином в конечном итоге мире на базе либеральной демократии и об установлении всеобщего мира на основе закона Дойла о невозможности войн мёжду демократиями. Но следует признать, что траектории, по которым движутся различные нации и регионы мира, весьма различны.
Простой здравый смысл заставляет усомниться в абсолютной конвергенции на основе экономического и политического либерализма народов, имеющих столь же различный исторический опыт, сколь различны английская революция, Французская революция, коммунизм, нацизм, фашизм, хомейнизм, вьетнамский национал-коммунизм, режим красных кхмеров. Фукуяма сам отвечает на свои сомнения, когда он говорит о современной японской демократии, которая при всем своем совершенстве в течение всех послевоенных лет, за исключением короткого периода колебаний в 1993-1994 годах, позволяла находиться у власти только либерально-демократической партии. В Японии формирование правительства является результатом межклановой борьбы внутри доминирующей партии. Тем не менее, по мнению Фукуямы, отсутствие альтернативности все же не является основанием не считать японский режим демократическим, поскольку речь идет о свободном выборе избирателей.
Японскую модель отчасти напоминает шведская модель, базирующаяся на долголетнем доминировании социал-демократической партии. В той мере, в какой шведская система сформировалась эндогенно, без иностранной оккупации, как это было в случае с Японией, можно, пожалуй, согласиться с определением демократии Фукуямой, исключающим альтернативность в качестве одного из ее главных признаков.
Тем не менее сосуществование англосаксонской альтернативности правительств с японским или шведским постоянством приводит к мысли о существовании различных демократических подтипов, то есть о том, что конвергенция может быть неполной.
Изначальное антропологическое разнообразие
Фундаментальная проблема, в которую упирается ортодоксальная политическая наука, заключается в том, что она не обладает сегодня убедительным объяснением острых идеологических различий, существующих в обществах в фазе модернизации. В предыдущей главе мы видели, что общего было у всех в начале культурного развития: обретение грамотности, снижение индексов рождаемости, политическая активизация масс, сопровождаемая растерянностью и насилием в переходный период вследствие утраты прежней ментальности. Надо, тем не менее, согласиться, что военная диктатура Кромвеля, поделившего церкви между соперничавшими протестантскими сектами, и большевистская диктатура, создавшая концентрационные лагеря на территории почти целого континента, выражали и отстаивали различные ценности. И что коммунистический тоталитаризм, твердо приверженный принципу равенства людей, отличается по своим ценностям от нацизма, для которого неравенство народов являлось символом веры.
В 1983 году в своей книге «Третья планета. Структура семьи и идеологические системы» я предложил объяснение антропологического порядка политических различий в обществах в фазе их модернизации (Todd E. La troisieme planete: Structures familiales et systemes ideologiques. – P.: Le Seuil, 1983). Семейная гипотеза позволяет сегодня описать и понять сохраняющееся разнообразие демократического мира, зарождающегося на наших глазах.
Семейные системы крестьянства, оторванного от привычной среды в результате модернизации, были носителями самых различных ценностей: либеральных и авторитарных, эгалитарных и неэгалитарных. Затем именно они стали строительным материалом для формирования идеологий периода модернизации.
– Англосаксонский либерализм перенес в политическую область идеал взаимной независимости, который был характерным для отношений между родителями и детьми в английской семье, где также отсутствовало равенство в отношениях между братьями.
– Французская революция преобразовала либерализм взаимоотношений между родителями и детьми и типичный для крестьян Парижского бассейна XVIII века эгалитаризм в отношениях между братьями в универсальную доктрину свободы и равенства людей.
– Русские мужики обращались со всеми своими сыновьями одинаково, но оставляли их под своей властью до собственной смерти, будь они женатыми или нет: идеология русского перехода к современности, коммунизма, была, таким образом, не только эгалитарной, по французскому примеру, но также и авторитарной. И эта формула была принята повсюду, где доминировали семейные структуры русского типа: в Китае, Югославии, Вьетнаме; не забудем и некоторые западноевропейские регионы, где избиратели-крестьяне отдают предпочтение коммунистам: Тоскана, Лимузен, Финляндия.
– В Германии авторитарные и неэгалитарные ценности семейного рода, который назначал в каждом поколении одного-единственного наследника, обеспечили мощный подъем нацизма – авторитарной и антиэгалитарной идеологии. Япония и Швеция представляют собой очень смягченные варианты этого антропологического типа.
– Структура арабо-мусульманской семьи позволяет объяснить некоторые аспекты радикального исламизма, который, будучи такой же переходной идеологией, как и другие, характеризуется уникальным сочетанием эгалитаризма и общинных начал, причем сочетанию этому никак не удается достичь уровня этатизма. Этот специфический антропологический тип помимо арабского мира распространен в Иране, Пакистане, Афганистане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Азербайджане и на части территории Турции. Униженное положение женщины в этом семейном типе является его самым очевидным элементом. Он близок с русской моделью в силу общинной формы, объединяющей отца и его женатых сыновей, но и заметно от нее отличается в силу эндогамного предпочтения браков между двоюродными родственниками. Браки между двоюродными родственниками, в частности между детьми двух братьев, вносят в семью и в идеологию весьма специфические отношения авторитарного типа. Отношения отец-сын не являются подлинно авторитарными. Обычай берет верх над отцом, и горизонтальные связи между братьями приобретают решающее значение. Система представляется очень эгалитарной, очень напоминающей общину, но она не поощряет уважение к власти вообще и власти государства в частности (Подробнее см.: Todd E. La troisieme planete. – Chap. 5. Мусульмане Югославии, Албании, Казахстана привержены патрилинейной общине, равенству в отношениях, но не являются эндогамными. Мусульмане же Малайзии и Индонезии имеют абсолютно иную семейную систему, сочетающую высокий статус женщины и заметное отклонение матрилокального характера. После брака муж остается жить в семье своей жены).
– Уровень эндогамии изменяется в зависимости от страны. В Турции он составляет 15%, 25-30% – в арабском мире и целых 50% – в Пакистане. Признаюсь, я с любопытством антрополога ожидаю дальнейшего развития процесса ментальной и идеологической модернизации Пакистана, страны, которая в антропологическом плане характеризуется максимальной эндогамией. Можно уже сегодня утверждать, что перемены в этой стране по всем пунктам не будут похожими на эволюцию Ирана, где уровень семейной эндогамии достигает лишь 25%. Этот столь малонадежный союзник Соединенных Штатов не полностью обнародовал свою идеологическую программу и долго будет еще нас удивлять. Можно было бы увеличивать число примеров и комментариев. Важно на этой стадии понять начальное антропологическое измерение, сформировавшееся в пространстве и в крестьянских обычаях до начала процесса модернизации.
Таблица 3
Процент браков между двоюродными родственниками в первой половине 90-х готов

Источник: Demographic and Health Survey
Различные регионы, народы – носители различных семейных ценностей втягиваются один за другим и более или менее быстрыми темпами в тот же самый процесс разрыва со своими естественными корнями. Если мы поймем и первоначальное семейное разнообразие крестьянского мира – антропологическую переменную – и универсальность процесса ликвидации неграмотности – историческую переменную, – то сможем осмысливать одновременно и направление движения истории, и феномены различий.
Возможная схема: переходная истерия, а затем демократическая конвергенция
Переходный период на первом этапе порождает истерику вокруг антропологических ценностей. Разрыв с прошлым, провоцируемый модернизацией, вызывает обратную реакцию – утверждение в идеологической форме традиционных семейных ценностей. Вот почему все идеологии переходного периода в определенном смысле являются фундаменталистскими, интегристскими. Все они, осознанно или нет, утверждают приверженность к прошлому, даже и в тех случаях, когда, как, например, коммунизм, яростно претендуют на современность. В России однопартийная система, централизованная экономика и в еще большей мере КГБ приняли на себя тоталитарную роль традиционной крестьянской семьи (В 1853 году в письме, адресованном Гюставу де Бомону, Токвиль охарактеризовал российские низы следующим образом: «Америка минус свобода и просвещение. Наводящее страх демократическое общество» [Tocqueville A. de. OEuvres completes. T. VIII. – P.: Gallimard, 1967. – Vol. 3. – P. 164].
Все традиционные общества вовлекаются в движение в результате одного и того же акта истории – ликвидации неграмотности. Но переход обостряет противоречия между народами и государствами. Так, антагонизм между французами и немцами, между англосаксами и русскими достигает максимума, так как каждый в яростной идеологической форме отстаивает свою первоначальную антропологическую специфичность. Сегодня арабо-мусульманский мир в последний раз драматизирует свое отличие от Запада, в частности по вопросу о положении женщины в обществе, хотя женщины Ирана да и арабского мира уже эмансипируются, о чем свидетельствует использование контрацептивов.
Затем кризис утихает. Постепенно выясняется, что все антропологические системы с известным разрывом во времени подвергаются разрушению в результате подъема индивидуализма, обусловленного распространением грамотности. И в конечном итоге возникают элементы демократической конвергенции.
Конечно, все антропологические системы по-разному реагируют на усиление демократического индивидуализма. А разве может быть иначе? Для некоторых систем, например французской и англосаксонской, ценность свободы является изначальной, заложенной в базисе семьи, и здесь развитие истории лишь формализует ее, радикализует ее выражение. В германской, русской, японской, китайской или арабской системах мощный подъем индивидуализма угрожает некоторым изначальным антропологическим ценностям. Отсюда наиболее острые проявления насилия в переходный период и определенные различия в его завершении. Хотя и в значительно размытом виде, ценности власти и общины, которые характеризовали вначале эти системы, остаются, полностью не уничтожаются. Мы можем теперь понять различия между типами демократий, возникших в умиротворенном мире после демографического перехода. Япония с ее неустранимой либерально-демократической партией, социальной сплоченностью и своим промышленным и экспортно ориентированным капитализмом, – это не Америка. Россия, избавившаяся от коммунизма, Иран, освободившийся от хомейнизма, никогда не превратятся в гипериндивидуалистическое общество, которое ныне господствует в Соединенных Штатах.
Нам трудно согласиться с идеей, что все «демократии», возникшие по окончании переходного периода, являются или станут в основном стабильными или даже похожими по методам функционирования на англосаксонскую и французскую либеральные демократии. Рассматривать возможность умиротворения мира, признавать общую тенденцию в направлении большего индивидуализма и верить во всеобщее торжество либеральной демократии – не одно и то же. Тем не менее на данном этапе нет оснований относиться с презрением к гипотезе Фукуямы.
Даже неудача первой посткоммунистической – китайской – демократизации, завершившейся установлением смешанного режима, комбинирующего экономический либерализм и политический авторитаризм, не является обязательно доводом против теории. Можно считать эту фазу китайской эволюции временной. Пример Тайваня, где в течение уже нескольких лет наблюдается развитие подлинной демократии, свидетельствует, что никакой глубинной несовместимости между Китаем и демократией нет, в противоположность рассуждениям Хантингтона.
Как это ни парадоксально, но труднее представить долговременную стабилизацию демократии и либерализма в Латинской Америке с ее мельчайшими семейными структурами, радикальным неравенством экономических структур, где циклы чередования демократизации и путча следуют друг за другом еще с XIX века. В действительности, зная историю Латинской Америки, трудно себе представить ее долговременную стабилизацию даже на авторитарной основе. Тем не менее аргентинская демократия, преодолевая большие экономические трудности, трудноописуемые политические перипетии, сохраняется, существует. Что касается Венесуэлы, где патронат, церковь, частное телевидение и часть армии предприняли в апреле 2002 года попытку свержения президента Уго Чавеса, то она продемонстрировала неожиданную прочность своей демократии. Правда, уровень грамотности в этой стране среди взрослого населения составляет сегодня 93%, а среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет – 98%. Нескольких телевизионных каналов недостаточно, чтобы манипулировать населением, которое умеет читать и писать, а не только смотреть. Трансформация ментальности здесь приобрела глубокий характер. Женщины Венесуэлы контролируют рождаемость, и к началу 2002 года число детей на одну женщину сократилось до 2,9.
Стойкость венесуэльской демократии сильно удивила американское правительство, которое поспешило одобрить государственный переворот, что представляется любопытным признаком нового безразличия по отношению к принципам либеральной демократии. Можно представить радость Фукуямы по поводу устойчивости демократии в Венесуэле, что соответствует его модели, а с другой стороны, и его возможную обеспокоенность в связи с тем, что Соединенные Штаты официально пренебрегают принципами свободы и равенства как раз в тот момент, когда они господствуют в бывшем «третьем мире».
Если придерживаться ограниченного замысла этой книги, состоящего в анализе перестройки взаимоотношений между Америкой и миром, тогда нет необходимости продолжать наши рассуждения, приходить к окончательному выводу по вопросу о всеобщей демократизации планеты. Нам достаточно констатировать, что после определенной фазы модернизации общества вступают в состояние равновесия и находят нетоталитарную форму правления, которая признается большинством населения. Достаточно принять минимальную версию гипотезы Фукуямы об универсализации либеральной демократии. Такой же минималистский подход может быть применен и в отношении закона Дойла о невозможности войн между демократиями. Почему бы не признать существование «расширенного» недогматического закона о маловероятности войн между обществами, достигшими равновесия, спокойствия? И в этом контексте вопрос о том, приводит ли демократизация путем достижения всеобщей грамотности к созданию политических систем, полностью эквивалентных англосаксонской или французской либеральным моделям, становится вопросом весьма второстепенным.
Объединенные нации Европы
Западноевропейское пространство безусловно представляет собой привилегированное место приложения гипотез, изложенных в работах Фукуямы и Дойла, даже если неспособность континента достигнуть самостоятельно равновесия воспрещает рассматривать его опыт как абсолютно доказательный. После Второй мировой войны Соединенные Штаты в военном плане обеспечили восстановление и стабилизацию либеральной демократии на континенте. Западная Германия и Япония были в те времена настоящими американскими протекторатами. Тем не менее переход Европы в состояние мира и сотрудничества между всеми нациями после двух веков идеологической и военной сверхактивности служит яркой иллюстрацией возможности умиротворения мира. В сердце Европы франко-германские отношения особенно значимы с точки зрения превращения состояния войны в нечто сильно похожее на вечный мир. Но демократическая стабилизация ни в коей мере не предполагает в Европе полную конвергенцию на основе единой социально-политической модели. Старые нации с их языками, социальными структурами и обычаями живы. Чтобы продемонстрировать их устойчивость, мы могли бы проанализировать многообразие способов разрешения конфликтов, партийных систем, типов чередования правительств. Но мы можем также, мысля более глубоко и прямолинейно, остановиться на рассмотрении демографического аспекта.
Что касается рождаемости, все европейские страны завершили переходный период. При этом индексы фертильности остаются разными и колеблются от 1,1 до 1,9 ребенка на одну женщину. Если посмотреть на большие европейские государства, которые в мировом масштабе стали средними или малыми, то можно установить отношения взаимозависимости между уровнями фертильности и идеологическими традициями.
Соединенное Королевство и Франция отличаются умеренно высокими индексами фертильности: соответственно 1,7 и 1,9 ребенка на одну женщину, что близко к порогу воспроизводства поколений и к индексу в 1,8, который наблюдается среди «белого европейского населения» Соединенных Штатов (Из общего национального индекса в 2,1 исключаются испаноговорящие и чернокожие жители). По уровню рождаемости три старые либеральные демократии остаются близкими друг другу. В других странах индексы значительно ниже: и Германии и Италии – 1,3, в Испании – 1,2. И это именно те страны, в которых зародились на фазе перехода в первой половине XX века диктаторские режимы. Такая ситуация с индексами, может быть, не является случайной. В век современных противозачаточных средств супружеские пары технически – посредством пилюль или стерилизации оказываются в своего рода социально естественном положении бесплодия. Раньше надо было бороться с природой и решать не иметь слишком много детей, а сегодня надо решать, рожать ли одного или нескольких детей. В странах индивидуалистских традиций – Америке, Англии, Франции – этот вопрос решается легче. А у народов, проживающих в зонах более авторитарных традиций, в вопросах демографии продолжает действовать более пассивная концепция существования. И там труднее принять теперь уже позитивное решение по вопросам рождаемости.
Такое объяснение подсказывает нам, что глубокие ментальные различия между народами, в частности между французами и немцами, сохраняются. Это различие темпераментов не мешает функционированию обоих режимов на основе соблюдения демократических правил игры, пусть даже альтернативное чередование правительств в Германии остается явлением редким, тогда как во Франции никакому политическому лагерю, исключая случайность, не удается победить на двух выборах подряд.
Европейские народы сегодня живут так, что было бы более реалистичным и, возможно, более вдохновляющим говорить, вопреки наличию общих институтов, единой валюты и тесных технологических связей, об объединенных нациях Европы.
Перейдем на планетарный уровень и порассуждаем в очень общем историческом плане, вооружившись лишь нашим здравым смыслом, не утруждая себя ссылками на философов и политологов. Почему не предположить, что достигший всеобщей грамотности, стационарного демографического состояния мир вступил на путь мирной жизни и таким образом недавняя история Европы могла бы стать историей всей планеты? Почему нельзя представить себе, что все государства ведут себя мирно, посвящая все силы своему духовному и материальному развитию? Почему не представить себе мир, вступающий на избранный Соединенными Штатами, Западной Европой и Японией после Второй мировой войны путь? Это стало бы своего рода торжеством доктрины объединенных наций.
Возможно, такой мир – только мечта. Но что верно, так это то, что, если бы он появился, он обрел бы свою законченную политическую форму в триумфе Организации Объединенных Наций и не предложил бы Соединенным Штатам никакой особой роли. Америке тогда предложили бы вновь стать такой же либеральной и демократической страной, как и все другие, демобилизовать свои вооруженные силы, выйти в заслуженную стратегическую отставку, будучи окруженной горячей симпатией всей благодарной планеты.
Такая история, однако, написана не будет. Мы не знаем еще, является ли универсализация либеральной демократии и мира неизбежным историческим процессом. Но мы уже знаем, что такой мир был бы угрозой для Америки. Будучи экономически зависимой, она нуждается в существовании на определенном уровне беспорядка и неустойчивости, чтобы оправдывать свое политико-военное присутствие в Старом Свете.
Возврат к стратегическому реализму: Россия и мир
Закончим тем, с чего начали: страной, поворот которой к демократии придал смысл первой посылке Фукуямы, – Россией, способной (до ее идеологического краха) угрожать в силу своей географической, демографической и военной массы любой стране планеты. Советская военная экспансия представляла главную проблему для демократий и сама по себе оправдывала роль Соединенных Штатов в качестве защитника свободного мира. Крушение коммунизма может в среднесрочной перспективе привести к созданию в России либеральной демократии. Но если либеральная демократия по природе своей не может совершать агрессию против другой демократии, то только одной такой трансформации России было бы в основном достаточно, чтобы превратить всю планету в мирное пространство. Если Россия станет однажды добродушным гигантом, то европейцы и японцы смогут обходиться без Соединенных Штатов. Смелая и болезненная для Америки гипотеза, которая сама уже не может обходиться без двух экономически и финансово эффективных полюсов триады.
Продолжим наши рассуждения. Если в Старом Свете устанавливается мир, если он больше не нуждается в Соединенных Штатах и если последние стали экономическим хищником, представляющим угрозу, тогда и роль России кардинально меняется. Ничто не мешает a priori представить Россию страной либеральной, демократической, защищающей, в свою очередь, планету от Америки, стремящейся закрепить свой имперский статус.
Я детально проанализирую экономическую ситуацию и стратегическую роль России несколько ниже. А на этой предварительной стадии следует, тем не менее, напомнить, что, несмотря на военное ослабление, Россия остается единственной страной, ядерный арсенал которой может служить преградой для военного всемогущества Соединенных Штатов. По соглашению о сокращении ядерных вооружений, заключенному Джорджем У. Бушем и Владимиром Путиным в мае 2002 года, у той и другой стороны сохраняется примерно по 2 тыс. ядерных зарядов. То есть сохраняется все то же равновесие страха.
Если отношения между Америкой и миром полностью меняются и защита превращается в виртуальную агрессию, то отношения России с миром также кардинально изменяются, происходит переход от агрессии к виртуальной его защите. В такой модели единственным неизменным элементом в конечном итоге остается антагонистический характер российско-американских отношений.








