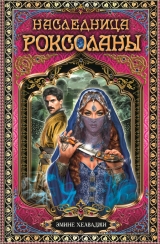
Текст книги "Наследница Роксоланы"
Автор книги: Эмине Хелваджи
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Вот и все. Мустафы больше нет. Великая резня началась. Та самая резня, против которой столь рьяно выступал старший брат. Та, которую он поклялся отменить навеки, если Аллах и милость султана Сулеймана дозволят ему воссесть на трон Оттоманской Порты.
Увы, султаны редко бывают милостивыми.
Уж Джихангир-то доподлинно это знал.
С раннего детства был он наперсником и собеседником отца. Так уж вышло – Сулейман искренне привязался к мальчику-калеке, который не может претендовать на трон, а значит, не опасен ни самому Сулейману, ни собственным братьям. И общение с отцом сделало из шахзаде Джихангира… нет, не циника (хотя он, общавшийся с книгами даже больше, чем с отцом, лучше прочих знал все смыслы этого слова), но человека, относящегося к жизни и милостям сильных мира сего крайне скептически.
К обещанию Мустафы пощадить младших братьев, если доведется стать султаном, Джихангир поначалу тоже отнесся скептически. Много их было, султанских сыновей, – с цветистыми речами, упоминающих милость Аллаха, братскую любовь и кровное родство. Всех их сломали безжалостное время и не менее безжалостная власть, свалившаяся им на плечи подобно небесному своду, придавившему когда-то Атланта, героя древних гяурских мифов.
Но Мустафа был другим. Джихангиру казалось, что плечи старшего брата эту тяжесть выдержат.
Как выяснилось, так казалось ему одному.
Мустафа писал всем братьям. Откликнулся один Джихангир.
Поэт, скрывавшийся под псевдонимом Зарифи, был человеком циничным, но так хотелось верить в сказку!
Янтарь на рукояти кинжала поблескивал, и временами Джихангиру казалось, что вовсе это и не навершие рукояти, а золотая слеза, которую солнце – или море – пролило по умершему шахзаде.
«Желтый камень терпения», – вывел калам Джихангира, и шахзаде надолго задумался.
Время ли слагать стихи, когда задумал то, что никогда не простит Аллах и осудят люди?
Людской молвы, впрочем, избежать удастся. Бросать тень на отца и братьев Джихангир не желал. Аллах воздаст каждому по делам его, а тень от сыноубийства и без того лежит на султане Сулеймане. А уж кто подтолкнул его к этому убийству…
Джихангир, конечно, знал. Нельзя быть шахзаде, сыном своего отца и своей матери, и не знать.
Что же ты наделала, мама?.. Что же ты наделал, отец, зачем поддался женскому коварству? Зачем убил достойнейшего из достойных? Ради кого, ради пьяницы Селима? Ради высокомерного и заносчивого Баязида? Кто из них ближе твоему сердцу, кого ты пошлешь на смерть ради второго брата? Или предпочтешь смотреть с небес, как братья режут друг друга?
Нет, ты не таков, Сулейман Кануни. Ты все сделаешь сам.
Поэт Зарифи по этому поводу сложил бы несколько бейтов – и сжег бы бумагу с ними, потому что поэт Зарифи трус и никогда не выпускает наружу слезы своего сердца. Нельзя простому люду знать то, что творится в султанских покоях. Об этом должно ведать лишь Аллаху.
И воздавать каждому, да.
Джихангир тоже был трусом. Он не желал видеть, как люди, чтимые им, любимые им, превращаются в хладнокровных убийц.
Зарифи тихонько встрепенулся, наполнив душу шахзаде образами и мыслями. Покачав головой, Джихангир взял калам:
О судья в чалме высокой, бедняков жестоко судишь.
Что ты скажешь о султане, что наследника убил?
Отвечал судья:
– Султану
Лишь Аллах судьею будет…
Джихангир подавил желание приписать четвертую строку: «А меня дела такие не касаются вообще!» Звучало бы слишком простонародно. Неправильно бы звучало.
Подумал немного, исправил строку на более благозвучную. Продолжил:
Обо всех скорбит убитых желтый камень, слезы моря,
Чаша вечного терпенья, что душе ссудил Аллах.
Горе, если в этой чаше будет лишнею хоть капля!
Гордецу простить не смогут волны, ветер и судьба.
Ну вот, опять этот камень пролез в мысли шахзаде! А впрочем… пусть будет.
Рука сама поднялась сжечь листок, как делала это много раз, но остановилась. Хоть раз не будь трусом, шахзаде Джихангир, или поэт Зарифи, – какая сейчас разница? Вы едины сейчас в своей скорби и желании оставить этот грязный мир, где, чтобы выжить, нужно убивать братьев по крови. И вы едины в желании сделать так, чтобы о вашем самоубийстве никто никогда не узнал.
Кроме Аллаха, от всевидящего взгляда которого не укрыться.
Да, Джихангир слаб, ну так почему бы не использовать эту слабость? Никого не удивит, если горбун, в дом которого лекари приходят, как в свой собственный, несколько дней пожалуется на слабость, а затем скончается. Скажут – очередная болезнь подкосила-таки шахзаде. Жаль, очень жаль.
Шахзаде позвонил в серебряный колокольчик. Вошел слуга.
– Вот это письмо вместе с кинжалом отправить шахзаде Мехмеду. Немедленно.
Если Мехмед – истинный сын своего отца, то он поймет. И, возможно, даже простит.
Желтый камень терпения мигнул последний раз, скрываясь под темным платком.
* * *
«Гордецу простить не смогут волны, ветер и судьба», – прошептала Айше последние строки письма дяди. Что шахзаде Джихангир имел в виду?
И откуда гонец узнал о смерти господина, если выехал раньше черного вестника смерти?
Другой гонец привез им весть о смерти шахзаде днем спустя.
Людская молва? Но тогда она и до Амасьи долетела бы вместе с первым гонцом. А до появления второго все было тихо. Люди в основном обсуждали свои новости – благо, их здесь хватало, да и повышение генуэзскими купцами цен на зерно уже почти вытеснило сплетни о трагической доле шахзаде Мустафы и янычарском бунте, последовавшим за этим.
Люди любят свежие новости. Оплакивать мертвецов остается лишь близким и родне.
И все же, что дядя имел в виду?
Кинжал смирно лежал в ладони – холодный, тяжелый, чужой. Лишь янтарное навершие рукояти неожиданно оказалось теплым, словно прогретым ласковым утренним солнцем.
«Желтый камень, слезы моря», «чаша вечного терпенья»…
Что же знал дядя Джихангир, что он пытался донести до брата?
Айше думала было посоветоваться с Бал – в конце концов, лучшая подруга, почти сестра, – но мысль о том, кому изначально принадлежал этот клинок, остановила. Вспомнилось: «Мой отец немного Хызр».
Ладно. Она, Айше, сама разберется со всеми загадками. И гордецу, а точнее гордячке, подлой хохотунье, вообразившей себя клинком Иблиса, никто не поможет. Если будет нужно, то для отмщения Айше согласна стать волнами и ветром!
Согласна стать воплощением судьбы.
Айше покрепче сжала рукоять. Янтарь тускло блеснул.
Со сном у Айше стало совсем плохо.
Ждать смерти оказалось очень утомительно, к вечеру глаза начинали закрываться сами собой. Усталость брала свое еще до ужина. Она мало и без аппетита ела под скользящими взглядами служанок – в последнее время все избегали смотреть ей в глаза. Потом засыпала быстро, будто падала спиной вперед в темную теплую воду.
Волны смыкались над головой Айше, но ей тут же начинали сниться плохие сны: по бесконечным коридорам шли убийцы без лиц, неслышно открывали двери, становились над ней, разматывали шелковые удавки, доставали из ножен кинжалы. Она чувствовала их рядом, слышала, как они дышат, и просыпалась с бешено бьющимся сердцем, проспав всего час или полтора.
У постели никого не было, пуста была комната, звездный свет струился сквозь решетку. Айше хотелось встать, подойти к окну, посмотреть на звезды, найти взглядом светлую полоску Соломенной Дороги, которую арабы называют также Дарб Аль-Лаббана, Молочный Путь. И уйти по ней легкими шагами, уйти далеко в небо, туда, где нет ни страха, ни жестокости, ни потерь.
Но тяжелые веки падали, она снова засыпала и опять пробуждалась в ужасе и холодном поту, потому что кто-то стоял у постели.
Иногда, еще не проснувшись окончательно, она понимала, что тот, кто стоит над ней, не враг, не убийца, а кто-то из любимых, потерянных ею за последний год.
Отец смотрит на нее с ласковым прищуром, мама наклоняется и невесомо целует в лоб. Мехмед шепчет: «Я нашел под деревом птенца дрозда. Он уже оперился, но еще не летает, и лапка у него сломана. За ним нужно присмотреть, пока не поправится, – хочешь?» Айше хотела.
В такие ночи она плакала, но утром просыпалась заметно отдохнувшей. Тогда ей казалось, что надежда есть, что ее невозможное, несправедливое заточение может иметь и иной исход, кроме того, который все предполагали.
Сама ее юность нашептывала ей так – ведь только юные умеют надеяться, когда надежде нет места и быть не может. Хоть голова и сопоставляет, обдумывает и говорит «так будет», но сердце колотится и верит, верит вопреки всему, что будет не так, – не смерть, а ветер в лицо, и звезды, и свобода, и чья-то сильная рука, сжимающая твою ладонь.
Сердце верит, а горячая вера порой саму жизнь под себя подстраивает, создает обстоятельства, сглаживает невозможности и приводит тех, кто поможет, в ситуации, где помощь возможна.
* * *
Неширока река Ешиль-Ирмак, неглубока, несудоходна. С берега на берег стрелу добросит и мальчишка, а есть места, где, пожалуй, и девчонка с детским луком справится. Несет река свои зеленоватые воды в Черное море – мимо полей, лесов, деревень и городов. Стирают в ней белье, набирают для питья мутноватую, чуть сладкую воду, а кто побогаче – отводят выложенные камнем широкие желоба, по которым вода наполняет домашние бассейны – хаузы. У очень богатых, тех, кто живет в усадьбах еще византийских времен, это даже не желоба, а водоводы, закрытые трубы. Сейчас таких уже и не прокладывают.
Жаркое лето в Амасье, нет от жары облегчения приятнее, чем опуститься в прохладное водное блаженство прямо в собственном внутреннем дворе.
Ну а кто победнее, тот и прямо в речке искупается, лучше с лодки, где поглубже, а потом обратно залезет, отдуваясь. А потом сеть или удилище забросит. Если повезет, то и обед-ужин себе вытянет.
Сейчас осень. Но припекает сегодня совсем уж по-летнему. Даже странно: сперва шептались, что солнце столь огорчено смертью несравненного Мустафы, шахзаде и санджак-бея, что покрыло свой лик траурной чадрой, – а вот всю последнюю неделю оно вновь сияет, будто распаляясь предсвадебным пылом.
Стражнику, проходившему по стене, было жарко. Он завистливо глянул на двух подростков, рыбачивших с лодки в паре десятков локтей от дворцовой стены. Мальчишки переговаривались звонкими голосами, смеялись, вдруг один вскрикнул – упустил сеть, болван. Второй закричал на него: мол, чего зеваешь, ныряй за ней, может, еще достанешь. Парнишка плюхнулся в воду, исчез под поверхностью. Вынырнул, набрал воздуха, снова нырнул искать. Стражник покачал головой: ох, он бы своему за потерянную сеть всыпал, мало не покажется, – и пошел со стены в блаженную, манящую прохладой тень. Пусть мальчишки по дну шарят, от дна не убудет.
Поосторожнее бы все же. Ешиль-Ирмак река непростая, обманчиво спокойная, но с норовом, прячет под поверхностью и ледяные ключи, и опасные водовороты, и темные стремнины. Но, вздохнул стражник, своего ума другому не займешь, а судьбы все в руке Аллаха: и маленьких рыбаков, и его, потомственного дворцового чауша, и обреченной опальной принцессы, для охраны которой его и прислали из столицы.
– Пролезть в трубу можно. – Бек, отдуваясь, вынырнул у лодки. – Плечи пройдут – значит, и все тело протиснется.
В последний раз ныряя под дворцовую стену, он пробыл под водой так долго, что у Джанбал уже в голове начало мутиться от темного волнения. Она сперва пыталась отсчитывать мгновения, потом сбилась, еле дождалась, когда голова брата покажется над поверхностью.
– Ушел стражник?
– Ушел, – кивнула Джанбал. А потом ухватила Бека за руки и силой втянула в лодку.
– Ты чего? – Он возмущенно встряхнулся, показывая, что совсем не устал. – Сейчас немного передохну, а потом еще поныряю. Там решетка старая, крепления проржавели…
– Справишься без инструментов?
– Ага. Расшатаю, вытащу… Конечно, со стороны бассейна тоже будут прутья, но если весь этот водовод с бассейном одновременно делали, то и там их будет нетрудно расшатать.
– Это уже не твоя забота.
– Ну да, Джан. Не моя. Твоя…
Девушка снова кивнула. В детстве она гордилась тем, что силой и ловкостью не уступает брату, по ловкости-то все так и осталось, но вот силы у него теперь, на подступе к юности, конечно, куда больше. То есть ей там придется действовать не руками. Кинжал будет нужен, без него никак. Хотя лучше бы, конечно, зубило кузнечное…
– Кинжал во дворце, наверное, куда как легче будет отыскать, чем зубило… – пробормотал Бек. Они, само собой, сейчас думали одинаково.
– Ныряй уже, – прервала его Бал. – Скоро стражник в следующий обход пойдет. Думаешь, ему не покажется подозрительным, что мы тут с тобой второй час сеть ищем?
– Не скажи. – Джанбек покачал головой. – Вот Альтана, что из дома под платаном, отец так жизни учит за каждый разбитый горшок и потерянную серьгу, что тот…
– Ныряй, – строго повторила Бал.
Брат улыбнулся уголком рта, прыгнул в воду.
Джанбал подтянула к борту заброшенную раньше сеть и, хоть они были здесь совсем не ради рыбной ловли, не смогла сдержать возгласа восхищения: две большие белые кефали и одна редкого золотистого оттенка, со странными красноватыми глазами. Рыба билась сильно, не хотела умирать.
Джанбал вспомнила старую сказку про рыбину с золотой чешуей, которая если кого полюбит, то исполнит любое его желание.
– Пусть у нас с Айше получится бежать, – сказала она, глядя рыбе прямо в глаза. – Пусть меня никто не узнает и с моей семьей ничего плохого не случится.
Рыба замерла в ее руках, будто слушала внимательно и соображала, как бы получше выполнить желание Джанбал.
Девушка опустила ее за борт, и странная рыба сразу ушла в глубину, сильно изгибая тело.
Только тут Джанбал пришло в голову, что можно было бы просто пожелать лучшего мира, в котором султановы наследники не убивают и не казнят друг друга, а везде царят понимание, добро и любовь, как Аллах и задумал, этот мир создавая.
Наверное, можно было так пожелать, но рыба уже ушла в глубину, да и ерунда все это, старые сказки, просто рыбе повезло иметь необычный оттенок чешуи, вот и спаслась.
На себя только можно рассчитывать. Вот на Джанбека еще. И на бесконечную милость Аллаха.
– Я решетку вытащил из креплений и обратно поставил, – сказал Бек, отфыркиваясь и залезая в лодку. – Ее нужно будет сильно толкнуть изнутри. Труба узкая, руку вдоль тела можно не вытянуть, так что ныряй туда сразу руками вперед.
Джанбал передернуло при мысли, как просто будет в этой трубе им обеим захлебнуться и остаться там, пока не найдут и не опознают: стиснутыми, пучеглазыми, с уродливо вывалившимися наружу распухшими языками…
– Зачем поставил? – спросила она. – Лишнее препятствие.
– Затем же, зачем ее изначально ставили. – Джанбек пригладил мокрые волосы, открывая родинку у виска. – Чтобы рыба и прочая речная живность в бассейн не поднималась. А то пойдет купаться Адак-ханум, а там рыбы тычутся в ее прелести – холодные, склизкие…
– Прелести холодные? – Бал развеселилась, несмотря на неотступную тревогу. – Дурак ты все-таки. И мальчишка. Как был, так и не вырос…
– Ну, может, и так. – Джанбек посмотрел на нее серьезно, будто только сейчас осознавая, что все это не игра, не приготовления к большой шалости, что опасность реальна и велика. – Ты уверена, Джан?
– Да, Джан, – кивнула сестра, словно и не было у нее страхов и сомнений. – Погребли домой, еще многое надо сделать.
– Слушай, а ты как думаешь, когда Айше клялась, ну… наследников Хюррем со свету сжить и кровную месть… – Джанбек запнулся.
– Договаривай уж, – буркнула сестра.
Они уже подгребали к дому. Бал прикидывала, как бы ей половчее, ни с кем не столкнувшись, проскользнуть в свою комнату, чтобы никто не заметил, что на ней мальчишеская одежда.
– Она что… действительно это самое и имела в виду?
– Конечно, – удивилась Бал. – Такие вещи если говорят, то это из глубины сердца идет. Даже, наверное, так: будто и не ты сам, а тобою что-то руководит.
– Что?
– Ну… справедливость, например.
– Представить не могу. – Бек покачал головой. – Вот она проникает во дворец… ну, скажем, Баязида. Или Селима. Да кого угодно.
– Думаешь, это так легко?
– Думаю, наоборот, вообще невозможно. Но допустим. Идет по коридору с кинжалом, открывает дверь… И что же, размахивается и вонзает клинок в живого человека? Чувствует, как лезвие проходит в плоть, задевает ребра, вспарывает там, в глубине, печень или легкие? Айше, моя… наша Айше, так сможет? Я и представить этого не могу.
Джанбал помолчала, прищурилась на камыши, сильно загребла веслом. Лодка пошла вперед быстрее.
– Это потому, что ты не знал настоящей ненависти, – сказала она тихо. – И, милостью Аллаха, никогда не узнаешь. Такая ненависть приходит от отнятой любви. Представь себе, что кто-то убил меня. Ни за что, просто за то, что у меня такая кровь. И нет меня, лежу мертвая, а враги руки потирают. Как бы ты с этим жил и что бы хотел сделать с обидчиками?
Джанбек не ответил, но сжал свое весло так крепко, что костяшки побелели.
Некоторое время они гребли молча.
– Хорошо, что у нас кровь простая, – сказал Бек, когда они уже привязали лодку к маленькому причалу. – Ни от матери, ни от отца нет в наших жилах крови, за которую убивают.
– Точно знаешь?
– И знать не хочу. То, что было в прошлом, в далеких незнаемых краях, оно там и осталось, разве нет? И теперь мы свободны быть теми, кем хотим, правда?
– Да, это хорошо, – откликнулась Джанбал. И тронула на груди, под воротом рубахи, топазовый медальон, безошибочно ощутив его сквозь ткань.
Они оба, конечно, сейчас вспомнили о слезах моря и защитном камне острова Зебергед. Но это же совершенно другое, правда? Ведь так?
Брат пошел вперед по аллее, а она кралась в тени деревьев. У дома стоял Ламии, рассматривал куст поздних осенних роз редкого дамасского сорта «Слеза заката». Пахли они одуряюще. Старая служанка Динч-ханум всегда собирала и сушила лепестки, потом пересыпала ими одежду, и, открывая сундук, Бал с детства привыкла чувствовать их тонкий чарующий запах.
Ламии в теплом вечернем предзакатном свете вдруг показался Бал особенно высоким и – девушке вдруг вспомнились слова из какого-то дастана о достославных воинах: «Столь прекрасен он ликом и телом, что говорит луне: “Или ты всходи, или я взойду”». Она сейчас впервые о нем так подумала, но мысль, показавшаяся нелепой до смешного, не задержалась, тут же исчезла – Бек подошел к Ламии, отвлек его разговором, стал показывать пойманных кефалей. Бал проскользнула мимо них быстрой тенью: в арку, в коридор, в свою дверь. Уф, никого.
Через несколько минут Джанбал вышла из своей комнаты уже в девичьем наряде, расчесав густые волнистые волосы, освежив лицо розовой водой и наконец-то смыв с рук рыбный дух.
Джанбек и Ламии вошли в дом вместе, брат показал и ей двух больших уснувших рыбин, похвастался уловом. Бал чуть заметно скривилась, наморщила нос.
– Рекой пахнут, – сказала она. – Но молодец, что поймал. На кухню отнесешь?
– Нет уж, я поймал, а ты отнеси. – Бек взглянул на нее с мальчишеской зловредностью. – Пусть Динч-ханум их нам зажарит, кефаль сейчас вкусная, жиру на зиму нагуляла.
Был день пазар, воскресенье. Подготовка к побегу шла по плану.
В пазар-эр-тези, понедельник, они нарезали камыша и сейчас вязали из него длинные, как бревна, плавучие веретена.
– Вот так, смотри, – показал сестре Джанбек. – Не надо слишком ровно, ты же не рукоделием занимаешься. Когда мы закончим плотик, он должен выглядеть как плавучий островок. А у тебя, посмотри-ка, все такое аккуратное, прутик к прутику, будто гладью вышиваешь.
Плавучий островок… В это время года камыш уже сухой и хрупкий, течение ломает его, относит к берегам и сбивает в неряшливые кучи. Их потом мотает по всей реке. Вот так и должен выглядеть их плотик, Бек прав.
Однако нечего ему задаваться, мальчишке!
– Да уж, твое такое вышивание никакую ткань не украсило бы, – сказала Бал, оглядывая творение брата: камышинки торчали во все стороны, то здесь, то там виднелись почерневшие листья, подгнившая трава. Но выглядел кусочек плавучего острова действительно как настоящий, будто не мальчишеские руки его связали, а сбила темная, уже по-осеннему холодная вода, при одной мысли о которой Джанбал захотелось убежать в свою комнату.
И спрятаться под одеяло, от всех спрятаться, от всего. От мыслей об Айше и ее скорой смерти, о том, как та уже идет за ней, жадная, темноглазая. Гонит коня, щурится от ветра и яркого осеннего солнца. Или прямо сейчас пьет кофе, остановившись в караван-сарае по пути из столицы.
Надо успеть! Джанбал вздрогнула, принялась вязать стебли, как показал ей брат.
Ото всех можно спрятаться человеку, но от себя-то никогда не получится. И каким человеком окажется она, Джанбал, каким другом, решается именно сейчас.
– Вот здесь будут отверстия для ваших голов, – сказал Джанбек, показывая, как прикрыть дырку в плотике торчащим камышом. – Держаться надо будет руками снизу, вот так. Чтобы только лицо на воздухе было, только чтоб дышать можно. Холодно будет, наверное, ну да ничего, недолго, потом разотретесь, согреетесь. Лодку спрячем внизу по течению, под мостом. Я в ней ждать буду. Плотик привяжем под стеной, у водоотвода. Я вчера видел там место, где плавучий камыш сам собой собирается, ну, река приносит, какой с нее спрос. Станет его чуть больше на рассвете – никто и не поймет. А потом плот течением вниз понесет. Вместе с вами. Руками-то будете держаться, ногами направлять, чтобы к берегу не прибило. Не знаю уж, как Айше плавает, – он вдруг смутился, и Бал поняла отчего: вспомнил, как сестра чуть не затащила их всех купаться в бассейне, – но ты сильная, сумеешь. Да и не сразу вас хватятся, если повезет. А там и стемнеет уже. Если увидим, что погоня, я вас тут же в лодке рогожей прикрою, рыбы сверху набросаю, у меня будет с собой…
Джанбал слушала его спокойный, уверенный голос, кивала и сосала палец, сильно порезанный острым камышовым листом. У крови был тяжелый соленый вкус, как и у мыслей об ожидающем ее испытании.
* * *
В день салы, вторник, они собрали и спрятали в лодке одежду на двоих – простую, крепкую. Мужскую одежду, только мужскую. Ладно, пусть будет юношескую.
Для Айше был полный набор – штаны, куртка-чепкен из грубоватой, но крепкой шерстяной ткани, рубаха, пояс, чарыки из сыромятной кожи. Джанбек еще на прошлой неделе выменял их у своего приятеля, того самого Альтана, что из дома под платаном. Мальчишка принял оплату серебряным кольцом и хорошим ножом – отличная для него вышла сделка, за ношеные-то штаны и потертую обувь.
У самой Джанбал все давно было приготовлено. Они еще год назад утащили с веревки развешанную для просушки одежду, и на них не подумал никто: как Бал с Бек и предполагали, воровство списали на проходящего бродягу или странника в нужде. Амасья была полна и теми, и другими.
О побеге тогда и мыслей не было. Лишняя одежда нужна была близнецам для приключений, для вылазок в город, да мало ли для чего брату с сестрой придется одинаково одеться.
– Вот еще что для Айше, ей понадобится… наверное, – сказал Джанбек, краснея, как сразу три вареных рака. И показал Бал свернутую в тугой моток льняную полосу шириной в ладонь.
– Зачем? – не поняла Бал.
– Ну… – Это казалось невозможным, но Бек умудрился покраснеть еще сильнее. Даже уши загорелись. – Чтобы за мальчика или там за юношу сойти, ей придется… грудь бинтовать. Тебе-то не надо. – Он взглянул на сестру и тут же отвел глаза, внезапно смутившись незнакомым взрослым смущением. – А у нее уже… уже все при ней, ведь она старше тебя. Может, через два года и у тебя…
Бал смотрела на него, склонив голову и прищурившись. Джанбек потерял мысль, задохнулся от неловкости, махнул на сестру рукой, задвинул маленький моток поглубже под скамью. Туда же отправились два меха с водой, промасленный сверток с двумя ножами и кинжалом, драгоценности, завернутые в невзрачную тряпицу, на которую незнающий человек дважды и не посмотрит.
Уши Бека вернулись к нормальному цвету лишь добрый час спустя.
В день чаршамба, среду, Ламии принес то, о чем договаривались. Опийную настойку в вине, завязанную в специальный мех в виде пояса, каснак-сарап. Такими пользуются контрабандисты, перенося пьяное зелье, чтобы за сумасшедшие деньги продать тем из немногих неверных, кто не боится сурового наказания за нарушение законов султана, и еще более редким правоверным, кто не боится ни его, ни последующей кары на небесах.
Каснак-сарап обвязывают вокруг талии в несколько витков, сверху надевается просторная куртка – и вот, пожалуйста, идет по улице толстяк, в еде невоздержанный, жир на боках, как бурдюк, колышется. Что говоришь, Эрол-бей, только вчера его худым видел? Нет, ошибаешься ты, толстый этот человек, и кошелек у него толстый, вчера как раз сын его заносил, вот тебе твоя доля. Видишь же теперь, что обознался? Так-то.
– Жалею, что пообещал, – мрачно сказал Ламии, передавая бурдюк Джанбеку. – Хоть теперь скажи мне, зачем тебе такая опасная ноша? И сплетни об Адак-ханум я принес тоже, но пока не признаешься, зачем тебе это, я ничего не расскажу.
Они ушли подальше, в угол сада, ближе к реке и к их нагруженной всеми нужными предметами лодке. Бал подсматривала за парнями из окна, но в сад не спускалась – и так у Ламии лицо мрачнее тучи, думает-гадает, в какую опасность собирается влезть его «младший братик». А поймет или просто заподозрит даже, что и Джанбал, «младшая сестренка», на ту же неизвестную опасность нацелилась, вовсе с ума сойдет, все обещания нарушит, выдаст их родителям. Дороже чести для Ламии их безопасность, дороже собственной жизни. Особенно ее, Джанбал, безопасность.
Она сама не знала, как поняла это, не было ведь никаких особенных слов или взглядов, все было, как было всегда. Но знала, что не ошибается. Ламии, высокий, сумрачно-красивый, с детства привычный старший друг, и вправду чуть ли не брат, он сердце из своей груди вырвет и всю кровь отдаст по капле, если будет думать, что это ее спасет и убережет.
Бал вздохнула, отвернулась от окна. Вздрогнула: в дверях стояла мать.
Эдже вошла неслышно. Остановилась у порога – и, задумчиво улыбаясь, рассматривала дочь, как та секунду назад рассматривала Ламии.
– Когда же вы успели вырасти? – спросила она. – Я же помню, как вы рядом лежали, спеленутые, точно две куколки. Помню, как первые шаги делали. Ты утром пошла, а Бек – в тот же день, но ближе к вечеру. Помню, как вы нашли в саду мертвого дрозда и пытались его оживить, растереть, согреть, чтобы он снова ожил. Как вы плакали потом до самого вечера, впервые поняв, что смерть необратима и ждет каждого…
Мать вздохнула, подошла к Джанбал, обняла ее за плечи.
– Каждый день помню, и ваш, и свой, а все же очень быстро жизнь идет. Вроде бы и много времени, событий, мыслей каждый день вмещает, а оглянешься – ох, Аллах всемогущий, куда же годы подевались? Ведь еще вчера и мы такими были, как вы сейчас, и тоже замышляли проказы и вылазки. Опасные, конечно. Вы-то наверняка что-то опасное затеяли, я чувствую.
– «Мы»? – переспросила Джанбал. Она мало знала о семье матери, с кем та росла, кого любила раньше. Им с братом было твердо известно: о таком спрашивать не нужно. Но раз уж мать сама заговорила… – Кто это «вы», мама?
Эдже прикусила губу, будто сердясь на свою оплошность.
– Мы с Пардино, кто же еще, – сказала она. – Ох, он был отличным товарищем, даже когда был еще котенком.
У Джанбал на языке вертелись еще вопросы, но мать тут же перевела разговор на другое, давая понять, что удовлетворять праздное любопытство дочери отнюдь не собирается.
– На что ты так внимательно в саду смотрела? – спросила она, выглядывая из окна. К счастью, Ламии и Джанбека уже видно не было – то ли договорили и разошлись, то ли отошли в другую часть сада.
– На птиц, – ответила Бал. – Птицы летят. Свободные, быстрые, сильные. Все небо – их, нет им ни преград, ни законов.
Стая гусей пролетела низко, гогоча нараспев, вытянувшись длинным треугольником. Женщина и девушка долго молча смотрели им вслед.
– Помнишь, мама, ты рассказывала нам сказку про Багряную Ладонь? Про волшебника, которого подло и ужасно убили, но он годы спустя появлялся и помогал своим детям?
– Помню, – тихо отозвалась Эдже. – Конечно, помню. Тогда я сама еще не совсем ее понимала. Но теперь понимаю очень хорошо. И рада бы хуже – но не могу…
Она посмотрела дочери прямо в глаза.
– Нет в мире любви и ответственности сильнее, чем родительская. Где бы ни были дети, что бы с ними ни случилось, мать и отец всегда будут рядом. И если будет хоть малейшая возможность помочь, они с того света вернутся, всех джиннов, охраняющих посмертные врата, разбросают – и помогут, спасут, прикроют собой… Своей душой, если тела уже нет. Но пока оно есть, мы тех, кого любим, всегда носим с собой, в голове и в сердце.
Эдже погладила дочь по волосам, убрала прядь с лица, заправила за ухо, задержавшись взглядом на родинке у виска. Чему-то печально улыбнулась.
– Всегда помни о тех, кто тебя любит, дочь. Всегда.
В ночь на першембе, четверг, Джанбал спать не ложилась. Вечером со всеми попрощалась, стараясь держаться как обычно, хотя хотелось каждого обнять, прижать к сердцу, не отпускать никогда – и маму, и отца, и Ламии. И особенно Джанбека. Ох, больно ему будет, как будто она его предала. Или и вправду выходит – предала? Но ему нужно остаться дома, с семьей, с Пардино. С Ламии. За ними приглядывать, их радовать. Нельзя же у родителей сразу обоих детей отнять.
Один глаз человек потеряет – больно будет, но человек этот останется тем же, самим собой. Обоих глаз лишится – и жизнь изменится навсегда, прежнего себя он оставит во тьме, никогда больше не найдет.
Так и с родителями. Хотя бы один из детей должен у них остаться. Пусть это будет Бек.
– Послезавтра? – спросил Джанбек тихо.
– Послезавтра, – чуть кивнула Джанбал, мысленно снова прося у брата прощения.
Она выскользнула из дома поздним вечером, когда домашние еще не уснули, но уже разошлись по своим комнатам. Если с кем столкнется, скажет, что не спится ей, что хочет посидеть в садовой беседке. Такой же, как та во дворце, в которой они с братом ночевали, когда были совсем детьми. То есть целый год назад.
Да и в родном чифтлыке у них такая же беседка. Однако же не проводить им там больше ночей, даже если Бал вернется живой после… После. Из детства они перешагнули в юность. Пора им обретать привычки совершеннолетних: если не на реке, наедине друг с другом, так в доме, в городе, меж всех прочих людей.
Ночью из дома труднее выйти тихо – каждый звук слышен, каждый шорох, да и мимо комнаты Джанбека на мужской половине дома так просто не пройти. Там сегодня спит Пардино-Бей: насторожится, вскочит, разбудит брата. Ему-то, Пардино, не объяснишь, не обманешь его. Так что лучше уж с вечера улизнуть, пожертвовать последними часами уюта, тепла, привычного домашнего быта…








