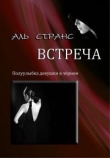Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Елена Серебровская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Цветы растут с первых дней весны. Медленно тянутся они вверх, медленно обрастает стебелек зеленым опереньем. Но если ударит солнце, если живительное тепло грянет на землю щедрым потоком, – цветы распускаются быстро, неожиданно, вдруг.
Не так ли и с детьми этих грозных лет, с детьми Великого Октября?
Маша читает, не останавливаясь. Вот Маттео отвел сына в лес. Мальчик произносит молитву. Он плачет, просит о пощаде. Гремит выстрел. Отец убил сына, совершившего предательство. Как страшно! Но так и надо.
Маша прочла последнюю строчку. Она потрясена. В глазах – тревога, губы сомкнуты. Страшное событие…
Они сидят молча, мать и дочь. Маша ни о чем не спрашивает: всё и так ясно из стихотворения. Мать ничего не говорит. У нее свои думы, свой долг, свои мучения. И перед тем, как встать и заняться домашними делами, она спрашивает дочку:
– Ты поняла, про что это?
– Поняла, – отвечает Маша, нахмурившись. Она берет сборник стихов с возросшим уважением: теперь она не будет дожидаться, всё прочтет, что там напечатано.
Но… как же это? До сих пор она думала, что убивать людей плохо. Так папа говорил, и вообще дома всегда бранили тех, кто убивает. А Маттео убил собственного сына, еще подростка, и это справедливо – предателя жалеть нельзя. Мама так считает. Интересно, что сказал бы папа? Он ведь очень-очень добрый.
Маша не знала, что больше года назад далеко-далеко на юге, в густом молодом сосняке ее добрый отец своею рукою убил человека.
Глава девятаяВечер. Сева спит в темной комнате, няня с ним. Маша лежит на диване и смотрит на потолок и стены.
Темно. Но вот на левой стороне возникает живой светлый квадрат. Он быстро движется, перебегает на заднюю стену комнаты, потом на правую, и исчезает. За ним со звоном и грохотом пролетает второй. Значит, на улице за окнами проехал трамвай. Можно долго лежать, вглядываясь в темноту, пока дождешься снова веселого звона за окном и увидишь бегущий по стенам светлый квадрат. И опять тишина.
Дверь темной комнаты открывается, на пороге няня. В левой руке у нее толстая свеча в медном подсвечнике, правой она прикрывает огонь, чтобы не погас от движения. Поэтому в середине комнаты – всё та же тьма, а лицо няни освещено, и вокруг нее – легкое зарево.
– Размечталась… Раздевайся и спать, – строго говорит она Маше.
Маша раздевается нехотя. В памяти проходят впечатления дня, мелкие и крупные, важные и незначительные. У Маши своя мера: ей может показаться важным то, что взрослые считают мелочью, и наоборот.
У Маши новая подруга, Люся Светличная. Она живет в доме напротив. Люся очень бойкая девочка, Когда недавно дома устраивали елку, Маша позвала четырех своих друзей со двора и двоюродных сестер, тети Наташиных детей. Стали играть. И вдруг вошла незнакомая Маше, никем не званая девочка лет семи, сняла в кухне пальто, поздоровалась с мамой и няней и спросила: «Можно мне поиграть?». Взрослые засмеялись и сказали «можно», и она побежала играть со всеми. Маша весело бегала с ней, играла в жмурки, в фанты, в хоровод, а потом спросила: «А тебя как зовут?», и девочка ответила бойко: «Меня Люся Светличная, а тебя Маша, я знаю».
Маша услышала от Люси важные новости. Оказывается, у всех девочек должны быть женихи.
– Обязательно? – спросила Маша недоверчиво.
– Обязательно, – ответила Люся.
– Откуда ты знаешь?
– От мамы. К ней часто в гости приходит жених. Это очень хорошо: мама тогда становится очень аккуратной – всё приберет чистенько, вымоется как следует, цветы поставит в вазочку. А мамин жених всегда приносит мне конфету и говорит, чтоб я шла погулять.
– И у тебя есть жених?
– И у меня. Виктор, племянник вашего хозяина. Только ты не говори ему, а то он набьет меня, если узнает, что он жених.
– А у меня нет… А кто это – жених? Зачем он?
– Жених – самый хороший мальчик. Который тебе нравится. Он затем, чтобы на него любоваться. Любоваться его красотой. Так надо.
– Ну, тогда мой жених – Сережка со Змиевской. Он лучше всех гоняет обручи.
Вчера на улице подруги гуляли вместе, и вдруг мимо пробежал Сережка. У Маши сердце громко застучало от волнения, а Люся засмеялась и крикнула: «Вон твой жених!» А Сережка рассердился и всей ладонью толкнул Машу в грудь, так что она упала навзничь в тающий сугроб. Со стороны Люси было не по-дружески выдавать чужие тайны. Маша обиделась на нее и решила ничего ей не рассказывать.
– Будь всегда правдивой, искренней, хорошей девочкой, – говорила мама. Но на деле мама не всегда хотела этого.
Как-то в присутствии гостей Маша воспылала необыкновенной нежностью к своей маме. Ей показалось, что ее мама лучше всех, красивей всех, добрее всех (и уж во всяком случае, лучше Магдалины Осиповны, сидящей сейчас в папином кресле). Девочка принялась обнимать маму и целовать ее в губы, щеки, глаза. Мама легонько отталкивала ее, но Маша еще настойчивей прижималась к милой маминой груди. Гости натянуто улыбались. А Магдалина Осиповна сказала: «ах, какая ласковая девочка». Наверно, ей было завидно, что целуют не ее.
Когда гости ушли, мама позвала Машу.
– Нельзя при всех показывать свои чувства, люди будут смеяться, – сказала она смущенно. – Надо сдерживаться. Воспитанные люди никогда не говорят слишком громко, не делают резких движений. А ты набросилась, точно не видела меня неделю. Надо сдерживать свои чувства… Так же, как нельзя при гостях просить еду, нельзя и целоваться ни с того, ни с сего.
Ни с того, ни с сего… Маша была задета за живое. Она не понимала, зачем надо сдерживаться. Она не знала сама, почему ей вдруг захотелось обнять свою маму и целовать ее, откуда пришла эта вспышка нежности. Но мамины слова были законом, Маша привыкла к подчинению. Ладно, она будет сдерживаться.
* * *
Зима уходила. Снег таял и снова выпадал, было хо лодно, но солнце блистало настойчивей и растопляло льды, неутомимо работая на весну.
В городе давно уже трепыхали на ветру красные кумачовые флаги. Белых прогнали, и советская власть установилась прочно. Брат хозяина уехал куда -то, – соседи его ненавидели и называли деникинским прихвостнем и шкурой.
От отца лак и не было никаких известий. Мама продолжала ожесточенно работать, но от волнения у нее очень рано пропало молоко. Чтобы Севочка не голодал, мама устроила его в детские ясли: его туда не носили, но няня ходила за его порцией, молока. Однажды, когда няня оказалась слишком занятой, послали Машу.
Маша хорошо знала, где помещаются ясли: это был дом какого-то бывшего богача. Богач удрал в Крым вместе с белыми, а дом советская власть отдала детям. На улицу выходила красивая ограда из чугунных прутьев. За оградой был садик, в глубине которого стоял дом.
Маша несла в руке голубой эмалированный кувшин. Был полдень, на заводе «Бавария» загудел гудок на обед. Мощное гудение стояло в воздухе, как будто исходило оно не из далекой заводской трубы, а из этих домов, из красивой чугунной ограды. Маша даже прислушалась: чугунные прутья звенели, как струны гитары. Казалось, они слегка дрожат от напряжения.
Вот и ворота. На них тоже чугунная решетка: одна половина закреплена неподвижно, другая полуоткрыта.
Маша подошла поближе, собираясь войти. Раздался лай. К воротам бежали три пса, – две огромные мохнатые дворняги и одна маленькая – коротконожка. В розовых пастях блестели белые острые клыки. Собаки лаяли, вытягивая морды в сторону, будто рассказывая кому-то, стоящему сбоку, о непрошенной посетительнице.
Маша испугалась. Собаки были почти-что с нее ростом и казались настоящими львами. На секунду она приостановила шаг. И вспомнила: а как та девушка, привязанная к столбу, о которой она читала недавно в книжке с оторванной обложкой? Не испугалась ведь. Надо быть героем и не бояться смерти, Севе нужно молоко. Кроме того, кто-то говорил, что от собак никогда нельзя убегать, надо смело идти на них.
Маша подумала: «Хорошо бы сейчас запеть „Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня” и с песней пойти вперед». Но запеть никак не удавалось, язык не слушался. Маша изобразила на лице презрение, сделала шаг, второй… Собаки были рядом, но лаяли уже вяло, неохотно, словно разочаровались, увидя маленькую девчонку. А потом они разбежались, каждая по своим делам.
Маша торжествовала. Нет, она не станет рассказывать взрослым, они не поймут, и потом – нехорошо хвастаться, надо сдерживать чувства… Побороть страх, не заплакать, не убежать от разъяренных собак! Конечно, они могли искусать ее, разорвать в клочья. Ах, как приятно чувствовать себя храброй!
Она принесла молоко домой, няня вскипятила его, накормила Севочку и он уснул.
Пришла Люся Светличная. Она старалась, как ни в чем не бывало, продолжать болтовню о женихах, но Маша не слушала ее. Обе сидели на широком белом подоконнике, свесив ноги. Люся смотрела на Машу, а Маша смотрела мимо нее на улицу.
И случилось чудо. К дому подошел человек в островерхом суконном шлеме с красной звездой на лбу. На его груди на серой шинели были нашиты красные полосы, как у богатырей из сказки о царе Салтане, и сам он был похож на возникшего из морской волны чудо-богатыря. Но это был Машин папа. Папа, о котором никто не знал точно, жив он или нет и где он.
Нет, она не забыла отца, хотя не видела его долго и за это время выучилась читать и писать. Она редко вспоминала о нем, но увидев – узнала. И тут с ней произошло непонятное, неестественное, такое, что удивило и няню, и отца, и ее самое.
Маша хотела рвануться с подоконника, выбежать на галерейку к дверям, встретить отца. И вдруг вспомнила мамин приказ: «надо сдерживать свои чувства. Нельзя при чужих обниматься…» А Люська чужая и притом болтунья. Выдала Сережке, что он Машин жених.
Всё Машино существо противилось этому маминому приказу – сдерживать чувства. И в этот трудный миг она словно кому-то назло, вздумала выполнить этот приказ, послушаться, сделать так, как велят старшие.
Но сдержаться совсем было невозможно. И неестественно спокойным голосом, не изменив выражения лица, Маша сказала подруге, поведя глазами на богатыря, спешившего к воротам:
– Между прочим, это мой папа.
– Врешь! – крикнула Люся совершенно не сдержанно. Она знала, как и все соседи, что Машиного отца забрали деникинцы и что о нем не было вестей.
Маше стоило огромных усилий – остаться на подоконнике. А уже хлопали входные двери. Уже вскрикнула и заплакала няня. А он спешил, не задерживаясь в прихожей и кухне, не раздеваясь. Торопился обнять дочерей, жену.
Он возник на пороге комнаты, широко раскрыв руки для объятий, ожидая, что Маша кинется к нему.
– Что же ты, доченька, не рада?
К тогда она спрыгнула с подоконника, обняла его колючую шею, прижалась к суконному богатырскому шлему, к коротеньким усам и заревела отчаянно громко. Тут была и радость от неожиданного открытия, что она не сирота, отец жив, и негодование на бестолковых взрослых, которые сами не знают, что запрещать, что разрешать, которые своими приказами заставили ее повести себя так бесчеловечно-холодно в такую счастливую минуту. Люси она уже не видела. Вцепилась в отца и на щеку ей капали его крупные теплые слёзы.
Отец опомнился первый:
– Ты отойди, родная, я с дороги, ехал в теплушке, в тесноте… Сейчас переоденусь, вымоюсь. А где Ниночка?
– Не сберегли мы Ниночку, – сказала няня, вытирая глаза.
– Что? – спросил папа, ничего не понимая.
– Умерла Ниночка от воспаления легких.
Отец мучительно свел брови. Большой небритый богатырь сразу превратился в несправедливо обиженного ребенка.
А Маша ринулась в темную комнату. Мамин приказ вылетел из головы бесследно. Сердце мгновенно подсказало ей: отец ничего не знает, он начнет горевать, но есть же и утешение, радость, есть Севка! Она распахнула дверь и сказала, таща его за руку к корзине:
– Смотри, смотри: у нас мальчик… Смотри, какой он хорошенький и умненький! Его Севой зовут.
* * *
Теперь в темной комнате спали папа и мама. Они закрывали вечером дверь и начинались бесконечные рассказы. Маша испытывала к родителям что-то вроде ревности: ее не звали в темную комнату, а всё только вдвоем и вдвоем. Словно ее и нету.
Но когда дверь не была закрыта плотно, до Маши долетали обрывки отцовских рассказов. Иногда она засыпала под голос отца, а иногда, вслушавшись в интересное, долго не смыкала глаз, долго ворочалась на кровати.
– Если б ты видела, Нюсенька, вагон, в котором я валялся в тифу, – доносился из-за двери отцовский голос. – Понимаешь, деревянные нары и мы – вповалку. Когда привезли меня туда, обнаружили воспаление легких. А на эту болезнь вагонов не предусмотрено. Тифозные были. И положили меня в вагон, где люди в сыпном тифу. Ты бы видела! Теснота, грязь, вши. Санитар наш, бывший парикмахер, этих насекомых «блондинками» звал, а блох – «брюнетками».
Валялся я там, бессловесный, не знаю сколько. Поезд куда-то ехал, один сосед по нарам умер, вынесли его на какой-то станции. И тут начал я познавать жизнь… Лежу, а ко мне офицер подходит. Смотрит мне на руку: «Что это у вас?» – «Часы». «Золотые?» – «Золотые». Он и придумал: «Я мог бы вам достать патентованное лекарство… американское, от тифа. Только стоит дорого». Ну, я ему и так, и эдак – достаньте. А медикаментов никаких, ухода никакого, прямая дорога на тот свет без пересадки. Я ему часы – крестной моей подарок – и отдал. Назавтра он принес мне двенадцать порошков, велел принимать три раза в сутки. Принял я и сразу распробовал: сода! Питьевая сода! А он с тех пор и не показывался.
– Золотые часы за осьмушку соды! – возмущается мама.
– Не такая уж дорогая цена за то, чтобы начать разбираться в политике. Ну, ладно. Болел я болел и стал потихоньку поправляться. Мужицкая кровь всё переборола. Не успел на ноги встать, как на смену сыпному тифу – брюшной. Мы все заболели, постель же общая, антисанитария… На этот раз трое умерло из моих соседей по нижним нарам. Как я выкарабкался, сам не знаю. Худой был, как Дон Кихот. Вот когда по мне строение скелета изучать удобно было!
Пока болел я, нагляделся на них. Пили зверски, специально в лазаретные вагоны за спиртом приходили. Нас не стыдились: кто без сознания лежит, кому на тот свет дорога – что тут церемониться. Один с девицей забежал… Трезвые-то заходить боялись, чтоб не заразиться, а как напьются – и горе не беда! «Фельдшер, дай спиритуса!»
Дело тут не только в вине – выпить и я умею. Дело в том, что у пьяного вся изнанка – наружу, тут-то и видно, кто чего стоит. Это была одна гниль, у них всё прогнило, всё, сверху до низу.
– Как же ты вырвался?
– Вырваться не хитро, а вот как прийти к красным, чтоб тебя не расстреляли по недоразумению, чтобы поверили тебе? Вот над чем я задумался. Когда оправился после болезни, настала моя череда оформляться: я же у них еще не зачислен был ни в какой род войск, больного взяли. Вот и сунули Меня в группу неподготовленных, артиллеристов из нас сделать решили. Дали нам офицера, чтоб учил, зашли мы с ним подальше в лес однажды… Ну, и ушли.
Отец замолчал. Мама спросила:
– А офицер не стрелял вам вслед?
Отец ответил не сразу:
– Он стрелял. Он убил одного нашего. Когда уходили, я шел последним, так заранее условились. Офицер крикнул мне: «– Лоза, смотрите, они дезертируют!» – и выстрелил. Он знал, что я интеллигент, и не думал, что я с ними. А когда он выстрелил и Никитченко повалился – это был тоже харьковский, один театральный кассир, – тогда я бросился на офицера, и мы упали… Он был поздоровей меня, я ж после тифа… Мы барахтались, и он стал вытягивать одной рукой кинжал из ножен. Ну, умирать мне не хотелось. Свобода близко, и вы ждете в Харькове. Нож-то и у меня был. Пришлось…
Наступила тишина. Молчали долго. Потом послышался тихий мамин голос:
– Не даром большевики постоянно говорят: борьба, борьба. Всё через борьбу приходит, и даже через кровь. Ужасно, но пока это так.
– У меня в тот миг и жалость пропала. Он же мог несколько человек пристрелить, сволочь белая.
Опять помолчали.
– А обмундирование нам у красных долго не давали, – почему-то сказал отец. – Ни сапог у них не было, ни одежды. Донашивали мы иностранные тряпки, только нашивки посрывали.
– Есть вещи поважнее сапог и одежды.
Отец говорил обстоятельно, подробно, и перед глазами Маши вставали картины: опушка леса у железной дороги. По траве меж кустов осторожно пробирается группа людей в поношенной солдатской форме. Все знаки принадлежности к белой армии, значки, нашивки – сорваны. Это уже не белые, но еще и не красные, им надо еще доказать делом, кто они такие, за кого они.
Вот рельсы, вдали станция. Видны теплушки, водокачка, а ближе к вокзалу – сказочный, знаменитый, весь расписаный агитпоезд Южного фронта. У станции часовые. Они замечают людей в лесу, кричат: «Стой, ни с места!» И Машин отец с товарищами поднимают руки вверх, все выстраиваются по росту перед часовыми. Их уже не десять человек, а двадцать пять, – по пути к ним присоединились другие, которые тоже «пробивались до красных». Часовой обыскивает их, отбирает оружие, и трое красноармейцев ведут их к вагону, где находится комиссар.
Ох, и вагон! Отец подробно описывал, как был украшен вагон агитпоезда. С одного края нарисован большой земной шар. Его опоясывает лента с надписью: «Владыкой мира будет труд!». Внизу по бокам – фигуры рабочего и крестьянина, подающих руки друг другу. Дальше – широкие лучи солнца, как алые стрелы, летящие во все стороны, они освещают силуэты фабрик и заводов. А на том месте, где обычно висит дощечка «Харьков – Симферополь» или «Харьков – Москва», укреплен плакат со стихами, выписанными киноварью на белом фоне:
Против вражьего напора
Ощетиним мы штыки,
Люду бедному опора
Наши красные полки.
Агитпоезд полон чудес: в одном вагоне, сделанном из теплушки, – театр. Откидная стенка, за ней сцена, – там разыгрываются целые спектакли. В другом вагоне – походная библиотека и бригада художников. Здесь – связки листовок, призывающих покончить с белыми, изгнать интервентов Антанты, защищать свободную Советскую землю и революцию; брошюры, отпечатанные в Харькове и Киеве, присланные из Москвы; рулоны бумаги, банки с красками. В главном разрисованном вагоне – салон и купе, в котором живет комиссар с женой и маленькой дочкой.
Комиссар стоял на подножке салон-вагона, когда красноармейцы привели перебежчиков. Он посмотрел на них внимательно, потом зашел в вагон. Был он лет тридцати, в фуражке со звездочкой, в светлосером суконном френче, галифе и русских сапогах. Из-под фуражки выбивался молодой темнорусый чуб. Голова у комиссара была крупная, крупные губы и нос, широкие, вразлет, густые брови, глаза прищурены.
Борис Петрович думал, что комиссар начнет разглядывать приведенных им людей, расспрашивать. А он ушел в вагон и туда по очереди приглашал на допрос всех перебежчиков. С каждым говорил наедине, с иными подольше, иных отпускал после двух-трех вопросов.
Борис Петрович сидел в салон-вагоне долго, словно сам оттягивал конец беседы. Комиссар изучал его, а он придирчиво приглядывался к комиссару, стараясь найти в нем недостатки или неприятные, черты. Он не хотел найти эти черты, но с давних пор приучил себя беспристрастно исследовать всё новое, и потому старался преодолеть возникающую симпатию и найти в этом человеке плохое. Комиссар разговаривал с ним немного свысока, – но как же иначе и могло быть! Ведь он беседовал неизвестно с кем, с белым, которого видел впервые: может, шпионить подослан?
– Почему вы перешли к красным?
– Разобрался, наконец, в своих политических взглядах.
– А когда в добровольцы шли, не разбирались?
– Взят был больным, насильно.
– Что ж хорошего нашли у нас?
Комиссар всматривается в него, ожидая ответа.
– То, что вы против иностранных интервентов, против Антанты.
– И больше ничего?
– Нет, почему же… И еще кое-что. Но это – главное. Я привык думать, что служу не лицам, не правительствам, а родине…
– Хорошие слова. Но слово «родина» в ходу у всех. Надо ж когда-нибудь научиться различать: кто правду говорит, а кто спекулирует на хорошем слове.
Борис Петрович отвечал на вопросы, мысленно примерялся придраться к комиссару, но не сумел и вздохнул облегченно. Во время разговора дверь в салон отворилась без стука и вошла маленькая девочка в странном костюме: на ней была дамская вязаная кофта с подвернутыми длинными рукавами, явно широкие, с взрослого, чулки и прямо на чулках – галоши. Она держала обеими руками серого пятнистого котенка. Личико ее сияло. Девочка сказала комиссару:
– Папа, Мурка нашлась!
Комиссар встал из-за стола, подошел к девочке, погладил ее по голове, повязанной клетчатым платочком, и сказал негромко:
– Ну, вот и ладно. А теперь иди домой, в наше купе, и посиди там, пока я освобожусь. Скушай хлебца, там в газете завернут.
Девочка послушно прошла в другую дверь. «А что же матери не видно? – подумал Борис Петрович. – Ребенок без присмотра, а мамаше невдомек».
Очень скоро он узнал от красноармейцев о семейных обстоятельствах жизни комиссара: жена его опасно заболела в дороге. Ее увезли в больницу еще в Кременчуге. К тому же на днях салон-вагон обокрали, унесли узел с одеждой, – разве есть у комиссара время следить за своим барахлом, когда бой за революцию идут?
Задержавшись глазами на анкете перебежчика, заполненной сидевшим рядом писарем, комиссар спросил:
– Лекцию прочитать сможете? Против поповских россказней, что всё бог создал и так далее? Лекцию о том, откуда произошла жизнь на земле?
– Могу, – обрадованно ответил Борис Петрович. – Когда?
– Сегодня вечером. Только чтоб понятно было народу. Я тоже слушать буду. Идите. Вам скажут, в какой вагон.
Борис Петрович ушел, окрыленный. Он ждал на первых порах жесткого допроса, ждал, что и под арест могут взять. Но комиссар безошибочно понял, что за человек перед ним, и сразу нашел ему дело.
Борис Петрович читал лекции красноармейцам и жителям окрестных станций, где останавливался агитпоезд. И как-то само собой вышло, что в конце лекции о происхождении жизни на земле он всегда поминал недобрым словом международную гидру капитализма, которая протянула щупальцы к молодому Советскому государству. Буржуев он сравнивал со спорыньей, с паразитами и вредителями природы, которые питаются чужими соками и губят живую жизнь. «Красная Армия гонит с нашей земли всех наймитов, и таким образом, Красная Армия защищает жизнь на земле, чтобы эта жизнь продолжалась и расцветала!» – заканчивал он. И слушатели били в ладоши, соглашаясь, что да, жизнь будет расцветать, а гидре капитализма нечего делать в советской стране.
А потом он вспоминал свой обратный путь. Он пересек просторы родной земли в красной теплушке, под мерный говор солдат, под маршевые звуки солдатских п есен. Он видел заброшенные, заросшие сорняком поля, разбитые кирпичные дома, следы пожаров и сражений.
Худые веселые люди в изорванных шинелях, подтянутых ремнем, бодро хватали лопаты и копали мерзлую землю, другие перетаскивали бревна, приводили в порядок захламленные железнодорожные пути. Такие картины он наблюдал и в дни праздников, в воскресенье, и с удивлением узнавал, что работают люди в этот день бесплатно, хотя никто их не заставляет. Почему? – спросить было некого, комиссара поблизости не было. Однажды Борис Петрович и сам выскочил из вагона и помог разгружать вагон дров.
Смутные догадки взбадривали душу, и тогда ему казалось: люди, добровольно работающие ради общего дела, – вот самое волшебное, что создала советская власть.
Рассказывая Анне Васильевне о своей судьбе, Борис Петрович не раз снова и снова вспоминал о допросе и о девочке в кофте с отвернутыми рукавами. Жива ли ее мать, отделенная от них сотнями верст? Ни лекции, прочитанные из вагона агитпоезда, ни дальнейшая служба писарем в армии, куда он был направлен, не оставили более сильных и прочных впечатлений, чем первая беседа с комиссаром в салон-вагоне агитпоезда.