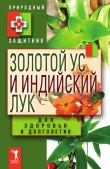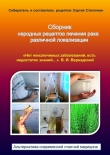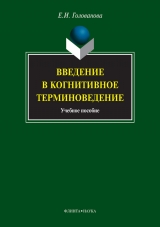
Текст книги "Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие"
Автор книги: Елена Голованова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
2.3. Когнитивная сущность термина
Отечественное терминоведение с момента своего возникновения отличалось пристальным вниманием к вопросам теории термина, его места в языке, в системе знаний. В последние десятилетия издан ряд обобщающих работ, посвященных этим проблемам[64]64
См., например: Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. М, 1989; Они же. Общая терминология: Терминологическая деятельность. М., 1993; Комарова А.И. Язык для специальных целей (LSP): теория и метод. М., 1996; Султанов А.Х. О природе научного термина. М, 1996; Татаринов В.А. Теория терминоведения: в 3 т. Т. 1. Теория термина: история и современное состояние. М, 1996; Лемов А.В. Система, структура и функционирование научного термина (на материале русской лингвистической терминологии). Саранск. 2000; Буянова Л.Ю. Термин как единица логоса. Краснодар, 2002; Морозова Л.А. Терминознание: основы и методы. М, 2004; Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2006 и др.
[Закрыть].
С появлением когнитивного подхода к анализу терминологических единиц в конце XX – начале XXI в. совокупности терминов рассматриваются в понятиях теории познания как результат когнитивной деятельности специалиста. Вместе с тем требует обоснования и разработки взаимосвязанный с данным аспектом коммуникативный подход, позволяющий видеть в термине необходимый инструмент профессиональной коммуникации, средство актуализации профессиональных знаний в процессе деятельности. Иными словами, необходимо рассмотреть вопрос о природе и свойствах термина как когнитивно-коммуникативной единицы языка.
Теоретической основой данного подхода является положение о деятельностной природе языка, в соответствии с которой язык рассматривается как когнитивный процесс, осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу[65]65
Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
[Закрыть].
Проблема установления специфики термина как языкового знака оказывается в русле общего направления современных лингвистических исследований: в связи с углублением когнитивной ориентированности изучения языка встала задача выявления видов и типов языковых знаков, видов и типов знаний, представленных в этих знаках, и механизмов извлечения из знаков этих знаний, т.е. правил интерпретации и условий возникновения и развития знаков, а также принципов, регулирующих их функционирование[66]66
Кравченко А.В. Четыре тезиса к новой философии языка // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: тез. междунар. науч.-практ. конф. Челябинск, 2001. С. 5 – 6.
[Закрыть]. Разные типы знаков отражают определенные аспекты концептуальной картины мира и соответственно – разное знание о мире. Важно выяснить, что определяет с этих позиций своеобразие термина; какие признаки, свойства, функции выделяют его среди других языковых единиц.
Как известно, в языке объективируются результаты познавательной деятельности людей, но познавательная деятельность отдельного человека, осуществляемые им процессы восприятия, категоризации и концептуализации объектов находятся в тесной зависимости от накопленного индивидуумом (или шире – социальной группой, в состав которой он входит) опыта и во многом определяются им. В частности, обнаруживается зависимость значения от восприятия и восприятия от категоризации, а также влияние опыта на узнавание объектов и их категоризацию. Различия в опыте ведут к различиям в знании, а через них – к разным картинам мира[67]67
Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. Иркутск, 2001.
[Закрыть].
Попробуем определить, какого рода опыт закреплен в термине. Если в основе информации, объективированной средствами общеупотребительного языка, лежит разнообразный опыт взаимодействия людей друг с другом и со средой, не замкнутый рамками одной профессии или полученный вне профессии, то термины в первую очередь являются оязыковленной информацией, полученной в результате опыта взаимодействия человека с предметным и виртуальным миром в процессе конкретной профессиональной деятельности.
Профессиональный опыт – это опыт, который не передается генетически, который не может быть воспринят бессознательно, автоматически. Этот опыт приобретается рефлексирующим сознанием в процессе целенаправленной деятельности индивидуума. Интенсивность указанного процесса обусловлена интересом человека к той или иной профессиональной области. Профессиональный опыт носит типизированный характер, поскольку ситуация, в которой он получен, является типичной для данной профессии. Стереотипность ситуации способствует созданию регулярных моделей номинации тех или иных объектов, процессов и отношений.
Сфера профессиональной деятельности, как отмечалось выше, обслуживается специальным языком – языком профессиональной коммуникации, ядро которого составляет терминология. Она концентрирует в себе его основные признаки и свойства. Под профессиональной коммуникацией мы понимаем коммуникацию в рамках профессиональной сферы между представителями определенных профессий (а также между представителями родственных профессий). Целесообразно разграничивать профессиональную коммуникацию трех типов: обучающую, познавательную и собственно деятельностную (включенную в профессиональную деятельность). Иными словами, нами различается коммуникация в процессе обучения профессии, коммуникация для решения профессиональных задач, коммуникация в процессе деятельности.
Институт ученичества (наставничества) – важный момент в процессе формирования и функционирования языков профессиональной коммуникации. Модель «ученик – помощник – мастер», описывающая ступени профессионального становления человека, является универсальной для всех областей деятельности. При этом именно количество и качество специального опыта, степень включенности в сферу профессии через язык определяют формирование специалиста как профессиональной личности, а вместе с тем возможность продуцирования им языковых репрезентаций профессионально значимых смыслов.
Хотя опыт каждого человека индивидуален, однотипность ситуаций, регулярность их повторения в определенной области деятельности создает условия для группового социального опыта. Люди, вступающие во взаимодействие на основе имеющегося у них опыта, вырабатывают единый «язык», состоящий из языковых репрезентаций известного им опыта. «Ограниченность» подобного языка связана с групповой посвященностью в него узкого круга специалистов на основе общего опыта. Именно опыт является источником определенного круга выработанных на его основе языковых репрезентаций.
Важнейшее условие овладения профессией – усвоение определенного количества информации о присущих данной области предметах, процессах и отношениях, однако для того, чтобы считать человека профессионалом, этого недостаточно. Высококвалифицированный специалист не только владеет необходимым набором знаний, но умеет также адекватно действовать в определенных условиях, т.е. обладает способностью контролировать ситуацию и управлять ею. Значимость термина при этом чрезвычайно велика, ибо термин как когнитивно-коммуникативная единица знаковой природы «задает программу деятельности и поведения»[68]68
Дридзе Т.М. Прогнозное социальное проектирование как этап управленческого цикла: от жизненных ресурсов человека к социальным ресурсам общества//Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические проблемы. М., 1994. С. 35.
[Закрыть] участникам профессиональной коммуникации. Таким образом, в термине оказывается органично воплощена связь с профессиональным знанием и профессиональной деятельностью.
Как отмечает А.А. Уфимцева, «главная функция языкового знака состоит в том, чтобы посредством знаковой репрезентации удовлетворять основным отражательным и мыслительным процессам, опосредованно и абстрагирование представлять мыслительное содержание, исторически закрепляющееся за знаком в виде общего для членов коллектива значения, и на этой основе обеспечивать коммуникацию во всех сферах человеческой деятельности»[69]69
Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М, 1974. С. 9.
[Закрыть].
Термины – это единицы языков профессиональной коммуникации, соотносительные с соответствующими единицами сознания, которое нельзя рассматривать в отрыве от деятельности. Каждая система терминов представляет собой когнитивно-логическую модель той или иной области человеческого знания и деятельности. Отражая познавательный опыт конкретного сообщества людей, термин, как отмечает М.Н. Володина, обеспечивает возможность конвенциональной ориентации специалистов[70]70
Володина М.Н. Теория терминологической номинации. М., 1997.
[Закрыть].
Языки, обслуживающие различные области профессиональной деятельности, рассматриваются нами как особые когнитивно-коммуникативные пространства. В основе организации каждого такого пространства лежит комплекс значимых концептов, категорий и субкатегорий. Поскольку термины составляют ядро языков профессиональной коммуникации, именно они служат главным средством концептуальной ориентации в когнитивно-коммуникативном пространстве, задают направление мыслительной деятельности специалистов, служат одновременно ориентиром мышления и ориентиром деятельности.
В термине как языковом знаке аккумулировано знание трех видов: языковое (являющееся результатом обыденного познания), рациональное (рационально-логическое, энциклопедическое, научное – в широком смысле) и собственно специальное (основанное на профессиональном опыте и возникшее как результат профессионального познания). Таким образом, каждый из видов знания, репрезентированных в термине как языковом знаке, основан на определенном опыте взаимодействия человека с миром. В соответствии с перечисленными видами знания мы выделяем следующие разновидности опыта: 1) опыт, полученный в процессе естественной коммуникации (опыт пользования естественным языком); 2) опыт рациональной интерпретации мира, полученный в процессе формального обучения и (или) являющийся итогом работы рефлексирующего сознания; 3) специальный опыт, приобретенный в рамках профессиональной коммуникации (в естественных условиях профессиональной деятельности).
Если единицы общелитературной (шире – общеупотребительной) лексики отражают в своем содержании множественность картин мира, бесконечное разнообразие интерпретаций реальных и виртуальных миров, то каждая отдельная термине система репрезентирует собой «профессиональную картину мира», т.е. пространственный образ составляющих профессиональной сферы в единстве их связей и отношений.
Возникает вопрос о границах профессионального пространства, внутри которого, естественно, функционирует термин, о сфере, противопоставленной ему по ряду существенных признаков. Наиболее очевидна оппозиция «бытовое» – «профессиональное». Две эти сферы составляют единство человеческого мира. Человек выступает как совокупность биологической и социальной системности. Бытовой мир человека («ближний мир») воплощает соединение его биологической системности с социальной; мир преобразующе-деятельностный («дальний, внешний мир») – единство функциональной системности и системности природно-заданной (объективных физических и других законов). Первый обеспечивает процесс сохранения, поддержания биологической и социальной целостности человека, второй – процесс изменения, преобразования внешнего мира, в результате которого он становится более понятным, менее враждебным для человека.
Быт – это то, что объединяет всех людей без исключения, поскольку он связан с обслуживанием биологических потребностей человека. Это интегративная – по структуре, но полиморфная – по наполнению – область человеческой жизнедеятельности. Она различна лишь настолько, насколько различны национально-культурные особенности социумов, но структура потребностей в целом едина. Мир небытовой, профессиональный являет собой функциональное разнообразие человека, его структура носит полипарадигмальный характер (при сравнении различных сообществ), но в то же время обнаруживаются общие черты между носителями сходных функций в разных сообществах.
Бытовое и небытовое содержание деятельности человека по-разному интерпретируется и соответственно оформляется в языке. Например, в ряде языков наблюдается факт ранней профессионализации деятельности кузнеца, что обусловлено специфическим, отнюдь не бытовым характером его труда. В данном случае отражена определенная закономерность: небытовое осмысление деятельности стимулирует включение ее в категорию профессий. Наоборот, близость к бытовому опыту – фактор, препятствующий осознанию деятельности как профессиональной. В качестве примера можно привести позднюю языковую интерпретацию земледелия как профессиональной сферы в ряде языков или отмеченный О.Н. Трубачевым факт позднего становления ткачества как «подлинного ремесла» вследствие его «стойкого домашнего характера»[71]71
Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках: (Этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966. С. 7.
[Закрыть].
Противопоставление бытовых и профессиональных сфер коммуникации подразумевает противопоставление доминирующих типов мышления: чувственно-образного и вербально-логического (оппозиция которых представлена в строении нашего мозга: право– и левополушарные структуры). Первый тип мышления лежит в основе наивной картины мира, второй тип преобладает в профессиональном мышлении, что связано со стремлением к упорядочению творимого человеком мира. Осознанность, планируемость, «идеальность» совершаемой человеком деятельности требует применения логических механизмов.
Как убедительно показала Л. А. Манерко, бытовое и рациональное знание связаны[72]72
Манерко Л.А. Язык современной техники: ядро и периферия. Рязань. 2000.
[Закрыть]: они являются результатом параллельных видов познания и сосуществуют в мозгу человека. Более того, научное познание опирается на результаты обыденного познания, ибо последнему, как отмечает В.В. Лазарев, «принадлежит решающая роль в формировании сознания и языка не только в филогенезе, но и онтогенезе современного человека»[73]73
Лазарев В.В. К теории обыденного/когнитивного познания (От Коперника к Птолемею) // Вестн. Пятигор. гос. пед. ун-та. 1999. С. 28.
[Закрыть]. Суть процесса познания именно в том и состоит, что новое понимается через старое.
На связь между научным и обыденным познанием указывал В.В. Виноградов: «Между словарем науки и словарем быта существует прямая и тесная связь. Всякая наука начинается с результатов, добытых мышлением и речью народа, и в дальнейшем своем развитии не отрывается от народного языка. Ведь даже так называемые точные науки удерживают в своих словарях термины, взятые из общенародного языка (вес, работа, сила, тепло, звук, свет, тело, отражение и т.п.)»[74]74
Виноградов В.В. Вступительное слово (на Всесоюзном терминологическом совещании) // Вопросы терминологии. М., 1961.
[Закрыть].
Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин определяют различие между бытовым и научным понятиями степенью существенности отражаемых признаков предмета, степенью проникновения в сущность отражаемых предметов[75]75
Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М, 1987.
[Закрыть]. В соответствии с такой точкой зрения бытовое и научное понятия оказываются в отношениях взаимосвязи и взаимообусловленности, выступают как разные ступени развивающегося понятия и восходят к общей основе – исходному представлению (начальной точке познания). Их соотношение можно сравнить с соотношением «ближайшего» и «дальнейшего» значений в теории А.А. Потебни. Отсюда специальное понятие – это достигшее определенного уровня зрелости знание о том или ином предмете, явлении, отношении реальной действительности. С позиций конкретной исторической эпохи и этапа в развитии науки этот уровень характеризуется как высший (ср. с определением термина как знака специального понятия у П.А. Флоренского: «зрелое слово», «высшее слово»).
Таким образом, и по семиозису, и по функционированию термины связаны с профессиональным характером деятельности. Остановимся более подробно на важнейшей, конституирующей функции термина – функции ориентации в структурах специального знания.
2.4. Ориентирующая функция термина
С лингвистических позиций особенности термина как языкового знака впервые получили обоснование в работах Г.О. Винокура и А.А. Реформатского. Именно им принадлежит заслуга введения в научный языковедческий обиход терминологической проблематики. Проблемы сущности термина, его отличия от обычной лексики, функциональная сторона специальных слов находились в центре внимания ученых. По мнению Г.О. Винокура, «термины – это не особые слова, а только слова в особой функции»[76]76
Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. Моск. гос. ин-та истории, философии и литературы. 1939. Т. V. С. 5.
[Закрыть]. Под последней ученый понимал номинативную функцию, специфика которой обусловлена «прочной логической основой» терминологии[77]77
Там же. С. 8.
[Закрыть].
На особые функции термина указывал в своем определении А.А. Реформатский: «Термины – это слова специальные, ограниченные своим особым назначением»[78]78
Реформатский А.А. Введение в языковедение. 4-е изд. М, 1967. С. 110.
[Закрыть]. Ученый приписывал термину выполнение номинативно-семасиологической функции, ибо термин не только называет вещи или явления, а выражает понятия.
Примечательно, что оба лингвиста при решении сложнейшего вопроса теории термина одновременно коснулись такого свойства терминологии, как системность. Г.О. Винокур писал: «Отдельные термины должны находиться в отношении взаимной гармонии. Они перестают быть простым собранием более или менее значительного числа слов, по случайным обстоятельствам оказавшихся в соседстве друг с другом, подобно тому, как в словарях рядом оказываются слова, не имеющие между собой ничего общего, кроме внешней алфавитной связи. Между предметным значением терминов одного круга возникают определенные семасиологические связи, и все они в совокупности образуют известную систему, в которой можно установить некоторые закономерно сти»[79]79
Винокур Г.О. Указ соч. С. 6 – 7.
[Закрыть].
К сходным мыслям приходит А.А. Реформатский: «Термины существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии...»[80]80
Реформатский А.А. Указ. соч. С. 110.
[Закрыть]; вне терминологии «слово теряет характеристику термина»[81]81
Цит. по: Татаринов В.А. История отечественного терминоведения: в 3 т. Т. 1: Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. М., 1994. С. 307.
[Закрыть]. «Если обычные слова языка все-таки системны, это не значит, что их системная характеристика математически идеальна. И в словообразовании, и в словоизменении мы постоянно наталкиваемся на нарушение парадигм, на участие супплетивизма и других проявлений грамматической непоследовательности. Как раз это все не отвечает идее термина, который должен быть и лексически, и морфологически сугубо систематичен, способен к образованию производных и максимально парадигматичен в плане нормальной и типовой парадигмы»[82]82
Там же. С. 312.
[Закрыть]. Итак, оба ученых видели отличительную особенность термина в его связи с системой понятий.
В дальнейшем эта связь по-разному интерпретировалась языковедами в функциональном аспекте. Так, В.В. Виноградов усматривал у терминов наличие особой, дефинитивной функции: слово выполняет «номинативную или дефинитивную функцию, т.е. или является средством четкого обозначения, и тогда оно – простой знак, или средством логического определения, тогда оно – научный термин»[83]83
Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М.. 1972. С. 16.
[Закрыть]. На основе идеи В.В. Виноградова о дефинитивной функции терминологических единиц возник ряд определений термина, в которых дефинитивность провозглашалась как его обязательное свойство[84]84
См., например: Капанадзе Л.А. О понятиях «термин» и «терминология» // Развитие лексики современного русского языка. М., 1965. С. 80; Герд А.С. Основы научно-технической лексикографии. Л., 1986; Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Изд. 2-е. М., 1983. С. 175.
[Закрыть], а представителями научной школы МГУ на основе дефинированности был выдвинут критерий терминологичности лексики. На сочетание в термине номинативной и дефинитивной функций в своих работах указывали К. А. Левковская[85]85
Левковская К.А. Теория слова. Принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М., 1962. С. 197.
[Закрыть] и В.П. Даниленко[86]86
Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. М, 1977. С. 8.
[Закрыть]. Правда, наряду с номинативно-дефинитивной функцией термина В.П. Даниленко отмечала гносеологическую и информационно-коммуникативную функции языка науки в целом.
В «Историческом систематизированном словаре терминов терминоведения» С.В. Гринева наряду с номинативной и дефинитивной функциями приводится еще 21 терминологическая функция[87]87
Гринев С.В. Исторический систематизированный словарь терминов терминоведения. М, 1998. С. 55 – 56.
[Закрыть], что свидетельствует о многоообразии аспектов исследования термина и его свойств. Ряд функций соответствует собственно терминоведческому подходу к термину, разрабатываемому С.В. Гриневым в ряде работ: это методологическая, диагностическая, прогностическая, моделирующая, систематизирующая, депонирующая функции термина, а также функция фиксации уровня знаний. На наш взгляд, возможно объединение большинства названных функций в рамках общей когнитивной функции термина, поскольку она связана с процессами получения, переработки, сохранения и трансляции специального знания, заключенного в содержании термина. Полагаем также, что в эту группу целесообразно включить такие функции, как коммуникативная (функция передачи знания), информационная (информационно-коммуникативная), эвристическая (функция открытия нового знания), прагматическая и дидактическая (объяснительная, педагогическая, учебная).
Особняком стоят идеологическая и экспрессивная функции термина, поскольку они, на наш взгляд, не связаны с сущностью терминологии и реализуются при использовании термина, главным образом, вне языка для специальных целей.
Число и состав терминологических функций в работах последних лет также имеют значительные расхождения. Так, например, в монографии О.В. Борхвальдт утверждается наличие у термина трех основных функций – номинативной, дефинитивной и сигнификативной[88]88
Борхвальдт О.В. Историческое терминоведение русского языка. Красноярск, 2000. С. 43.
[Закрыть]. По мнению А.В. Лемова, в число существенных характеристик термина входят номинативная, сигнификативная, идентификативная, дистинктивная, дефинитивная, коммуникативная, информативная, прагматическая функции и функция управления[89]89
Лемов А.В. Компоненты системы научного термина как лексической единицы // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2001. С. 138 – 139.
[Закрыть]. Л.М. Алексеева усматривает основную функцию термина в его стремлении быть средством вербализации результата познавательной деятельности ученого[90]90
Алексеева Л.М. Мотивированность как атрибут термина // Терминоведение. М., 1997. Вып. 1 – 3. С. 19.
[Закрыть].
На наш взгляд, имеет смысл выделить лишь те функции, которые составляют специфику термина в его соотнесении с остальными лексическими единицами языка. Это значит, что ни номинативная, ни сигнификативная, ни коммуникативная функции не являются релевантно значимыми для термина. Безусловный интерес представляет лишь та группа функций, которая непосредственно связана с выражением термином когитальных процессов. Сошлемся на мнение В.А. Татаринова: «Терминология как один из инструментов научного познания имеет наиболее тесную связь с мыслительными категориями, являясь одновременно как формой их бытия, так и способом их осуществления»[91]91
Татаринов В.А. Теория терминоведения: в 3 т. Т. 1. Теория термина: история и современное состояние. М., 1996. С. 227.
[Закрыть].
Одной из важнейших в ряду когнитивных функций является, на наш взгляд, не получившая до сих пор достаточного освещения ориентирующая функция термина[92]92
Впервые на эту функцию термина обратил внимание Д.С. Лотте, использовавший характеристику «правильно ориентирующий термин», т.е. такой, в котором отражены наиболее существенные признаки предмета (Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. М.. 1961. С. 24 – 27). Из современных лингвистов на ориентирующие свойства термина указывает А.В. Лемов. См.: Лемов А.В. Система, структура и функционирование научного термина (на материале русской лингвистической терминологии). Саранск, 2000. С. 63 – 64.
[Закрыть].
Выделение ориентирующей функции у термина диктуется как природой самого терминологического знака (согласно Р.И. Павиленису, процесс человеческого познания есть процесс расширения физической и духовной ориентации человека в мире[93]93
Павиленис Р.И. Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. М, 1983. С. 241.
[Закрыть]), так и актуализацей в современной лингвистике пространственной парадигмы знаний. Как отмечает Е.С. Кубрякова, пространственная метафора «во многих отношениях полна глубокого смысла, и отнюдь не случайно, что сегодня она используется как для характеристики языка в целом, так и для уточнения отдельных его составляющих»[94]94
Кубрякова Е.С Язык пространства и пространство в языке: (к постановке проблемы) // Известия РАН. Сер. лит. и яз.. 1997. Т. 56. № 3. С. 22.
[Закрыть].
Представляется рациональным рассматривать с этих позиций языки для специальных целей, обслуживающие различные области профессиональной деятельности людей, как особые когнитивно-коммуникативные пространства. В основе организации каждого такого пространства лежит комплекс значимых концептов, категорий и субкатегорий. Поскольку термины составляют ядро языков для специальных целей, именно они служат главным средством концептуальной ориентации в когнитивно-коммуникативном пространстве, задают направление мыслительной деятельности специалистов, служат одновременно ориентиром мышления и ориентиром деятельности.
Ориентирующая сущность терминологии проявляется уже в момент создания термина, а затем актуализируется в различные моменты его функционирования (например, в ситуации трансляции профессионального знания). Номинатор сознательно задает внутренней формой термина направление мысли специалиста (исходя из принятой концепции специальной области деятельности), а затем, в процессе коммуникации, внутренняя форма термина позволяет ее участникам правильно ориентироваться в понятийно-профессиональной области, создавая консенсусную базу их взаимодействия.
Внимание к термину как языковому знаку, формирующему направление мышления, обнаруживается уже в работах логиков, не без влияния которых формировалось отечественное терминоведение. Так, Дж. Милль писал о научных наименованиях: «Единственное достоинство, каким должен обладать такой ряд имен, будет состоять в том, чтобы эти имена уже самим способом своего образования давали возможно большее количество сведений: чтобы тому, кто знает данную вещь, они оказывали всю ту помощь, какую ему может оказать имя (напоминая то, что он знает), а тому, кто не знаком с вещью, давали бы уже одним звуком своим все то знание, какое возможно в каждом данном случае...»[95]95
Цит. по: Татаринов В.А. Теория терминоведения: В 3 т. Т. 1. Теория термина: история и современное состояние. М, 1996. С. 79.
[Закрыть]
Механизмы перехода мысли к словесному обозначению, воплощения мысли в слове традиционно рассматривались терминоведами в рамках проблемы мотивированности термина и связанной с ней проблемы внутренней формы термина. Так, в работах Э.К. Дрезена, стремившегося определить специфику понятия «внутренняя форма в терминологии», отмечалось, что внутренняя форма необходима термину, чтобы вместить в себя поименованное понятие и весь концептуальный спектр относящихся к данному понятию информационно-фоновых знаний. Именно Дрезену принадлежат слова о том, что «назначение термина – воспроизводить в сознании человека возможно полнее представление о данном объекте (понятии) со всеми его свойствами и качествами»[96]96
Дрезен Э.К. Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация. М, 1936. С. 13.
[Закрыть].
Впервые на ориентирующую функцию термина однозначно указал Д.С. Лотте, основатель отечественной терминологической школы. При оценке терминов он обращался к категории соответствия, в основе которой лежит соответствие буквального значения термина его действительному значению[97]97
Лотте Д.С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов. М.; Л., 1941. С. 12.
[Закрыть]. Ученый усматривал три проявления этого соотношения: «правильно ориентирующие термины» – в которых буквальное значение создает правильное представление о понятии; «нейтральные термины» – такие, в которых не распознается буквальное значение (в основном это иноязычные слова); и «ложно (неправильно) ориентирующие термины», в которых буквальное значение противоречит действительному и способствует неправильному представлению о понятии. Позднее в том же ключе размышлял академик A.M. Терпигорев в статье «Об упорядочении технической терминологии»: термин является правильным, когда его буквальное значение соответствует терминологическому[98]98
Терпигорев A.M. Об упорядочении технической терминологии // Вопросы языкознания. 1953. № 1. С. 20.
[Закрыть]. В «Руководстве по разработке и упорядочению научно-технической терминологии», составленном под редакцией A.M. Терпигорева, прямо говорится, что «термин должен по возможности указывать на связь между понятиями или помогать определить место выражаемого им понятия среди прочих понятий»[99]99
Руководство по разработке и упорядочению научно-технической терминологии. М. 1953. С. 42.
[Закрыть].
«Пространственное» моделирование конститутивной функции термина (как ориентира для движения мысли) поддерживается ходом рассуждений Б.Н. Головина, который писал, что «терминология образует достаточно автономную знаковую систему внутри системы языка и осуществляет специфические функции механизма общения, обслуживающего и обеспечивающего движение научной и технической мысли (выделено нами. – Е.Г.)»[100]100
Цит. по: Татаринов В.А. История отечественного терминоведения: в 3 т. Т. 2. Направления и методы терминологических исследований. М.. 1995. С. 196.
[Закрыть]. Любое движение, как известно, осуществляется в определенном пространстве и устанавливается через пространственные категории. Эту же мысль со всей определенностью высказал Г.О. Винокур: «правильное название становится условием правильного мышления»[101]101
Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды Московского гос. ин-та истории, философии и литературы. 1939. Т. V. С. 6 – 7.
[Закрыть].
Наиболее развернутую трактовку «пространственного» моделирования термина находим у П.А. Флоренского. Понимая язык как «подвижное равновесие начал движения и неподвижности, деятельности и вещности», в термине он видел застывшую «неподвижность мысли», благодаря которой только и возможно дальнейшее движение мысли. Флоренский утверждал, что термину положено «быть крепчайшим упором мысли», он должен «выситься пред каждым индивидуальным сознанием безусловною данностью, непоколебимым маяком на пути постижения жизни». Термины, по Флоренскому, – это «границы, межи мысли»: «в текучести потока ее, ею же ставятся себе твердые грани, неподвижные межевые камни, и притом ставятся как нечто клятвенно признанное нерушимым, как ею же установленное...», «...термин <...> есть граница, которою мышление самоопределяется...»[102]102
Флоренский ПА. Термин // Татаринов В.А. История отечественного терминоведения: в 3 т. Т. 1. Классики терминоведения. Очерк и хрестоматия. М. 1994. С. 386 – 387.
[Закрыть].
Действительно, в сфере «летучей» мыслительной деятельности роль термина трудно переоценить: термин служит в качестве ориентира для поступательного движения научной мысли, он направляет мысль по нужному руслу.
П.А. Флоренский связал с функционированием термина идею «мерности» пространства в пределах заданной системы координат. Эта система координат четко реализуется через структуру термина. С одной стороны, в термине зафиксирована принадлежность обозначаемого фрагмента действительности к той или иной специальной (шире – ментальной) категории – предметов, процессов, признаков и т.д. С другой стороны, в терминологическом наименовании эксплицитно закреплен когнитивно значимый (а значит, обладающий систематичностью) атрибут, выделяющий данный объект в классификационном ряду. Эти две стороны, две оси координат позволяют с точностью установить место обозначаемого термином понятия в системе понятий данной области знания или деятельности.
Наибольшую когнитивную ценность представляют термины, обладающие ясной внутренней формой. Среди такого рода терминов, в свою очередь, особо выделяются наименования, созданные по регулярным моделям. В составных терминах, или терминах-словосочетаниях, ориентационные возможности языка проявляются через выражение ими родовидовых связей и отношений, установление которых является важнейшим этапом процесса познания. Как указывал Р.И. Павиленис, «отождествляя и различая объекты, мы регистрируем то, что является общим, и то, что является специфичным для них, что позволяет нам ориентироваться в новой ситуации»[103]103
Павиленис Р.И. Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. М, 1983. С. 242.
[Закрыть] (выделено нами. – Е.Г.).
Ориентирующую функцию выполняют также термины, образованные в результате образной номинации, т.е. на основе отождествления специального объекта с другим объектом, уже получившим вербальное оформление в языке. В терминологии подобным образом рождаются наименования, служащие для обозначения сложного денотата, т.е. такого, который обладает сложной структурой и в котором трудно выделить один сущностный признак[104]104
Ср.: Рут М.Э. Образная номинация в русском языке. Екатеринбург. 1992.
[Закрыть].
Известно, что главную специфическую примету термина Б.Н. Головин видел в его профессиональной принадлежности. Полностью солидаризируясь с подобной трактовкой сущности термина, отметим, что в актах терминологической номинации получают обозначение те фрагменты человеческого опыта или знания, которые включены в определенный вид деятельности, вследствие чего они соответствующим образом осмыслены и интерпретируются.
Терминологические наименования имеют совершенно особую мотивированность, которая «носит не отражательный, а конструируемый характер». Не случайно Г.О. Винокур подчеркивал, что «термины не "появляются", а "придумываются", "творятся" по мере осознания их необходимости»[105]105
Винокур Г.О. Указ. соч. С. 24.
[Закрыть]. Следовательно, в терминах закреплен результат не пассивного, а живого, активного отражения, в содержание которого включена человеческая практика, профессиональная деятельность. Именно в такой, сознательно выстраиваемой специалистами терминологии, требуется особый механизм ориентирования. Этот механизм естественным образом актуализирован во внутренней форме термина. Внутренняя форма термина, и только она, позволяет понять его содержание без контекста и вне контекста – важнейшее «требование», которое Д.С. Лотте предъявлял к термину.
Мысль об ориентирующей функции термина может быть проиллюстрирована на примере отглагольных наименований лиц по профессии, формальная структура которых включает префикс. Внутренняя форма подобных единиц, моделируемая приставкой, задает направление мысли специалиста (и неспециалиста – если иметь в виду ситуации знакомства с профессией) и тем самым ориентирует его в структурах знания и соответствующим образом направляет его поведение.
Префиксальные обозначения составляют значительное количество отглагольных наименований профессионального деятеля. В большинстве случаев они образованы от префиксальных глаголов и коррелируют с существительными процессуальной семантики. Регулярность их появления в термине системе, устойчивость положения среди других единиц в сочетании с исторической тенденцией к росту общего числа отглагольных префиксальных наименований лиц по профессии, с одной стороны, и количества привлеченных для этого префиксов – с другой, позволяет судить о стандартности и функциональной значимости содержания, моделируемого данной группой имен.