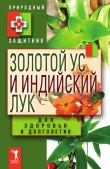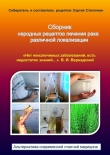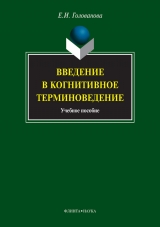
Текст книги "Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие"
Автор книги: Елена Голованова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Каждая из анализируемых моделей номинации профессионального деятеля имеет свою категоризирующую семантику. В большинстве случаев эта семантика отражает существование образных схем в восприятии лица по профессии, связанных с пространственной категоризацией деятельности. Другими словами, производитель действия интерпретируется номинатором на основе зрительного восприятия. Система наименований лиц по профессии позволяет говорить о двух основных разновидностях локализации: локализация субъекта деятельности и локализация объекта(-ов) деятельности. В первом случае разграничивается деятельность в статике и динамике (в связи с наличием или отсутствием перемещения субъекта). Для второго вида локализации релевантными показателями являются степень охвата объекта действием и направление действия.
По данным наименований лиц по профессии, локализация субъекта и объекта профессиональной деятельности в пространстве осуществляется на основе ориентационных параметров верх – низ, перед – зад, начало – конец, далеко – близко и базового пространственного концепта «вместилище». При реализации названных параметров актуализируются разные системы координат, что объясняется различной позицией (точкой зрения) наблюдателя.
Параметр «верх – низ» реализуется с помощью префиксов над-, под– (при локализации субъекта) и вз-, на– (при локализации объекта), ср.: надсмотрщик, надзиратель; подборщик; вздымщик (<вздымать «поднимать, приводить в вертикальное положение»), взвальщик камня и кокса; навальщик, насыпщик, настильщик, накладчик.
Пространственная модель «перед – зад» представлена лишь «передними» обозначениями. Префикс пред– эксплицирует локализацию субъекта нефизической деятельности: председатель, представитель. При помощи префикса за– маркируется предварительный характер профессиональной деятельности лица, т.е. его «переднее» положение в цепочке занятых в производстве рабочих. Так, наименование заготовщик, используемое в ряде современных терминологических подсистем (обувной, электротехнической, радиотехнической, текстильной и т.д.), как правило, служит для обозначения лиц по профессии, связанных с подготовкой и первоначальной обработкой сырья. Например: заготовщик целлулоидной массы (на предприятиях по производству игрушек), заготовщик химических полуфабрикатов (на предприятиях электронной промышленности). Исторические примеры с данным префиксом, приведенные в словаре В.И. Даля, со всей очевидностью демонстрируют «переднюю» локализацию субъекта деятельности: «Загонщик сиб. Передовой, заготовляющий для сановного путника лошадей, ночлег <...>; в земляных работах, передовой земляник, землекоп, за которым все должны гнаться выработкой»[106]106
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. I. М, 1989. С. 556.
[Закрыть].
Ориентационный параметр «начало – конец», связанный с идеей предельности пространства, в котором осуществляется деятельность, представлен широким спектром префиксов. Префиксы до– и при– актуализируют достижение субъектом конечного пункта, являющегося целью деятельности: доставщик; прикатчик. При помощи префиксов из– и от– передается указание на исходный пункт деятельности (за точку отсчета при этом принимается субъект – инициатор деятельности), ср.: изготовитель, измеритель; отправитель. Актуализация обеих точек (начальной и конечной) в умозрительной траектории деятельности (если это связано с перемещением субъекта и объекта) выражается посредством префикса пере-: перекатчик, пересадчик.
Обращает на себя внимание амбивалентный характер пространственного моделирования при помощи префикса за– в исследуемой системе имен: действие лица либо завершает какой-либо процесс, т.е. соответствует конечному этапу производственного цикла, либо является началом, исходным моментом определенной деятельности. Например: запускальщик – лицо, которое комплектует и запускает на конвейер детали швейных изделий и вспомогательных материалов (ср. также: замерщик, закройщик); закатчик – на предприятиях консервной промышленности ведет процесс закатки наполненных банок на автоматических машинах или вручную.
Координаты «далеко – близко» эксплицируются целым рядом префиксов (с-, раз– от-, вы-, у-, под-, при-) и, как правило, связаны с локализацией объекта деятельности. Семантику удаления объекта (или его части) на определенное расстояние, в результате чего разрушается функциональная связь между объектами (или частями объекта), выражает большинство названных префиксов, ср.: сгонщик, смывщик, съемщик; откачник, отвозчик; выбивщик, выпарщик; вывозчик; уборщик; разливщик, разносчик, раздатчик, рассыльщик. К этой же группе можно отнести номинации с префиксом раз-, выражающие ситуацию разъема, разъединения объекта: разрубщик, расщипщик, раскройщик, распиловщик, раздирщик, разборщик, разъемщик, раскольщик. Противоположное значение приближения объектов или сближения, соединения их частей выражается префиксами под-, при-, пере– и о: подносчик; притирщик, привязывальщик; переплетчик; склеивальщик, скрутчик, слепщик.
Наибольшее разнообразие способов выражения обнаруживается при реализации концепта «вместилище» («контейнер»). Здесь могут быть задействованы три разновидности геометрического пространства, ибо любой объект деятельности может быть представлен как объем (трехмерное измерение), плоскость/ поверхность (двухмерное измерение) или точка (одномерное). Последнее пространственное видение объекта практически не представлено в анализируемом корпусе единиц.
Двухмерное, плоскостное видение объекта деятельности моделируется с участием префиксов по-, раз-/рас-, о-/об-, на-, у-, ср.: поливщик (маркируется охват объектов на всей плоскости); рассыпщик, раскатчик; намазчик, наклейщик; укладчик (действие направлено на поверхность чего-либо); обходчик, объездчик, осмотрщик (подчеркнуто распространение действия на все объекты в пределах одной территории).
Объект как трехмерное пространство актуализируется в моделях с префиксами о-/об-, в-, вы-, за-, про-. Например: обвязчик, обжарщик, обжигальщик, огранщик, опальщик, окрасчик (действие направлено вокруг объекта, охватывает все его стороны); вклейщик, вмазчик, вставляльщик, вшивальщик; загрузчик, закладчик, заливщик, замачивальщик, заправщик, засыпщик, зарядчик (объект помещается, погружается внутрь чего-либо); выгребальщик, выгрузчик, выемщик, выливщик, вырезальщик (объект деятельности извлекается из вместилища); пробивальщик, продувальщик, прокольщик, проходчик (действие направлено сквозь объект, в глубь объекта).
На основе первичных пространственных значений префиксов формируются другие, непространственные значения. Так, в составе наименования лица по профессии доводчик начальная морфема выражает значение доведения лицом функционального действия (не связанного с перемещением) до своего предела, что является модификацией значения достижения конечного пункта при перемещении. В девербативе обкатчик реализовано модификационное значение префикса о-/об– «полный охват объекта действием» (при котором задействуются, подвергаются испытанию все детали механизма, а не только его поверхность). Префикс про– в ряде наименований лиц по профессии получает значение обработки чем-либо поверхности объекта, которое можно рассматривать как модификацию пространственного значения направленности действия сквозь что-либо, внутрь чего-либо: проклеивальщик, протравщик, проявщик, пропитывальщик, пропитчик.
Поставленная проблема представляется чрезвычайно важной для теоретического осмысления особенностей репрезентации тех или иных фрагментов действительности в языке. Как показал анализ, префикс в составе отглагольного имени лица не только оказывает существенное влияние на формирование его семантики, но и осуществляет когнитивно-ориентирующую функцию: он указывает на соотношение субъекта и объекта в процессе деятельности, на направление деятельности внутри определенного (или мыслимого как определенное) пространства. При сочетании префикса с глаголами конкретной физической деятельности актуализируется значение образа и способа действия, что в дальнейшем, при образовании наименований лиц по профессии, позволяет уточнить характеристику лица как субъекта профессиональной деятельности.
Как отмечает А.А. Виноградов, «приставки – главное средство конкретизации лексического значения огромного массива глагольной лексики, дифференциальный признак в сравнении семантики производного и мотивирующего глаголов, "задающий" восприятие содержания их корневых морфем с точки зрения пространственных, временных и квантитативных параметров действия (процесса, состояния), а также с точки зрения его внутреннего протекания, и в этом смысле они ничуть не хуже суффиксов»[107]107
Виноградов А.А. Префиксация в русском и венгерском языках (внутриглагольное словообразование). Ужгород, 1998. С. 38.
[Закрыть]. В приведенных выше примерах префикс участвует в параметризации профессиональной деятельности, выполняемой субъектом, с точки зрения ее направленности на объект, степени интенсивности, отношения к ориентационным параметрам пространства. В результате отглагольное наименование лица по профессии наделяется необходимыми для терминологической единицы ориентационными свойствами.
2.5. Термин как историческая категория
Во вступительном слове на первом терминологическом совещании в 1959 г. В.В. Виноградов высказал ряд теоретических положений, которые не утратили своей актуальности до настоящего времени. Так, определяя место терминологии в русском литературном языке, ученый указал на глубокое и сложное взаимодействие терминологической лексики с лексикой общеупотребительной, со словарем общего национального литературного языка. Это замечание весьма значимо для понимания особенностей терминолексики ранних исторических эпох и адекватной ее характеристики.
Именно в терминологии, по мнению ученого, наиболее ярко и наглядно обнаруживается связь развития языка с историей материальной и духовной культуры народа. Даже проблему упорядочения терминологических систем В.В. Виноградов увязал «с изучением исторических корней отдельных терминов или целых их групп» и построением на этой основе «целесообразных моделей терминов в сфере той или иной специальной области»[108]108
Виноградов В.В. Вступительное слово // Вопросы терминологии. М, 1961. С. 6 – 10.
[Закрыть]. В выступлении В.В. Виноградова была поставлена задача создания терминологических словарей отдельных областей научного знания и профессиональной деятельности, в том числе исторических.
Подчеркнув в своем выступлении важность изучения истории терминологии той или иной сферы науки, культуры, производственной деятельности, В.В. Виноградов призвал рассматривать ее как «повесть о закономерностях развития знаний о природе и обществе». Подобная постановка вопроса может стать опорой при определении статуса терминологических единиц в ранние исторические эпохи.
Некоторые терминологи считают, что говорить о терминах в ранние исторические эпохи неправомерно. Так, например О.В. Борхвальдт утверждает: «В профессиональных подсистемах русского языка донациональной поры (XIV – XVII вв.) функционировали в основном прототермины, профессионализмы, терминоиды и предтермины»[109]109
Борхвальдт О.В. Типы специальной лексики в истории русского языка // Переходные явления в области лексики и фразеологии русского и других славянских языков (Вторые Жуковские чтения): Материалы междунар. науч. симпозиума. Великий Новгород, 2001. С. 146 – 147. Ср. также: Борхвальдт О.В. Историческое терминоведение русского языка. Красноярск, 2000.
[Закрыть]. Термины, по мнению ученого, были представлены в то время лишь в церковновнославянских письменных памятниках, где обозначали понятия христианской и византийской культуры.
Позволим себе не согласиться с такой трактовкой. Наши возражения коснутся в первую очередь исходных постулатов ученого. Идя вслед за С.В. Гриневым в определении этапов развития специальной лексики[110]110
Гринев С.В. Введение в терминоведение. М, 1993.
[Закрыть], О.В. Борхвальдт устанавливает границу между терминами и не-терминами в русском языке в соответствии с развитием отечественной науки. Поскольку многие науки зарождаются в конце XVII – XVIII вв., этот период признается началом появления терминов в их современном понимании. Таким образом, за термином признается функция номинации лишь научного понятия, что, как нам кажется, далеко не бесспорно. Как же быть, например, с техническими терминами, которые появились задолго до возникновения науки?
Мы глубоко убеждены в том, что термин, будучи единицей познания, отражает в своем содержании предел знаний человека о том или ином фрагменте действительности на определенном этапе исторического развития[111]111
Ср. мысль А.В. Лемова: профессиональное понятие «адекватно уровню познания предмета» (Лемов А.В. Система. Структура и функционирование научного термина. Саранск, 2000. С. 27.)
[Закрыть] (это подчеркнуто и внутренней формой самого слова: термин < лат. terminis «предел, граница»). Именно поэтому не раз говорилось о том, что история терминологии – это история знаний о мире. Это означает, что термин, функционирующий в данную историческую эпоху, не может восприниматься как «прототермин» (наименование ориентирует нас на оценку прошлого состояния с позиций современности). Только по отношению к ныне функционирующим терминам мы можем говорить об их прототипических языковых формах, существовавших в прошлом.
Различные типы специальной лексики, употребляемые в работах терминоведов: прототермины, предтермины, терминоиды, – на самом деле отражают лишь определенные ступени (фазы) общего процесса получения знаний о тех или иных фрагментах материального и духовного мира, схематически этот процесс можно представить в виде определенного цикла (см. рис. 4).

Рис. 4. Цикл формирования специальных знаний об определенном фрагменте действительности
Включение объекта в иную парадигму знаний влечет за собой новый виток его познания. При этом начальную стадию процесса познания репрезентируют языковые единицы, названные предтерминами и терминоидами. Предтермин свидетельствует о первичной фиксации в языке вычлененного фрагмента действительности. Терминоид указывает на размытость, несформированность понятийного содержания.
Таким образом, о предтерминах и терминоидах можно говорить всякий раз, когда речь заходит о рождении новой области знаний или кардинальных изменениях в уже существующих системах знаний в результате выхода на некий новый уровень познания. Иными словами, данные единицы возникают тогда, когда сложно отнести вновь открытый феномен к группе известных объектов и требуется выработать иные принципы классификации или шире – основания категоризации.
Что касается ранних исторических эпох, то вопрос о терминоидах и предтерминах ставить можно, но располагаем ли мы достаточным материалом для их вычленения? Письменной фиксации подвергались в основном устоявшиеся терминологические единицы.
Не случайно чрезвычайно сложной проблемой является выделение профессионализмов в ранние исторические эпохи. Преимущественной сферой их функционирования служит устная речь, а судить о состоянии терминологии ранних периодов мы можем, главным образом, по сохранившимся письменным источникам. Те элементы терминологий, которые подводятся по своим характеристикам под представление о профессионализме, свидетельствуют об историческом процессе заполнения данными единицами терминологических лакун. При этом главным критерием для отграничения профессионализмов от терминов может служить признак, положенный в основу номинации, – гносеологически значимый или случайный, существенный или поверхностный. По мере выявления сущностной характеристики объекта и создания на этой основе номинации-термина надобность в профессионализме отпадала.
Полагаем, что целесообразнее говорить не об отсутствии терминов в донациональную эпоху, а о специфике древнерусского и старорусского термина.
Попробуем сформулировать признаки термина в донаучную эпоху:
• имеет специальное содержание (служит для обозначения специального предмета или понятия);
• используется в ситуациях профессионального (специального) общения;
• системен по образованию (создан по продуктивной когнитивной модели; отражает родовидовые отношения понятий, отношения включения, пересечения, входит в гнездо однокоренных слов и т.д.);
• обладает прозрачной внутренней формой, в связи с чем не имеет дефиниции (письменно зафиксированной).
Специфическимихарактеристикамидонаучнойтерминологии следует признать следующие: тесная связь с общеупотребительной лексикой, высокая степень варьирования, преимущественно конкретный характер, «широкозначная» номинативность (помимо существительных, значительную часть терминологии составляли глаголы).
Возвращаясь к тезису В.В. Виноградова о взаимодействии терминологической лексики с общеупотребительной, отметим следующее. Как установили современные исследования, связь между научным и обыденным сознанием, между научной и наивной картиной мира является очень тесной. В ранние исторические эпохи отношения между элементами научного (рационального) подхода и элементами обыденного сознания были еще более связанными, что подтверждает изучение истории терминологических единиц. Но это не значит, что не было познания как такового, и тем более профессионального познания. В рамках профессиональной коммуникации вырабатывались принципы номинации объектов и процессов данного профессионального поля, при этом объективное начало превалировало над субъективным.
Отстаивая право древнерусских и старорусских специальных единиц именоваться терминами, мы не отрицаем качественной неоднородности этой терминологии. Не случайно в историко-терминологической литературе отмечена практикаразграничения единиц в зависимости от их происхождения и степени терминологичности (ср. статуальные и генуинные термины у О.Н. Трубачева[112]112
Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
[Закрыть]). Как нам представляется, этот сложный вопрос требует дальнейшего научного осмысления и выработки надежной аргументации. В этом смысле широкие возможности предоставляет исследователю когнитивный аспект анализа.
2.6. Когнитивно-прагматическая типология профессиональных единиц
Вопрос о типологии единиц профессиональной коммуникации к настоящему времени не имеет однозначного решения в терминоведении[113]113
О различных подходах к типологии профессиональных единиц см.: Гринев С.В. Введение в терминоведение. М, 1993; Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2006; Борхвальдт О.В. Лексика русской золотопромышленности в историческом освещении. Красноярск. 2000.
[Закрыть]. Прежде всего это связано с недостаточной изученностью специальной лексики, используемой в устной профессиональной среде, характера ее соотношения с лексикой, функционирующей преимущественно в письменных текстах.
Наиболее значимыми проблемами в рамках коммуникативно-прагматического аспекта является определение прагматического содержания специальных единиц в разных типах профессиональной коммуникации, выявление условий реализации этого содержания. Учет специфических свойств единиц в зависимости от их употребления в тех или иных сферах профессиональной коммуникации чрезвычайно важен для современной науки о терминах, поскольку помогает уточнить сущность профессиональной коммуникации, значимость в ней языковых средств, а также способствует выработке научной модели профессиональной коммуникации в целом.
Мы исходим из того, что любой языковой знак, в том числе единица профессиональной коммуникации, фиксирует и удерживает своей формой, структурой не всю информацию, связанную с обозначаемыми объектами и ситуациями, а фокусирует внимание лишь на определенных, коммуникативно и прагматически значимых в условиях данной коммуникативной среды их сторонах. В соответствии с этим типология единиц, используемых в рамках профессиональной коммуникации, может быть произведена на основе их коммуникативно-прагматической значимости.
Целесообразно выделять два основных типа отношений между коммуникантами в условиях профессионального общения: 1) формальное (официальное), статусно-ролевое общение и 2) неформальное (неофициальное), групповое (корпоративное) или межличностное общение.
Первому типу отношений соответствует ограниченный набор стандартных ситуаций, предполагающий функционирование правил субординации. Коммуниканты выступают здесь прежде всего как субъекты институциональной, регламентированной деятельности, как носители профессиональных знаний, а также субъекты права, реализующие заданный набор должностных обязанностей (что не исключает его корректировки в соответствии с меняющимися задачами деятельности). Данная разновидность отношений может носить непосредственный характер (устное официальное общение) и опосредованный – письменное общение специалистов в рамках профессиональной деятельности.
Главная цель подобного общения – оптимизация профессиональной деятельности, выработка ее долговременных и кратковременных программ, стратегических направлений. Профессионально значимая информация представлена здесь главным образом нейтральными, объективированными единицами, стремящимися к точности и однозначности содержания. Предназначение подобных единиц – служить ориентиром в разнообразных структурах знания и деятельности.
Используя нормативные, стандартизированные единицы языка профессиональной коммуникации (термины), коммуниканты подчеркивают объективность вербализованной в текстах профессиональной информации и имплицитно воздействуют друг на друга. Данная сфера коммуникации не элиминирует ситуаций выражения оценки коммуникантов (к результатам, объектам деятельности, к коллегам, их действиям, отношениям). Это оценки, характеризующие важность – несущественность, простоту – сложность, обобщенность – детализированность, сходство – различие тех или иных профессионально значимых ментальных объектов.
Второй тип отношений – неформальные, неофициальные – имеет множество форм репрезентации, набор ситуаций подобного общения практически не ограничен. Объединяющим началом здесь является решение проблем в рамках конкретной ситуации, реализация разнообразных профессиональных проблем в условиях микрогруппы. В единицах профессиональной коммуникации здесь важно не объективированное, а, наоборот, субъективированное, присвоенное знание. В них зафиксирована та часть профессиональной информации, которая актуализируется в каждодневных, повторяющихся действиях и операциях, а потому – через опыт – приближена к личному миру человека, составляет круг его ближайших, повседневных концептов.
Особая разновидность неофициальных отношений – узкокорпоративные, грубо/сниженно-фамильярные – возникает в тех профессиональных коллективах, где взаимодействие коммуникантов сопряжено с выполнением напряженного (физически или умственно), связанного с риском для здоровья (физического или психического), замкнутого узкими пространственно-временными рамками труда. В научной литературе выделяется более 20 профессиональных сфер, отмеченных использованием особого жаргона (социолекта). К их числу относятся сферы деятельности летчиков и авиамехаников, строителей, артистов цирка, спортсменов (баскетболистов, боксеров, гимнастов, тяжелоатлетов, хоккеистов, фехтовальщиков, фигуристов, футболистов, шахматистов), музыкантов, лесорубов и рабочих лесопилок, портовых грузчиков, шахтеров, медиков, железнодорожников, продавцов, моряков, водителей грузовиков, автобусов и такси, компьютерщиков и т.д.[114]114
Коровушкин В.П. Типологазация социолектов в английском и русском языках на уровне субстандартных лексических систем // Актуальные проблемы лингвистики и терминоведения. Екатеринбург, 2007. С. 116 – 123.
[Закрыть]
Каждому типу реализованных в профессиональной коммуникации отношений соответствует значимый выбор специальных единиц. Первый тип отношений обслуживается терминами, второй – терминами (в основном однословными) и профессионализмами, третий – преимущественно профессиональными жаргонизмами.
Термины, обозначая наиболее значимые ментальные объекты профессиональной деятельности (как имеющие референта, так и носящие абстрактный характер), вербализуют логическую модель определенной системы знания или деятельности и выступают в качестве основных когнитивных ориентиров в рамках этих систем. Наиболее близка к этому пониманию точка зрения С.В. Гринева: «термины в составе терминологической системы через систему понятий создают модель фрагмента объективной действительности, необходимую в процессе познания и освоения мира»[115]115
Цит. по: Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. М, 2006. С. 26.
[Закрыть] и интерпретация В.М. Лейчика: термин – это знак-обозначение, используемое в качестве элемента знаковой модели определенной специальной области знания и деятельности[116]116
Там же.
[Закрыть]. Правда, в этих определениях специальное содержание термина может быть понято не только как научно-профессиональное, но и гораздо шире.
Термин, в отличие от других единиц профессиональной коммуникации, – это максимально нагруженный смыслом знак; его содержательная структура, выражаясь словами В.М. Лейчика, носит интеллектуальный характер. Не случайно в теоретических исследованиях подчеркивается, что «термины создаются сознательно, их формальная структура выбирается авторами терминов с таким расчетом, чтобы она удовлетворяла потребностям логического мышления»[117]117
Лейчик В.М. Указ. соч. С. 62.
[Закрыть]. Несмотря на то что термин полифункционален, его основной, доминирующей функцией является функция фиксации специального знания (как результата познавательной деятельности).
Профессионализмы – это единицы преимущественно устной сферы коммуникации. Отсюда коммуникативная их значимость оказывается первичной. Так же как термин, профессионализм служит вербализатором специального знания, однако создается и функционирует он преимущественно в среде практической, а не теоретической.
В профессионализмах зафиксирована та часть производственной информации, которая актуализируется в каждодневных, повторяющихся действиях и операциях, а потому – через опыт – приближена к личному миру человека, составляет круг его ближайших, повседневных концептов.
Профессионализм – это единица преимущественно устной сферы коммуникации. Для него важна не объективированная (как для термина) и потому «усредненная», оторванная от реальности форма знака, а субъективированная, связанная с образом, игрой, творчеством, или отражающая практическое знание субъекта профессиональной деятельности: перцептивные характеристики объекта номинации, его «деятельностные» свойства и т.д.
Среди профессионализмов можно выделить два основных типа единиц:
1) «собственно профессионализмы» как отражение специфических процессов познания в ходе предметно-практической деятельности людей: зеленка (свидетельство о праве собственности на недвижимость – первоначально лишь зеленого цвета, сейчас возможны других цветов – оранжевого, розового и др.); кусачки – бокорезы, утконос – плоскогубцы характерной формы, уголок – прокатное металлическое изделие, сечение которого представляет собой прямой угол;
2) «коммуникативные профессионализмы» – результат фонетической, грамматической, словообразовательной переделки терминов, связанной с приспособлением их к условиям устной групповой коммуникации (стремление к языковой экономии, отражение характера взаимоотношений между коммуникантами, оценка значимости предмета в деятельности). Например: оцинковка – лист оцинкованного металла, штангель – штангенциркуль, монтажник – монтажный страховочный пояс (при проведении высотных работ), сварочный – сварочный аппарат и др.
Первый тип профессионализмов отличается повышенной метафоричностью и метонимичностью. Они обладают ясной внутренней формой и образностью, ср. следующие устные профессиональные обозначения в среде типографских работников: приладка – добавочный материал при изготовлении тиража изделий для получения наиболее качественного результата (Не забудьте про приладку, когда привезете обложки на лакировку), зарезать – испортить тираж изделий при подрезке краев (Все зарезал, даже выдать нечего!); слепой – о низком качестве печати или тиснения (без использования фольги) (Логотип слепой будет; Слепое тиснение). Именно метафоричность и метонимичность профессионализмов определяет такие их свойства, как многозначность и семантическая неопределенность: один и тот же профессионализм может обозначать в разных ситуациях и контекстах разные специальные объекты.
Благодаря образной ориентирующей форме лишь профессионализмы первого типа при определенных условиях могут приобрести нормативный характер, стать частью терминологической системы (ср. черная дыра, раковина, мышь и т.п.). Профессионализмы второго типа выступают способом кратко и емко обмениваться специфической профессиональной информацией в условиях группового общения. Как образно выразилась о такого типа единицах М.Н. Кожина, профессионализмы – это «термины для своих»[118]118
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М, 1993.
[Закрыть].
В целом профессионализм в большей степени дискурсивен, т.е. зависим от психологических, социокультурных, прагматических характеристик ситуации профессионального общения. Его прагматические свойства получают языковую маркированность в эмоциональных и оценочных коннотациях. Ср.: заусенец – заусенка, сборочный цех – сборка, оперативное совещание – оперативка, двигатель – движок и др.
Профессиональные жаргонизмы, в отличие от профессионализмов, хотя и возникают в устной профессиональной среде, в меньшей степени могут быть соотнесены с термином. При помощи этих единиц могут обозначаться не только значимые профессиональные объекты, но и такие их характеристики, свойства, отношения, которые не репрезентированы в терминах (поскольку не участвуют в построении логической модели данной области знания или деятельности). Ср. в речи продавцов: висяк – залежалый товар; Достоевский – покупатель, который долго примеряет что-либо, но не покупает.
Как отмечает С.В. Гринев, если профессионализмы могут со временем приобрести нормативный характер (ср. черная дыра, раковина, мышь и т.п.), то профессиональные жаргонизмы не способны к этому, их условность ясно ощущается говорящими[119]119
Гринев С.В. Введение в терминоведение. М, 1993. С. 51.
[Закрыть]. Ср.: нуль – нулевой цикл строительства, нутрянка – внутренние санитарно-технические системы (строит); банка, плюха – гол, очко (спорт); убить – разрушить структуру данных (компьют).
Последние единицы значимы не столько в качестве репрезентантов профессиональной информации, сколько в качестве актуализаторов оценочной информации. Они помогают ориентироваться не в знаниях, а в отношениях внутри коллектива, адаптироваться к особым профессиональным условиям. Важен не сам профессиональный предмет или понятие, а его оценка. Через нее фиксируется, хранится и передается определенный поведенческий стереотип членов профессиональной группы. Прагматическая функция профессиональных жаргонизмов в рамках данного вида коммуникации, заданная особыми условиями профессиональной деятельности, – снятие психологического напряжения.
Таким образом, каждый тип единиц профессиональной коммуникации приспособлен для выражения определенной коммуникативно-прагматической информации. В конкретной сфере профессионального общения осуществляется ориентированный выбор языковых средств, отражающий интенциональные связи текста с коммуникантами. С помощью данных единиц актуализируется скрытое или открытое воздействие коммуникантов друг на друга, реализуется объективная или субъективная модальность.