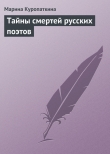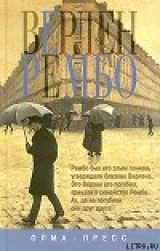
Текст книги "Верлен и Рембо"
Автор книги: Елена Мурашкинцева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
«Революционер»
Нет, эти руки-исполины,
Добросердечие храня,
Бывают гибельней машины,
Неукротимее коня!
И, раскаляясь, как железо,
И сотрясая мир, их плоть
Споет стократно Марсельезу,
Но не "Помилуй нас, Господь!"
Без милосердья, без потачки,
Не пожалев ни шей, ни спин,
Они смели бы вас, богачки,
Всю пудру вашу, весь кармин!
Их ясный свет сильней религий,
Он покоряет всех кругом,
Их каждый палец солнцеликий
Горит рубиновым огнем!
Остался в их крови нестертый
Вчерашний след рабов и слуг.
Но целовал Повстанец гордый
Ладони смуглых этих рук.[31]31
«Руки Жанны-Мари». – Перевод М. Яснова.
[Закрыть]
Когда немцы приблизились к Мезьеру и Шарлевилю, наступил всеобщий патриотический подъем: стоило коменданту укрепленного района отдать приказ убрать все, что может помешать обороне, как толпа уничтожила сады и вырубила рощу со столетними липами. По словам Делаэ, Рембо находил во всех этих порубках (изображенных также и в «Озарениях») глубокий символический смысл: «Есть вещи, которые необходимо уничтожить. Есть старые деревья, которые нужно срубить; есть вековые исполины, тень которых вскоре превратится для нас в воспоминание. Так и от нынешнего общественного строя не останется ни следа. Ни личному богатству, ни личной гордости не будет места под солнцем. Мы опять вернемся на лоно природы».
Вопрос о демократических и революционных убеждениях Рембо представляет большой интерес. Сомневаться в передовых настроениях поэта здесь вроде бы не приходится: юноша сочувствует голодным сиротам, воспевает натруженные руки старой работницы, восторженно изображает кузнеца, который горделиво грозит коронованным деспотам. Жан Мари Карре пишет об этом с умилением: "Он не любит Бога, этот "бессердечный Рембо", но он еще способен любить многое. Его отрицательное отношение к окружающему не беспредельно: он любит бедных, униженных, несчастных, бунтарей". Более того, сочувствие к народу сочетается с самыми радикальными убеждениями: Делаэ сообщает, что уже в возрасте тринадцати или четырнадцати лет Артюр мечтал о насильственном разрушении общественного строя.
18 марта в Париже была провозглашена Коммуна – к великой радости Рембо, недавно вернувшегося домой после третьего побега. Ему, надо сказать, отчасти не повезло: если бы он продержался в столице еще несколько дней, то стал бы свидетелем – или участником – этих событий, столь близких его тогдашнему умонастроению. В 1905 году Делаэ без тени сомнения утверждал:
"Коммуналистическая армия имела его в своих рядах, ибо теориями он не удовлетворялся и жаждал рискнуть жизнью во имя социальной революции".
Сюжет "Рембо и Коммуна" породил несколько легенд. Юный поэт будто бы отправился в Париж с целью записаться в народную гвардию и прошел пешком 60 льё[32]32
Двести сорок километров (1 льё = 4 км).
[Закрыть] за шесть дней. Оказавшись в столице, он явился на укрепления и потребовал выдать ему оружие – его пламенные речи тронули сердце мятежников, но затем наступление версальцев вынудило новоявленного бойца спасаться бегством. Какое-то время ему пришлось провести в тюрьме вместе с коммунарами, и именно этими трагическими событиями якобы навеяно знаменитое стихотворение «Украденное сердце»:
Плюется сердце над парашей,
Сердечко грустное мое.
В него швыряют миски с кашей,
Плюется сердце над парашей:
Под шуточки лихих апашей
Вокруг гогочет солдатье.
Плюется сердце над парашей,
Сердечко грустное мое.
Чудовищный приапов пенис
Они рисуют на стене,
И рвет мне сердце, ерепенясь,
Чудовищный приапов пенис.
Волна абракадабры, пенясь,
Омой больное сердце мне!
Чудовищный приапов пенис
Они рисуют на стене.
Украденное сердце, что же
Мне дальше делать суждено?
Когда рыготой кислой позже
Сведет вакхические рожи,
Меня изжога схватит тоже,
А сердце – все в грязи оно.
Украденное сердце, что же
Мне дальше делать суждено?[33]33
Перевод В. Орла.
[Закрыть]
Однако «Украденное сердце» подверглось различным интерпретациям. Некоторые «реакционные» исследователи утверждают, что солдатами, так неприятно поразившими чувствительную душу юного поэта, были коммунары, а Жан Пьер Шамбон попросту предложил считать Рембо «версальцем».
В других легендах говорится о полукомических и полутрагических приключениях Рембо в восставшем Париже: добрые коммунары скинулись кто сколько мог для несчастного юноши, а тот потратил собранные деньги на их угощение; в казармах к нему стал приставать пьяный национальный гвардеец; его стихи вызвали всеобщий восторг на баррикадах; он чудом ускользнул от озверевших приспешников Тьера и т. д. и т. п.
Все версии об участии Рембо в Коммуне имеют один источник – его собственные рассказы. Естественно, главным слушателем поэта в 1871 году был Эрнест Делаэ (которого чуть позже сменил Верлен). Почти все ранние биографы – те, кто имел дело лишь с мемуарными свидетельствами и не использовал документы – были абсолютно убеждены в правдивости исходивших от Делаэ сведений. Только Изабель Рембо еще в 1896 году просила Патерна Берришона не доверять им:
"Если бы я могла предвидеть, что вы используете свидетельства Делаэ, то предостерегла бы вас…
Участие в Коммуне – это совершенно невозможно, я бы об этом знала и помнила бы. Быть может, он [Рембо] похвалялся этим из бравады. Впрочем, коммунаров ведь разыскивали, арестовывали, судили; ему же не пришлось спасаться от преследований, которых, я в этом убеждена, он боялся бы гораздо больше, чем любой другой человек, если бы чувствовал за собой настоящую вину".
Но Патерн в этом пункте пошел наперекор любимой супруге – уж очень благодатной показалась ему тема. Поэтому он повторил версию Делаэ, дополнительно разукрасив ее живописными подробностями: Рембо будто бы стал свидетелем жутких сцен насилия с обеих сторон, и это внушило ему отвращение к социальным битвам.
Единственным человеком, выступившим с публичным опровержением домыслов Берришона, стал Жорж Изамбар, который тщетно пытался переубедить и Делаэ, ссылаясь на письма Рембо. Обмен посланиями произошел в 1927 году, когда в печати появились статьи Изамбара. Последний проявил максимальный такт по отношению к бывшему ученику:
"Вы увидите, что я вас не упоминаю. Не с целью вас… пощадить (amicus Plato, magis amica veritas),[34]34
«Платон мне друг, но истина дороже» – изречение, которое известно всем, кто хоть немного изучал латынь.
[Закрыть] а потому, что с вами дело обстоит совсем не так, как с гнусным Патерном. Вы эту историю не сочинили, не выдумали. Вы ее наверняка записали со слов самого Рембо, а мы знаем, что на том жизненном повороте он не чурался мистификаций. После 18 марта он играл в Шарлевиле роль активного коммунара и должен был выдержать ее до конца. Вследствие этого, он ввел вас в заблуждение – холодно, обдуманно – разумеется, не из одного только удовольствия, а потому что ему было необходимо, чтобы вы поверили ему столь же безоговорочно, как другие. И не считайте себя униженным из-за того, что поддались обману. Нам эта птица известна. Мы с вами оба знаем, с каким искусством Рембо умел обольщать. Вы сами приводили тому примеры".
Однако Делаэ до конца жизни упорно стоял на том, что его школьный друг принимал участие в Коммуне – это был якобы третий (или четвертый побег) Рембо. Отметим к слову, что Делаэ совершенно запутался в этих побегах: особенно невнятны его повествования о событиях весны 1871 года, поскольку его не было в Шарлевиле – с начала апреля по конец мая он находился у родных в Нормандии. Тем не менее, Делаэ твердо верил, что Рембо не мог его обмануть и пытался оспорить аргументы Изамбара:
"Конечно, подобный рассказ мог бы доставить ему удовольствие! Но совершенно непостижима та гениальность, которая понадобилась бы, чтобы выдумать такую историю… Он провел с этими людьми [коммунарами] от двух до трех недель. А затем – это его слова – начались разговоры: все кончено, версальцы вступят в город. И многие строили планы, как исчезнуть. И он поступил так же. Что может быть проще и правдоподобнее этого рассказа, начисто лишенного хвастовства и хвастовство отвергающего? Разве это похоже на байку, призванную ошеломить? Он любил втирать очки, это правда, но в данном случае его резоны необъяснимы".
Иными словами, достоверность рассказа подтверждается лишь тем, что Рембо не стремился пустить пыль в глаза – довод, прямо скажем, не слишком убедительный. Делаэ возвращался к "коммуналистическому" эпизоду неоднократно, корректируя собственную версию с целью парировать критические замечания. Так, дата третьего (у Делаэ – второго) побега у него меняется с годами: в первых воспоминаниях упоминается "снятие осады", затем говорится о начале февраля, и лишь в последних сочинения появляется более или менее правильное указание на "конец февраля или начало марта". Возможно, Делаэ просто прочел опубликованное письмо к Полю Демени от 17 апреля 1871 года, где Рембо называет точное время своего пребывания в Париже:
"Такова была литературная жизнь – с 25 февраля по 10 марта. – Впрочем, вряд ли я сообщил вам что-то новое.
Итак, подставим лоб под наклоненные струи небесные и всей душой предадимся античной мудрости.
И пусть бельгийская литература унесет нас под своей подмышкой".
После публикации документов версия Делаэ рухнула: исследователи нового поколения отвергли ее почти единодушно. "Добрался ли он в самом деле на этот раз до Парижа? Поступил ли он в повстанческие войска? Был ли он поджигателем и федератом, как впоследствии хвастался? (…) Этой общераспространенной и весьма живописной версии, к сожалению, приходится – не без риска умалить революционные заслуги Рембо – противопоставить другую, покоящуюся на более достоверных фактах". Эти достоверные факты таковы: "Украденное сердце" (под названием "Казненное сердце") было послано Изамбару в письме от 13 мая 1871 года. Там же говорится и о последних днях Коммуны (когда Рембо якобы пребывал на баррикадах):
"… Я буду тружеником: только эта мысль удерживает меня, хотя безумная ярость зовет на парижскую битву, где столько тружеников умирает в тот самый час, когда я пишу вам! Трудиться сейчас – никогда, никогда. Я бастую".
Логика, надо сказать, довольно странная, но для шестнадцатилетнего юнца простительная. Рембо оставался в Шарлевиле и 15 мая, ибо именно в этот день он отправил очередное послание Полю Демени в Дуэ – то самое письмо, в котором сформулирована программа "ясновидения". Даже если Рембо отправился в Париж не пешком, а на поезде, он все равно не успел бы совершить все приписанные ему подвиги, ибо уже 22 мая все было кончено – "кровавая неделя" завершилась, и Коммуна прекратила свое существование. Возможно, Рембо все же сделал попытку прорваться в столицу: Верлен позднее рассказывал, как его юный друг чудом спасся от уланского разъезда в лесу Вилье-Котре, забившись в кусты и насмерть перепугавшись. Делаэ также упоминает этот эпизод, но, согласно его версии, Артюр едва не попал в руки улан, выбравшись из залитой кровью столицы. Естественно, Рембо было труднее "втирать очки" в Париже, чем в Шарлевиле: в отличие от Делаэ, Верлен знал о Коммуне не по наслышке – поэтому просто упомянул, не вдаваясь в подробности, о кратковременном пребывании шарлевильского подростка в мятежной столице.
Как бы там ни было, Коммуна присутствует в творчестве Рембо: в Шарлевиле он пишет стихотворения "Военная песнь парижан", "Руки Жанны-Мари", "Парижская оргия, или Столица заселяется вновь". По мнению французских критиков, этот триптих представляет собой лучший гимн Коммуне – и создан он был поэтом, который никакого участия в революционных событиях не принимал. Затем Коммуна перестанет его интересовать и напрочь исчезнет из его писем и сочинений.
Поэт
Когда-то, насколько я помню, жизнь моя была пиром, где раскрывались сердца, где пенились вина. – Как-то вечером посадил я Красоту себе на колени. – И горькой она оказалась. – И я оскорбил ее".
Сезон в аду.
В 1869 Рембо получил первую премию за латинскую поэму «Югурта» – в возрасте неполных пятнадцати лет. В том же году он пишет первые стихи на французском – «Новогодние подарки сирот». 2 января 1870 года эти стихи были опубликованы в «Ревю пур тус» («Revue pour tous»). Через несколько месяцев в журнале «Ла Шарж» («La Charge») появится еще одно стихотворение Рембо – «Три поцелуя».[35]35
В автографе из списка Жоржа Изамбара имеет название «Комедия в трех поцелуях». Окончательное название – «Первое свидание».
[Закрыть]24 мая 1870 года он посылает первое письмо поэту-парнасцу Теодору де Банвилю, приложив три стихотворения – «Ощущение», «Офелия», «Credo in Unam» («Верую во Единую»):[36]36
В названии пародируется христианский символ веры, установленный на Никейском соборе: «Верую во единого Бога Отца…» Позже стихотворение получит название «Солнце и плоть».
[Закрыть]
"Дорогой мэтр,
У нас сейчас месяц любви, мне семнадцать лет.[37]37
В действительности Рембо было пятнадцать с половиной.
[Закрыть] Как говорится, это возраст надежд и химер – и вот я, одаренный прикосновением Музы ребенок (простите мне эту банальность), решился рассказать о верованиях моих, надеждах и чувствах, всех этих поэтических вещах, которые я причисляю к весне.
Посылаю же я вам – заодно также славному издателю Альф, Лемеру – некоторые мои стихи, потому что люблю всех поэтов, всех славных парнасцев – а поэт всегда парнасец – и я влюблен в идеальную красоту; потому что люблю в вас – со всей наивностью – потомка Ронсара, брата наших учителей 1830 года, истинного романтика, истинного поэта. Вот поэтому. Это глупо, не так ли, но что делать?
Быть может, через два года, через год я буду в Париже.
Anch’io[38]38
Я тоже (итал.). Рембо имитирует восклицание Корреджо, который при виде картины Рафаэля «Святая Цецелия» воскликнул: «Я тоже художник».
[Закрыть] буду парнасцем, господа из журнала! – Сам не знаю, что есть во мне… что поднимается… – Клянусь вам, дорогой мэтр, что всегда буду поклоняться двум богиням – Музе и Свободе.
Не смотрите презрительно на эти стихи… Вы доставите мне безумную радость и надежду, если найдете местечко среди парнасцев для этой вещицы – «Credo in unam»… Я появился бы в последнем выпуске «Парнаса»: это было бы Кредо всех поэтов! – Честолюбие мое! О, безумное!
– Так эти стихи выйдут в "Современном Парнасе"?
– Разве не заключена в них вера поэтов?
– Меня никто не знает, но что с того? Ведь все поэты братья. Эти стихи верят, любят, надеятся – вот и все.
– Дорогой мэтр, помогите мне. Дайте мне подняться. Я молод: протяните мне руку".
Мечты Рембо были наивными: правда, Банвиль ответил ему, но и не подумал публиковать стихотворение, на которое юный поэт возлагал самые большие надежды. Много позже эти стихи все же появятся в печати под названием "Солнце и плоть" – но для Рембо это уже не будет представлять интереса. Пока же это письмо – первая попытка прорваться в обольстительный и загадочный мир литературы. Неудача больно ранила подростка. На протяжении всей его жизни это будет повторяться вновь и вновь: он слишком быстро приходит в отчаяние, которое слишком быстро перерастает в истерику. И его поэзия разительно меняется: появляются такие вещи, как "Наказание Тартюфа" или "Венера Анадиомена". Оба стихотворения были написаны в июне 1870 года, и в них Рембо словно бы сводит счеты с обидевшим его миром. Если в "Солнце и плоти" звучал гимн природе и любви, то теперь на свет появляется вылезающая из зеленой железной ванны Венера с отвратительной язвой вместо заднего прохода:
Не стоит, конечно, забывать уже проявившуюся склонность к эпатажу: мальчик почти наслаждается, описывая мерзость окружающего мира, но делает это по-книжному, при помощи слов – у него достаточно богатое воображение, чтобы мысленно представить отвратительное уродство жирной и угреватой женской плоти, но было бы большой ошибкой предполагать, что это личные впечатления. Однако, в любом случае, это уже не прежний «чопорный, послушный и кроткий» школьник, хотя у матери и учителей еще сохранялись иллюзии на сей счет.
В короткой творческой биографии Рембо можно выделить несколько важных периодов. С марта по октябрь 1870 года он словно бы пробует руку: в "Ощущении" использованы темы и образы Ламартина, "Кузнец" является подражанием Гюго, "Бал повешенных" самим названием отсылает к Вийону, "Солнце и плоть" написано под непосредственным влиянием Мюссе, и здесь же звучат темы парнасцев – Леконта де Лиля и Банвиля, "Голова фавна" похожа на стихи Виктора де Лапрада и т. д. В это время юный поэт не стесняется заимствовать иногда целые строки у своих собратьев: "Венера Анадиомена" и "На музыке" имеют точки соприкосновения со стихами Глатиньи, "Вы, храбрые бойцы…" перекликается со сборником Гюго "Возмездие", "Ответ Нины" совпадает по замыслу и чередованию рифм со стихами Банвиля, "Спящий в ложбине" обязан своим появлением на свет стихотворению Дьеркса.
Изабель позднее уверяла, будто брат ее совершенно не интересовался изданием своих сочинений – кудесник стиха, он творил, словно дышал, не помышляя о мирской славе:
"Артюру Рембо никогда не приходила в голову мысль о том, чтобы опубликовать свои стихи, равно как и о том, чтобы добиться, благодаря им, выгоды или известности – если они все же были опубликованы, это произошло против его воли".
Как обычно, утверждения сестры не соответствуют действительности: юный поэт жаждал известности и целенаправленно шел к своей славе. Ему без труда удавалось "подделаться" под нужный тон: для "Ревю пур тус" он упражняется в глуповатой морализации, для журнала "Ла Шарж" пишет в залихватской манере, для парнасцев приберегает языческие темы и помпезный стиль. В доме сестер Жендр он переписывает набело свои стихи и тратит слишком много бумаги, а в ответ на упреки поясняет:
"Для типографии нельзя писать с оборотной стороны".
Переломными становятся для Рембо зима и весна 1871 года. "С падением Коммуны ему открывается, быть может, помимо воли, истинный смысл того, что он называет революцией". Это вовсе не социальный переворот – точнее, им одним дело не ограничивается. Рембо стремится к революции всех элементов, ибо они погрузились в спячку с тех пор, как был заключен союз с Богом слабых и нищих духом. Мир утерял свое подлинное лицо, сокрытое под навязанной ему маской, и представляет собой лишь мерзкую карикатуру своей истинной судьбы. Вселенную необходимо встряхнуть, чтобы сбросить постыдное иго цивилизации: для этого нужно истребить род людской, уничтожить планету и вернуться к хаосу, из которого родится нечто неслыханно новое. Потрясенный своим открытием, Рембо создает с мая по август 1871 года целую серию "апокалипсических" стихотворений, нацеленных на разрушение всех отвергаемых отныне ценностей: "Сидящие", "Праведник", "Первое причастие", "Мои возлюбленные крошки", "Приседания", "Вечерняя молитва", "Бедняки в церкви", "Семилетние поэты", "Сердце паяца" (позже названное "Казненное сердце" или "Украденное сердце"). 10 июня 1871 года Рембо посылает три последних стихотворения Полю Демени – другу Изамбара и молодому поэту, с которым познакомился в Дуэ. Именно в этом письме содержится просьба уничтожить все ранние (написанные в 1870 году) сочинения:
"… сожгите, я так хочу и верю, что вы исполните волю мою, как исполняют волю усопшего, сожгите все стихи, которые я по глупости своей передал вам во время моего пребывания в Дуэ…"
Это, несомненно, свидетельствует о пережитом кризисе и появлении нового взгляда как на окружающую действительность, так и на литературное творчество. К маю 1871 года Рембо, действительно, разрабатывает программу, которой будет руководствоваться в ближайшие три года. 13 и 15 мая 1871 он посылает Жоржу Изамбару и Полю Демени так называемые "Письма Ясновидца". В послании к учителю он формулирует свои эстетические и политические взгляды следующим образом:
"Я стараюсь как можно сильнее осволочиться. Почему? Я хочу быть поэтом и работаю над тем, чтобы сделаться Ясновидящим: вы этого совершенно не поймете, а я не смогу толком объяснить. Речь идет о том, чтобы достичь неведомого посредством расстройства всех чувств. Это огромные муки, но нужно быть сильным, нужно родиться поэтом, а я осознал себя поэтом. Это вовсе не моя вина. Было бы ложью сказать: я думаю; следовало бы сказать: меня думают. Простите за каламбур. Я – это другие".
В письме к Полю Демени Рембо раскрывает суть своей программы несколько подробнее:
"Чиновники, писатели: автор, творец, поэт – подобный человек еще никогда не существовал!
Первое, что должен сделать человек, который хочет быть поэтом, это полностью познать самого себя. Он ищет свою душу, исследует ее, подвергает искушениям, обучает. Познав, он должен возделывать ее; это кажется простым: в любой голове совершается естественное развитие; сколько эгоистов провозглашают себя авторами; есть и другие, которые приписывают себе интеллектуальный прогресс! – Но речь идет о том, чтобы создать в себе чудовищную душу: как бы на манер компрачикосов! Представьте себе человека, который взращивает бородавки на собственном лице.
Я говорю, что надо быть ясновидцем, сделаться ясновидцем.
Поэт делает себя ясновидцем посредством длительного, громадного и систематического расстройства всех чувств. Все виды любви, страданий, безумия; он ищет самого себя, он черпает в себе самом все яды, чтобы извлечь из них квинтэссенцию. Невыразимая мука, которая требует всей его веры, сверхчеловеческой силы, ибо он становится великим больным, великим преступником, великим проклятым – и величайшим Ученым! – Ибо он достигает неведомого! Потому что он возделал душу свою, которая уже намного превосходит другие по богатству! Он достигает неведомого, и, когда ему кажется, что он обезумел, ибо не понимает смысла своих видений, тогда-то он их и видит! Пусть он подохнет в своем броске к неслыханному и невыразимому: придут другие ужасные труженики; они начнут с тех горизонтов, где обессилел тот!"
Кто же из поэтов достоин называться ясновидцем и может служить ему примером? В письме к Демени Рембо перечисляет тех, кто хоть немного приблизился к "ясновидению". В какие-то мгновения это удавалось Ламартину, но его "губит старая форма". Многое сумел увидеть Гюго, который, однако, склонен "к излишним умствованиям". Второе поколение романтиков – Теофиль Готье, Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль – значительно глубже. Но они пытались лишь воскресить прошлое:
"Настоящим ясновидцем, подлинным королем поэтов оказался только Бодлер. Однако он жил в слишком изысканной среде, и столь прославленная форма его произведений не соответствует их внутреннему размаху. Поискам неведомого должна соответствовать совершенно новая форма".
Из ныне живущих внимания заслуживают двое – Теодор де Банвиль и Поль Верлен. С последним Рембо вскоре предстоит встретиться. Что же касается Банвиля, то ему 15 августа 1871 года юный поэт направил свое второе послание:
"Быть может, вы помните, что в июне 1870 года вам прислали из провинции не то сто, не то полтораста гекзаметров мифологического содержания, озаглавленных "Credo in Unam". Вы были достаточно добры и ответили их автору.
Все тот же дурак посылает вам прилагаемые при сем стихи за подписью Алкид Бава.[40]40
«Слюнявый Алкид» (лат.), т. е. младенец-Геркулес.
[Закрыть] – Прошу прощения.
Мне восемнадцать лет. – Я всегда буду любить стихи Банвиля.
В прошлом году мне было всего лишь семнадцать!
Добился ли я прогресса?".
Смиренный тон послания обманчив: в это время Рембо совершенно охладел к Банвилю и ставил себя как поэта гораздо выше, хотя всего несколько месяцев назад обращался к знаменитому парнасцу с подчеркнутым уважением – как к мэтру. Теперь же он почти не скрывает издевки над Банвилем и прочими жалкими стихоплетами, не способными понять истинную красоту. Вместе с тем, Рембо по-прежнему нуждался в литературной протекции: поэтому он рискнул еще раз обратиться к известному поэту, который год назад не погнушался ответом новичку. Отправленное Банвилю стихотворение "Что говорят поэту о цветах" было написано в соответствии с новыми принципами – это "виртуозная эквилибристика, свидетельствующая о том, до каких пределов доходит гениальная изобретательность Рембо в области сквернословия". Марсель Кулон, впервые опубликовавший эти стихи, проводил параллель между ними и "Пьяным кораблем": они в плане комическом выражают то же, чем последняя вещь является в плане возвышенном – в обоих случаях речь идет о стремлении к экзотике. В этом стихотворении Рембо последовательно противопоставляет Францию и дальние страны: хилые, чахлые, смешные в своем убожестве европейские растения меркнут на фоне неведомой, неслыханной, несуществующей флоры приснившихся тропиков и воображаемых Флорид:
Бывает так: в лазурной тьме,
Где море трепетных топазов,
Все эти лилии в тебе
Взыграют, как клистир экстазов. (…)
А утром ты встаешь, дружок,
И надувает после ванной
Твою рубашку ветерок
Над незабудкою поганой. (…)
Растенья Франции смешны,
Тщедушны, вздорны, неуклюжи,
И таксы в них погружены
По брюхо, словно в мелкой луже. (…)
Дудите в дудки, простаки!
Вам слюни сладки, словно соки.
А это – всмятку сапоги:
Лилеи, Розы и Ашоки![41]41
Перевод Д. Самойлова.
[Закрыть] (…)
Нечто подобное произошло и с «Пьяным кораблем»: в последних числах августа 1871 года, еще ни разу не побывав на море, Рембо создает видение пригрезившегося плавания. «В этом стихотворении, подлинном половодье слова, он, пользуясь все более углубляемым и развертываемым символом, пророчески предсказывает свой собственный легендарный и патетический удел: все увидеть, все перечувствовать, все исчерпать, изведать до дна и всему найти соответствующее выражение». С тем, что поэма «Пьяный корабль» заключает в себе дух пророчества, согласны многие исследователи: например, Станислас Фюме также утверждает, что в этой поэме «заранее описана почти вся жизнь Рембо».
Рене Этьямбль, со своей стороны, считает, что программу ясновидения поэт сумел реализовать только в двух вещах – сонете "Гласные" (более знаменитом) и "Четверостишии", которое является самым совершенным творением Рембо, ибо это истинное видение:
В августе 1871 года Рембо показалось, что его программа приносит результаты и способна «очистить» мир: в «Четверостишии» даже женщина становится прекрасной – без «прыщей на хребте», уродливых «титек», насмешливой улыбки. Он убежден, что создал несколько шедевров. Совсем недавно ему хотелось умереть – ярче всего это выразилось в стихотворении «Сестры милосердия»:
Ни в белой магии, ни в мрачном чернокнижье
Не обретет себя он, раненый гордец,
И в жуткой пустоте, которая все ближе
Без гнева встретит он подкравшийся конец —
Там, Истину узнав, беседуя со Смертью
И грезя без конца все ночи напролет,
Таинственную смерть сестрою милосердья
Всем существом своим впервые назовет.[43]43
Перевод В. Орла
[Закрыть]
Но теперь мысли о смерти отступают – на смену им приходит уверенность в близкой славе. И Рембо предпринимает еще одну попытку прорваться в литературный мир. На сей раз он решил обратиться к Полю Верлену, которого в письме к Изамбару назвал «истинным поэтом». Ответ пришел не сразу, что едва не повергло юношу в очередной приступ отчаяния. Он не знал, что его будущего друга пока нет в Париже – Верлен гостил у друзей в Нормандии и вернулся в столицу лишь в конце августа. В состоянии тревожного и мучительного ожидания Рембо создает «Пьяный корабль» и показывает его Делаэ: именно эту вещь он будет читать искушенным и закоснелым столичным литераторам – этой поэмой он завоюет Париж.