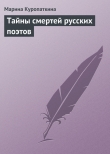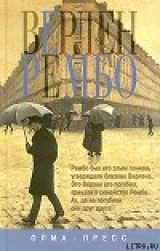
Текст книги "Верлен и Рембо"
Автор книги: Елена Мурашкинцева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
"Верлен говорил глухим голосом. Грудь его вздымалась, словно он пытался подавить рыдания. Я понял, что в такой момент для него будет благом, если он даст полную волю своим воспоминаниям.
– Когда вы оказались в тюрьме, – спросил я его, – и когда узнали, что Рембо ранен легко, вы были довольны?
– Нет, – тут же отозвался Верлен, – я был в ярости из-за того, что потерял его, и мне тогда хотелось его уничтожить. Лишь позднее, в камере Монса, и потом, когда я вышел на свободу, мои чувства по отношению к нему смягчились… Впрочем, нет: о смягчении говорить нельзя. В этом мальчике заключено было демоническое обольщение. Я вновь и вновь вспоминаю те дни, что мы провели вместе, когда бродили по дорогам, опьяненные нашим исступленным искусством, и все это представляется мне, словно морская зыбь, напоенная ужасающим и восхитительным благовонием. … Вы как-то написали, что Рембо – это легенда. С литературной точки зрения вы, конечно, правы. Но для меня Рембо по-прежнему остается живым и реальным, это солнце, которое светит во мне и никогда не погаснет… Вот почему он снится мне каждую ночь".
Надо признать, что биографы Рембо самым недобросовестным образом воспользовались благородством Верлена: они либо искажали последовательность событий, либо прибегали к излюбленному приему – умалчивали о тех фактах, которые не укладывались в версию о Рембо, ставшем невинной жертвой слабовольного алкоголика. К примеру, Станислас Фюме предпочитает называть грубые выходки «невинными мальчишескими шалостями»: помилуйте, ведь Рембо было всего семнадцать-восемнадцать лет – да разве в этом возрасте что-либо кажется опасным? Показания Рембо этот исследователь считает «простыми и правдивыми»: юный поэт твердо заявил, что не желает опровергать «клевету» (о «безнравственных сношениях» с Верленом) – и он сдержал свое слово, никогда более не заговаривая на эту тему. Как же тогда быть с «Сезоном в аду»? Очень просто: «…Неразумная Дева была скорее женской ипостасью личности Рембо, Душа (Anima) того Духа (Animus), который вдохновит Клоделя на самый гениальный из всех комментариев». Зато старший из поэтов постоянно намекал на любовную связь, одновременно защищая «чистоту» своих отношений с Рембо. «Тем самым Верлен подливал масла в тот огонь, который желал потушить». Словом, во всей этой истории целиком и полностью виноват «пьяница» Верлен, не оценивший благородства помыслов своего друга. Единственное, в чем можно слегка упрекнуть Рембо: он был хитрым крестьянином и умел защищать свои интересы. Ему надо было во что бы то ни стало вырваться из когтей полицейских и следователей, а на гражданское мужество он плевал точно так же, как на патриотизм – «патрульотизм», по его собственному выражению. «Его голубые глаза – глаза небесного презрения – лгали».
Более осторожный Жан Мари Карре отдает явное предпочтение "фигуре умолчания": "Знакомясь со всеми версиями этой драмы, как бы различны они ни были, приходится признать, что Верлен бесспорно явился главным виновником ее и что вина его усугубляется его пьяными выходками и нелепым покушением на жизнь друга, но вместе с тем нельзя закрывать глаза и на то, что Рембо нашел в ней удобный случай избавиться путем ареста Верлена от тяготивших его отношений". Исследователь явно стремится соблюсти объективность, но ему это плохо удается: Рембо сдал Верлена полиции из трусости, а не из-за холодного расчета (для биографии "сверхчеловека" второй вариант является более приемлемым). В описании же предшествующих обстоятельств слишком многое умалчивается: Карре не говорит ни слова о письмах Рембо из Лондона, в которых тот умолял Верлена о прощении и просил разрешения приехать; ни разу не упоминает о том, что заболевший Верлен призывал в Лондон не только мать и Рембо, но и жену – по версии Карре, Верлен и думать не желал о жене, лишь иногда снисходительно уступая ее мольбам (как во время встречи в Брюсселе). Естественно, биограф Рембо целиком и полностью верит в болезнь Верлена (скорее всего, мнимую), который просто обязан был тяжело заболеть после отъезда Рембо.
Весьма популярны также версии, которые можно назвать "импрессионистскими": реальные факты отсутствуют, а известные события предстают, словно окутанными туманной дымкой, в которой нельзя разобрать, кто прав и кто виноват. Русский читатель уже имел возможность познакомиться с подобной манерой изложения: "Немного кротости! Да где же ее взять этому помешанному? И вот во время очередной дружеской перепалки, когда Рембо объявил, что он рвет, и рвет окончательно, Верлен схватил пистолет и выстрел – пьяный зигзаг пули слегка задел Рембо. Кажется, потом, уже на улице, Верлен умолял его о прощении. Кажется, опять стрелял… (И все это на глазах бедной матушки. Ах, Боже праведный! – наверное, можно б было посвятить ей отдельную книгу, над которой человечество прорыдало бы лет двести, – этой доброй женщине, набожной провинциалке, в чьем сердце красными, кровяными, строками была написана жизнь Верлена, ее милого блудного Поля). (…) Злой гений Верлена отказался от каких бы то ни было исков. Тем не менее в августе 1873 года бельгийский суд приговорил Бедного Лелиана к двум годам тюрьмы…". В этом описании больше всего умиляет слово "кажется": то ли один выстрел, то ли два – какая разница! Что касается следователей с судьями, то они, видимо, набежали сами по себе – как же не повезло бедному Верлену!
Следует повторить еще раз, что современники не знали всех обстоятельств брюссельской драмы – только после публикации писем этого периода и документов следствия стало возможным восстановить реальную последовательность событий. Не удивительно, что на "пустом месте" возникли многочисленные легенды. Самая "красивая" из них была рождена воображением Рембо и принята на веру сначала Патерном Берришоном, затем Полем Клоделем, затем – подавляющим большинством биографов Рембо и – в меньшей степени – Верлена. Суть легенды состоит в следующем: Рембо решил превратить Верлена в "сына солнца" и увел его из жалкого мещанского мирка в необозримый мир. Верлен же оказался слаб и недостоин – более того, он осмелился изводить Рембо своим постоянным нытьем и жалобными сетованиями. При этом предполагается, что Верлен сам по себе был посредственным поэтом и достиг вершин только благодаря влиянию Рембо – этой точки зрения придерживается, например, Станислас Фюме. Жан Мари Карре выражается несколько мягче: "В результате близости Верлена к Рембо, поэзия бедного Лелиана приобретает более индивидуальный и, если можно так выразиться, более произвольный характер".
Самая фантастическая версия о причинах катастрофы принадлежит, естественно, семейству и тесно связана с проблемой так называемого "ложного наследия" Рембо. Поскольку подавляющая часть стихотворений и "Озарения" были опубликованы стараниями Верлена, Берришона и нескольких исследователей, неизбежно должны были появиться рассказы об "утраченных" произведениях: о них говорили Изабель, Делаэ и Верлен, причем первые двое всегда стремились подчеркнуть, что пропавшие стихи намного превосходили известные публике творения гениального поэта. К числу таких сочинений относится "Духовная охота" ("Chasse spirituelle"). Когда оба друга отправились в странствие, Верлен якобы оставил у родителей жены рукопись, которая впоследствии затерялась. Рембо требовал вернуть ее, и "это стало одной из причин, вернее, главной причиной брюссельской драмы". Так представила дело Изабель Рембо, а вслед за ней Патерн Берришон. Излишне говорить, что эта совершенно неправдоподобная версия оказалась неприемлемой даже для самых пылких поклонников Рембо. Большинство исследователей подвергают сомнению сам факт существования подобной рукописи – не говоря уж об очевидной подтасовке с целью изобразить роковую ссору так, чтобы Верлен выглядел либо злокозненным завистником (сознательно не желал отдать гениальное стихотворение), либо бездарным и трусливым ротозеем (не посмел потребовать рукопись у семейства Мотэ).
Помимо двух непосредственных участников брюссельской драмы единственным свидетелем событий была мать Поля – мадам Верлен. Ее версию изложил в своей книге Эдмон Лепелетье, который ознакомился с рассказом Верлена в "Моих тюрьмах", но здраво рассудил, что его друг слишком многое не договаривает и о многом умалчивает. По словам мадам Верлен, Рембо прибыл в Брюссель из Лондона с одной целью – разжиться деньгами, которые он прежде вымогал у нее самой. Это и стало причиной ссоры:
"Она [мадам Верлен] была третьей в той комнатке гостиницы Льежуа, где молодые люди выясняли отношения из-за объявленного Рембо намерения уехать.
Он утверждал, что приехал лишь для того, чтобы сразу же уехать. Пусть ему дадут денег, и он тут же отправится обратно! Обоим кровь ударила в голову от поглощенных аперитивов. Верлен, более слабый или более возбужденный алкоголем, пришел в крайнее раздражение. Тщетно мадам Верлен умоляла друзей сесть за стол и отложить этот спор до завтрашнего дня, когда к ним вернется хладнокровие. Рембо не желал ничего слушать. Он сухо заявил, что уедет немедленно и, подтверждая свои слова присущим ему властным жестом, добавил, что хочет денег. Он повторял, нервно выделяя каждый слог и как бы скандируя, свое настоятельное требование: "Де-нег! Де-нег!"
Верлен еще до этого купил револьвер – вероятно, в смутном стремлении к самоубийству, ибо терзался воспоминаниями о своей жене и страдал при мысли, что раздельное проживание стало неизбежным ввиду ее отказа приехать в Брюссель. Его давно одолевали зловещие грезы о смерти. По ночам к нему являлись черные демоны, рожденные парами алкоголя. Подчиняясь внезапному порыву к насилию, он вытащил оружие из кармана и выстрелил в сторону Рембо.
Тот успел инстинктивно вытянуть руку, словно желая отобрать револьвер. Первая пуля оцарапала ему левое запястье, вторая угодила в половицы, ибо он сумел все-таки опустить дуло вниз.
Глубокое оцепенение охватило всех троих участников этой сцены. Мадам Верлен увлекла своего сына в спальню. Он рыдал, выражая самое искреннее раскаяние, затем, вернувшись к Рембо, который не произнес ни слова, крикнул: "Возьми револьвер и убей меня!" Мадам Верлен пыталась успокоить молодых людей. Она перевязала руку Рембо и, поскольку тот вновь обратился к своей навязчивой идее, дала ему 20 франков, чтобы он смог поехать к матери в Шарлевиль. Обе стороны считали дело законченным, а крохотная царапина Рембо казалась уже затянувшейся без всяких последствий – как медицинских, так и юридических.
Раненый настаивал, что хочет уехать первым же поездом с целью как можно быстрее вернуться в материнский дом. Верлен пожелал проводить его. На пути к вокзалу он пребывал все в том же крайне возбужденном состоянии.
В какой-то момент Рембо показалось, будто он вновь нащупывает в кармане револьвер, чтобы выстрелить. По крайней мере, именно такое объяснение он представил в своей жалобе. Был ли причиной испуг или же то была дьявольская махинация вполне в его духе, имеющая целью грубо устранить Верлена, но он устремился к полицейскому с воплем: "Убивают!" Обезумевший Верлен помчался следом, размахивая руками, крича, и, возможно, угрожая. Рембо указал полицейскому на него. Так произошел арест".
Лепелетье получил юридическое образование. Как ярый республиканец, он имел неприятности с правосудием в последние годы империи. Не удивительно, что свое "расследование" он провел основательно и добросовестно – достаточно сказать, что ему первому удалось раздобыть некоторые (не все) документы следствия. Его версия почти совпадает с показаниями участников драмы, за исключением одного – самого щепетильного – пункта. Непосредственной причиной роковой ссоры будто бы стали деньги, однако об этом нет ни слова не только в показаниях Рембо (что понятно) и Верлена (который был пьян и ничего не помнил), но и в заявлении мадам Верлен. Правда, ей пришлось общаться с полицией только один раз – в день покушения и ареста, когда она вряд ли сознавала, чем закончится это дело для ее сына. Возможно, она повела бы себя иначе, если бы могла предвидеть приговор бельгийского суда. Рембо был вполне способен на вымогательство: через несколько лет он предпримет попытку шантажировать Верлена. Но это не может служить доказательством того, что он потребовал "отступного" 10 июля 1873 года и спровоцировал выстрелы.
Любые попытки объяснить то, что произошло в Брюсселе, предполагают ответ на вопрос: какими были в реальности отношения Верлена и Рембо. Суд, вынесший решение о расторжении брака между Верленом и его женой, назвал их "предосудительной связью" (пощадив Рембо, имя которого не было названо). В Брюсселе оба поэта подобную связь категорично отрицали: Рембо лаконично и высокомерно, Верлен – нервно и многословно. Их друзья и родные – Лепелетье, Делаэ, Берришон, Пьеркен – не менее категорически поддерживали отрицание. Вопрос о "виновности" в таком случае зависел от личных пристрастий. Патерн Берришон, естественно, считал Рембо невинной жертвой пьяницы Верлена. Эдмон Лепелетье утверждал, что расчетливый Рембо использовал материальные возможности Верлена, а затем хладнокровно избавился от него. Эрнест Делаэ, упиравший на "случайность" брюссельских выстрелов, до восьмидесяти лет был убежден, что предполагаемая сексуальная связь между Верленом и Рембо – это всего лишь бахвальство двух гениальных мистификаторов, которым нравилось эпатировать "буржуа", главного врага всех художников и литераторов второй половины прошлого века. В подтверждение своего тезиса Делаэ любил ссылаться на эпизод в вокзальном буфете Арраса, когда оба поэта стали вслух рассуждать о готовящихся убийствах и кражах, а перепугавшиеся обыватели вызвали жандармов.
Французские литературоведы долгое время не желали обсуждать эту скользкую тему. Сейчас – с опозданием на пятьдесят лет – оскорбленную невинность строят русские авторы: "И только Верлен был заворожен. Очарован. Порабощен. Кем был ему этот мальчишка? Соузником по мирозданию? Сотрапезником? Сопоэтом? Сожителем (на чем, конечно, вновь и вновь будут настаивать опрятные Нордау)? Бог весть. Ясно одно: это было очередное опьянение, и на склянке, содержавшей новый безумный наркотик, было криво нацарапано: "Артюр Рембо". Конечно, их выжили из Парижа (конечно, они сами себя выжили). И начались пьяные зигзаги по Европе". Комментировать здесь нечего, отмечу только одно – самое несуразное – утверждение: из Парижа поэтов никто не выживал, поскольку в странствия они устремились сами, а совместные "пьяные зигзаги" затронули лишь две европейские страны – Англию и Бельгию.
С появлением документов стало невозможным сохранять фигуру умолчания. Первым о гомосексуальной связи открыто (и доказательно) заговорил Марсель Кулон. В 1930 году было опубликовано так называемое "досье Дюлаэра", куда вошли брюссельские документы: обнаруженные у Верлена при обыске стихотворение "Хороший ученик" и два письма Рембо, а также отобранные следователем у Рембо письма Верлена. Затем в печати появились и другие послания – такие, например, как записочка Верлена от 18 мая 1873 года:
"Братишка, мне многое надо бы тебе сказать, но уже два часа, и я успел набраться. Завтра я, возможно, напишу тебе про все мои планы, литературные и прочие. Ты будешь доволен своей старой хрюшкой…"
Последняя строчка этого послания явно перекликается с "Сезоном в аду" – с воплем Рембо "я полюбил свинью!" Видимо, у обоих друзей было в ходу это прозвище (они вообще любили давать прозвища как друг другу, так и своим знакомым). Поразительно, но по логике такого исследователя, как Станислас Фюме, "свинья" и "хрюшка" все равно остаются олицетворением женского образа в сознании Рембо.
После публикации документов произошло разделение на два лагеря: одни исследователи высокомерно отметали неприятные факты, ибо гениальность списывает все – другие же принялись расчищать накопившуюся грязь, которая норовила выдать себя за "миф". Лучше всех об этом сказал Франсуа Порше: "Гнойник необходимо было вскрыть". Сейчас уже невозможно отрицать очевидное – да и сама гомосексуальная любовь в наше время не столь предосудительна, как была в конце прошлого и в первой половине нынешнего века.
Инициатором любовной связи большинство исследователей склонны считать более опытного и более развращенного Верлена. Далее начинается разноголосица, вызванная необходимостью решить сакраментальный вопрос: кто виновник столь драматического исхода? Биографы Рембо единодушно утверждают, что им был Верлен. Он якобы воспользовался тем, что Рембо по этическим соображениям желал достичь "систематического расстройства всех чувств", и совратил своего юного друга, однако получил в награду лишь презрение. Со стороны Верлена была безумная любовь, со стороны Рембо – только эксперимент, в котором юноша быстро разочаровался. Вот лишь один пример подобной интерпретации (которым несть числа): "Верлен и Рембо – оба неоднократно в стихах и прозе дают… целый ряд самых двусмысленных и противоречивых указаний. С одной стороны, перед нами весьма подозрительная исповедь, с другой – искренняя автобиография, хотя и чудовищно искаженная и полная передержек… Обвинения, выдвигаемые защитниками нравственности, слишком хорошо вяжутся со всем, что мы знаем по другим источникам о жизни Верлена, об его разнузданной чувственности, распутстве и безудержной похотливости. Но это отнюдь не согласуется со всем образом Рембо, с его "головным" темпераментом, холодным эгоизмом и редкой замкнутостью… Позволил ли он вовлечь себя на некоторое время в подозрительную связь, из морального ли безразличия, из любопытства ли "ясновидца", или из легкомыслия, бравады и цинизма – все это недостоверно и, на мой взгляд, мало вероятно, хотя в конце концов и возможно, но, по-моему, не имеет того значения, какое придают этому многие. В ту пору Рембо только что исполнилось семнадцать лет, и, несмотря на свой короткий февральский роман, он – еще настоящий школьник. Его знакомство с половой жизнью не намного больше знакомства подростка, в котором впервые проснулся голос природы. Право, нет никаких оснований кричать о развращенности. Рембо никогда не был рабом привычки, и, разумеется, не он увлек Верлена на путь порока".
Надо сказать, что в данном – единственном – случае биографы Рембо готовы забыть о своем излюбленном противопоставлении "слабовольного" Верлена "несгибаемому" Рембо. Между тем, любая сексуальная связь "по любви" предполагает согласие обоих партнеров. Более того, лидирующая роль Рембо проявилась здесь гораздо сильнее, чем, например, в поэзии: тезис о колоссальном влиянии Рембо на поэтику Верлена является довольно сомнительным, зато в интимных отношениях "активным" партнером чаще выступал не взрослый мужчина, а семнадцатилетний мальчик, который ненавидел (и, скорее всего, не знал) женщин. Его возлюбленный, напротив, был андрогином и по природной склонности отдавал предпочтение гетеросексуальным связям. Добавьте к этому разность темпераментов, внутренние конфликты каждого и внешние обстоятельства – и станет ясно, что катастрофы было не миновать.
Глава четвертая: Две смерти
«Сезон в аду»
«Недоступна мне ваша просвещенность. Я скотина, я негр. Но я могу спастись. А вот вы – поддельные негры, кровожадные и алчные маньяки. Торгаш, ты негр; судья, ты негр; вояка, ты негр; император, старый потаскун, ты негр, налакавшийся контрабандного ликера из погребов Сатаны. – Весь этот сброд дышит лихорадкой и зловонием раковой опухоли».
Сезон в аду: Дурная кровь.
20 июля 1873 Рембо появился в Шарлевиле – из Брюсселя он, скорее всего, шел пешком. Матери в городе не было, и ему пришлось отправиться на ферму. По свидетельству Делаэ, домашние спросили, что у него с рукой, но он отмахнулся от вопроса, бессильно опустился на стул и, схватившись за голову, разразился рыданиями: «Верлен, Верлен!»
Рембо, действительно, переживал кризис отчаяния. Он не поехал в Париж, куда так стремился, и это стало поводом для роковой ссоры. В Арденнах он вновь принялся за "Языческую книгу", которая получила теперь название "Сезон в аду". Он дал прочитать ее матери, но та лишь пожала плечами. Впрочем, она не возражала против намерения сына опубликовать свое сочинение, поскольку Артюр уверял, что это принесет большие деньги. Делаэ он сказал просто:
"От этой книги зависит вся моя судьба".
"Сезон в аду" был издан в Бельгии, в типографии Poot et Cie. Тираж был полностью отпечатан в октябре, и Рембо, получив авторские экземпляры, разослал их друзьям и знакомым – один из них получил Верлен, отбывавший наказание в тюрьме города Монс. Изабель Рембо и Патерн Берришон создали легенду о том, что Рембо будто бы сам уничтожил свое последнее произведение – совершая великий акт самоотречения, он собственноручно сжег все оставшиеся экземпляры книги. В 1901 году бельгийский библиофил Леон Лоссо обнаружил на типографском складе всеми забытые пачки «Сезона в аду» и тем самым развеял вымыслы родственников поэта. Характерно, что Патерн Берришон, узнав неприятную новость, сделал попытку воспрепятствовать ее распространению и первоначально преуспел: влиятельный журнал «Меркюр де Франс» отказался печатать заметку Лоссо.
Рембо не забрал тираж по очень простой причине: у него не было денег, чтобы оплатить типографские расходы. На мать надеяться было бесполезно, а "Неразумная дева" сидела в тюрьме: через два с половиной года Верлен напишет Делаэ, что Рембо сам "убил курочку с золотыми яйцами". Поразительно, но некоторые биографы продолжают свято верить в красивую легенду: "Сказав … "прости" своему прошлому великолепной и полной мрака исповедью, вечно неудовлетворенный поэт уничтожил свое последнее завещание, последний памятник своей литературной жизни".
"Сезон в аду" – это расчет с прошлым и одновременно – стремление избавиться от своих "демонов". Это мучительная попытка разобраться в самом себе и в том, что произошло – но никоим образом не исповедь и не "мемуары". Более всего книга похожа на калейдоскоп лихорадочных и даже истерических видений – образов прошлого, будущего и настоящего. Не удивительно, что биографы Рембо тщательно отмечают "пророчества": в этом вихре воображаемых превращений, действительно, можно разглядеть те, которые станут реальностью. Главной целью книги стало осмысление двойной катастрофы, которой посвящена важнейшая часть "Сезона в аду" – "Словеса в бреду" (или "Бреды"). Они пронумерованы, поскольку речь идет о двух главных наваждениях. Программа "ясновидения" и "алхимии слова" оказалась иллюзией, милосердная попытка "сына Солнца" спасти заблудшего собрата привела обоих к жизненному краху. И остался лишь слабый лучик надежды:
"Я призвал палачей, чтобы в час казни зубами впиться в приклады их винтовок. Накликал на себя напасти, чтобы задохнуться от песка и крови. Беду возлюбил как бога. Вывалялся в грязи. Обсох на ветру преступления. Облапошил само безумие. И весна поднесла мне подарок – гнусавый смех идиота. Но вот на днях, едва не дав петуха на прощанье, решил я отыскать ключ к минувшим пиршествам и, быть может, вновь обрести пристрастье к ним".
Начинается книга с поисков виновных. Первая часть – "Дурная кровь" – посвящена родословной проклятого поэта и его отношениям с Богом. Ответственность за свою судьбу он, прежде всего, возлагает на предков – тех самых галлов, которые подарили ему голубые глаза:
"От них у меня: страсть к идолопоклонству и кощунству; всевозможные пороки – гнев, похоть – о, как она изумительна, похоть, – а также лживость и лень".
За этим следует жалобный вопль ребенка, с которым Бог по непонятным (и, вероятно, злокозненным) причинам не желает разговаривать:
"Царство Духа близко, так отчего же Христос не дарует моей душе благородство и свободу? Увы! Евангелье изжило себя! Евангелье! Евангелье!"
Одновременно в книге выражено упование на Бога (искреннее или издевательское):
"Я поумнел. Мир добр. Я благословлю жизнь. Возлюблю братьев моих. Все это – теперь уже отнюдь не детские обещания. Давая их, я не надеюсь бежать старости и смерти. Бог укрепляет меня, и я славлю Бога".
Рембо причисляет себя к "низшей расе" и с мазохистским наслаждением описывает низменность своей натуры. Он до такой степени воображает себя "негром", что полностью залезает в его шкуру:
"Белые высаживаются. Пушечный залп! Придется принять крещение, напялить на себя одежду, работать".
Но это ничуть не мешает ему чувствовать себя выше других – очень характерный для Рембо "абсолютный" бунт вкупе с опасливой осторожностью крестьянина:
"Калеки и старикашки внушают мне такое почтение, что так и хочется сварить их живьем. – Надо бы исхитриться и покинуть этот материк, по которому слоняется безумие, набирая себе в заложники эту сволочь. Вернуться в истинное царство сынов Хама".
В части, озаглавленной "Невозможное", Рембо находит еще одного виновника катастрофы – западную цивилизацию в целом. В завершающем пассаже намечается новая программа – на сей раз не эксперимента, а спасения:
"Теперь мой дух во что бы то ни стало хочет погрузиться в испытания, выпавшие на долю всечеловеческого духа с тех пор, как пришел конец Востоку… (…) Я посылал к черту мученические венцы, блеск искусства, гордыню изобретателей, пыл грабителей; я возвращался на Восток, к первозданной и вечной мудрости".
Означал ли "Сезон в аду" полный разрыв с поэзией? Автор хранит надежду на что-то "иное" – недаром часть, озаглавленная "Утро", завершается призывом:
"Рабы, не стоит проклинать жизнь".
И далее, в последней части, названной "Прощай":
""Нужно быть безусловно современным.
Никаких славословий, только покрепче держаться за каждую завоеванную пядь. Что за жестокая ночь! Засыхающая кровь испаряется с моего лица, и нет за моей спиной ничего, кроме этого ужасного деревца!.. Духовная битва столь же груба, как и человеческое побоище, но видение справедливости – это радость, доступная лишь Богу.
И однако настал канун. Примем же всякий прилив силы и подлинной нежности. И на заре, вооружившись страстным терпением, вступим в сказочные города.
Что я там говорил о дружеской руке? Слава богу! Я силен теперь тем, что могу посмеяться над старой лживой любовью, заклеймить позором все эти лицемерные связи – ведь мне довелось видеть преисподнюю и тамошних бабенок, – и мне по праву дано будет духовно и телесно обладать истиной".
В этом он заблуждался – вернее, обманывал самого себя. "Духовное" и "телесное" обладание истиной останется лишь мечтой – очень скоро им уже отвергнутой и забытой. На замену придут мучительные поиски своего места в жизни и удручающее обретение его – в качестве коммерсанта, торгующего кофе, кожей, оружием и (возможно) людьми. "Исповедь сверхчеловека", начинающего сознавать тщету своей гордыни, была написана Рембо в канун решающего поворота в его жизни – смерти поэта и появления на свет торговца.