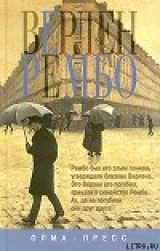
Текст книги "Верлен и Рембо"
Автор книги: Елена Мурашкинцева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Брюссель 1873
«… он был сущим ребенком… Меня ввергла в соблазн его таинственная утонченность. Я совершенно забыла свой долг – и бросилась за ним. Ну разве это жизнь! Настоящей жизни нет и в помине. Мы не живем. Я иду туда, куда идет он, так надо. А он еще то и дело срывает на мне свою злобу – на мне-то, на бедняжке! Демон! – Точно вам говорю, Демон, а не человек!»
Сезон в аду: Неразумная дева. Инфернальный супруг.
3 июля Верлен уехал из Лондона. 4 июля он уже находился в Брюсселе, где рассчитывал встретиться с женой. Рембо он отправил телеграфом письмо с борта корабля, с пометкой «на море»:
"Друг мой, не знаю, будешь ли ты еще в Лондоне, когда получишь это. Но хочу сказать тебе, что ты наконец должен понять, почему у меня не было другого выхода, кроме как уехать. Эта буйная жизнь и сцены, не имеющие другого повода, кроме твоей фантазии, уже сидят у меня в печенках.
Но поскольку я любил тебя безмерно (пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает), хочу заверить тебя, что если через три дня не воссоединюсь с женой, то пущу себе пулю в лоб. Три дня в гостинице, револьвер, это все стоит денег – вот откуда мое скряжничество. Тебе следовало бы меня простить. И уж если мне придется совершить эту последнюю хреновину, то я уж сделаю ее как подобает порядочному хрену. Последняя же моя мысль будет о тебе, хоть ты и обзывал меня каменным, а встречаться я больше не хочу, потому что мне предстоит сыграть в ящик.
Ты хочешь, чтобы я целовал тебя подыхая?
Твой бедный П.Верлен.
В любом случае больше мы не увидимся. Если моя жена приедет, ты получишь мой адрес и, надеюсь, будешь писать мне. Пока же, в течение трех ближайших дней, но не больше, пиши на мое имя в Брюссель до востребования.
Отдай Бареру три его книги".
Забегая вперед, следует сказать, что Рембо не воспринял всерьез угрозу самоубийства – и оказался прав. Но его положение в Лондоне было отчаянным: Верлен не оставил ему денег, а зарабатывать на жизнь юный поэт не умел и не хотел. Поэтому он немедленно (еще не получив никаких известий) отправил Верлену жалобное послание:
"Вернись, вернись, дорогой друг, единственный друг, вернись. Клянусь тебе, я буду вести себя хорошо. Я был с тобой груб, но это была просто шутка, я не сумел вовремя остановиться, и страшно об этом сожалею. Вернись, мы все забудем. Какое несчастье, что ты принял эту шутку всерьез. Вот уже два дня я плачу без конца. Вернись. Будь мужественным, дорогой друг. Еще ничего не потеряно. Тебе надо только вернуться обратно. Мы снова будем жить здесь – мужественно и терпеливо. О, умоляю тебя. Впрочем, это тебе самому пойдет на пользу. Вернись, ты найдешь все свои вещи. Надеюсь, сейчас ты понимаешь, что наша ссора была несерьезной. Ужасный миг! Но почему ты, когда я знаками призывал тебя сойти с корабля, этого не сделал? Мы два года провели вместе и вот дожили до подобной минуты! Что ты собираешься делать? Если ты не хочешь вернуться сюда, быть может, ты хочешь, чтобы я приехал к тебе?
Да, я был виноват.
О, ты ведь не забудешь меня, скажи?
Нет, ты не можешь меня забыть.
А я навсегда твой.
Скажи же, ответь своему другу, неужели мы не должны больше жить вместе?
Будь мужественным. Ответь мне как можно скорее.
Я не могу оставаться здесь надолго.
Слушайся только своего доброго сердца.
Скорее же, скажи, что я должен приехать к тебе.
Твой навеки.
Рембо.
Ответь мне скорее, я не могу оставаться здесь дольше, чем до вечера понедельника. У меня нет ни пенни, не могу даже отправить это письмо. Я отдал Вермершу твои книги и рукописи.
Если мне нельзя будет увидеться с тобой, я завербуюсь во флот или в армию.
О, вернись, я все время плачу и плачу. Разреши мне приехать к тебе, дай мне об этом знать, пришли мне телеграмму. В понедельник вечером я должен буду уехать отсюда, куда ты намерен отправиться, что ты собираешься делать?"
В этом письме Рембо выступает в роли несколько обиженной, но ласковой девочки – видимо, такая тональность присутствовала во взаимоотношениях «демона» и бедной «вдовы». И мольбы возымели действие: по свидетельству художника Казальса, Верлен прислал своему другу немного денег. Поэтому в следующем послании (отправленном в пятницу 5 июля) Рембо возвращается к более привычным наставлениям и укорам:
"Я прочел твое письмо, написанное «в море». На сей раз, ты не прав и очень не прав. Во-первых, в твоем письме нет ничего позитивного. Твоя жена не вернется, или вернется через три месяца, три года, откуда мне знать? Что до намерения сыграть в ящик, уж я-то тебя знаю. В ожидании жены и смерти ты наверняка будешь бесноваться, суетиться, докучать людям. Как, разве ты еще не понял, что с обеих сторон это были пустые гневные выходки? Но именно на тебе лежит последняя вина, потому что даже после моих напоминаний ты продолжал упорно лелеять свои фальшивые чувства. Неужели ты думаешь, что тебе будет приятнее жить с другими, а не со мной? Подумай об этом! – Ах, ну, разумеется, нет!
Лишь со мной ты можешь быть свободен, и, раз уж я поклялся, что отныне буду ласков, что горячо сожалею о своей вине, что наконец-то все понял и очень тебя люблю, а ты не хочешь вернуться или позволить мне приехать к тебе, то ты совершаешь преступление, и ты будешь раскаиваться в этом ДОЛГИЕ ГОДЫ, ибо потеряешь свою свободу и тебя будут ждать гораздо более жестокие горести, нежели те, что ты уже пережил. В конце концов, подумай, кем ты был до того, как познакомился со мной.
Что до меня, то к матери я не вернусь. Отправлюсь в Париж и постараюсь выехать отсюда в понедельник вечером. Ты вынудил меня продать твои вещи, иначе я поступить не мог. Они еще здесь, их заберут только в понедельник утром. Если хочешь писать мне в Париж, отправляй письма Форену… он будет знать мой адрес.
Разумеется, если твоя жена вернется, я не стану тебе писать, чтобы тебя не компрометировать. Никогда и не единой строчки.
Единственное же истинное слово, вот оно: вернись, я хочу быть с тобой, я люблю тебя. Если ты к этому прислушаешься, то выкажешь мужество и искренность.
В противном случае жалею тебя.
А я тебя люблю, целую, и мы непременно увидимся.
Рембо.
Грейт-коллидж 8 и т. д. до вечера понедельника или до полудня вторника, если ты решишься призвать меня".
По указанному адресу Верлен отправил телеграмму – 8 июля, в 8.38 утра – следующего содержания:
«Доброволец Испанию приезжай сюда гостиница Льежуа бери рукописи если возможно».
Текст этот нуждается в некоторых пояснениях. Трехдневный срок, назначенный Верленом, уже прошел: жена его не приехала, а кончать с собой он всерьез не намеревался – поэтому у него возникла мысль записаться добровольцем в испанскую армию. К моменту приезда Рембо он уже получил отказ в испанском посольстве и оказался в чрезвычайно затруднительной ситуации: без надежды примириться с женой и с невыполненной угрозой самоубийства. О намерении покончить с собой он успел оповестить всех, кого только мог – даже мадам Рембо. Стефани он написал 4 июля:
"Матушка,
Я решил покончить с собой, если моя жена не приедет в течение трех дней. Я написал ей… Прощай, если так случится. Твой сын, который тебя очень любил".
А Лепелетье известил 6 июля:
"Мой дорогой Эдмон,
Скоро я сдохну. Хочу только одного – чтобы никто об этом не знал, пока это не свершится и, кроме того, чтобы было доказано следующее: жена моя, котороую я все еще ожидаю до завтрашнего вечера, трижды была предупреждена – по телеграфу и по почте; следовательно, лишь ее упрямство станет причиной несчастья.
И пусть все знают, что это не из-за страха перед судом, который состоится через десять месяцев, но из-за избытка чувств, чрезмерной любви к этому созданию…
Позаботься о моей книжечке.[68]68
Речь идет о сборнике «Романсы без слов», рукопись которого Верлен отослал Лепелетье.
[Закрыть]
Прощай. Мать, узнав о моем состоянии, приехала сюда и пытается отговорить меня. Боюсь, ей это не удастся. Я жду свою жену".
Мать, естественно, примчалась в Брюссель, едва только получила письмо своего обожаемого Поля. Но ее присутствия Верлену было мало – он жаждал возвращения Матильды или Рембо (или обоих сразу). Так или иначе, к моменту приезда Рембо в Брюссель (8 июля 1873) Верлен, уже находился в состоянии запоя, а через два дня – 10 июля – дважды выстрелил в своего друга. Непосредственной причиной этого поступка стало желание Рембо вернуться в Париж. Мать с сыном проводили раненого на перевязку в больницу, а около семи вечера все трое отправились на Южный вокзал. Рембо показалось, будто Верлен хочет выстрелить в него еще раз, поскольку тот не вынимал руки из кармана (в котором предположительно находился револьвер). Юный поэт обратился в бегство и, добежав до ближайшего полицейского поста, попросил задержать Верлена, который и был немедленно арестован. При обыске у него нашли листок со стихотворением "Хороший ученик" ("Bon Disciple") с недвусмысленным описанием гомосексуальной связи, а также письма Рембо. Следователь Т’Серстевенс навестил Рембо в больнице и забрал его бумаги – в том числе, письма Верлена. Таким образом, у следствия сразу появился возможный мотив покушения, ибо отношения Верлена и Рембо наводили на весьма интересные мысли.
Таковы – в самых общих чертах – обстоятельства брюссельской драмы. Существует множество описаний того, что произошло 10 июля 1873 года между Верленом и Рембо. Разумеется, прежде всего, следует обратиться к данным по горячим следам показаниям всех участников событий.[69]69
Полный перевод этих показаний приведен в приложении.
[Закрыть]
Следствие было коротким: в день ареста показания дали все трое – Верлен, Рембо, мадам Верлен. Затем Верлен был дважды допрошен. Независимо друг от друга все трое единодушно показали следующее: револьвер Верлен купил утром (четверг, 10 июля) и вернулся домой около полудня; выстрелы раздались около двух часов; после этого все трое отправились в больницу св. Иоанна, где Рембо сделали перевязку, после чего вернулись домой. Верлен был арестован через несколько часов после покушения по устному обвинению своего друга.
Самого пристального внимания заслуживают показания Рембо. Его снисходительные биографы обычно не желают "копаться в этой грязи" – удивляться здесь нечему, поскольку это один из самых неприятных для их героя сюжетов. Мгновенное превращение "сверхчеловека" в испуганного мальчика – зрелище смешное и одновременно поучительное. Собственно, если бы биографы Рембо просто обходили молчанием обстоятельства следствия, с этим можно было бы примириться. Однако биографы Рембо дают совершенно неверную картину брюссельских событий. Показания всех действующих лиц брюссельской драмы нужно анализировать с точки зрения следователей, которым важно было определить, являлось ли покушение умышленным или же было совершено в "состоянии аффекта" (что считалось смягчающим вину обстоятельством). Для этого нужно было выяснить следующее: мотивы ссоры (как брюссельской, так и предшествующей лондонской); цель приезда Рембо в Брюссель; причину разрыва Верлена с женой и его ближайшие намерения; характер отношений между обоими поэтами.
Рембо давал показания четыре раза. Первый раз – вечером 10 июля, в день покушения и ареста Верлена. Он показал, что Верлен будто бы умолял его приехать в Брюссель – о своих же письмах не сказал ни слова. Лондонскую ссору объяснил тем, что жить с Верленом стало невыносимо. И, в довершение всего, рассказал, что Верлен не только заранее купил револьвер, но и угрожал ему, не желая допустить его отъезда в Париж. В оправдание Рембо можно сказать, что он, конечно, был глубоко потрясен всем случившимся: гнев, страх, унижение, наконец, боль всегда считались дурными советчиками.
Во время второй дачи показаний, 12 июля, Рембо лишь усугубил положение друга, хотя казалось бы, на сей раз он вполне мог успокоиться и все обдумать. Правда, Рембо признал, что писал своему другу из Лондона и просил разрешения приехать к нему – видимо, следователь объяснил ему, что отрицать это бесполезно. Но ссора в Лондоне, по словам Рембо, произошла из-за непозволительных выходок Верлена по отношению к общим знакомым. Даже крайне снисходительный к Рембо Жан Мари Карре признает, что его версия относительно причин ссоры "слегка расходится" с версией Верлена и Эрнеста Делаэ (кстати, последний писал об инциденте с рыбой скорее всего со слов Рембо). Разумеется, в показаниях полиции многие стремятся обелить себя, но Рембо представил себя благовоспитанным мальчиком, который был крайне шокирован поведением буйного сожителя – при этом не надо забывать, что ему лично ничто не угрожало, а Верлену предстоял суд.
Поскольку мадам Верлен показала, что Рембо жил на деньги сына, в этом пункте ему пришлось сбавить тон – и он заявил, будто жил с Верленом в складчину. Однако правда здесь была на стороне мадам Верлен – ее сын содержал Рембо. В показаниях от 12 июля возникли новые, убийственные для Верлена детали: мало того, что Рембо вновь показал, что Верлен купил револьвер заранее и угрожал ему, он еще и добавил к этому, что Верлен намеревался поехать в Париж, чтобы расправиться со своей женой. Иными словами, Верлен представал законченным убийцей, который стрелял в друга, поскольку под рукой не оказалось жены. Разумеется, все это могло быть правдой – Верлен находился в таком состоянии, что легко переходил от стремления примириться с женой к угрозам в ее адрес. Кстати говоря, о намерении Верлена помириться с Матильдой Рембо не сказал ни слова, хотя прекрасно об этом знал – собственно, это намерение Поля и было одной из причин их постоянных ссор. В целом же, если называть вещи своими именами, следует признать, что Рембо в этих показаниях попросту "топил" Верлена. Французские исследователи порой негодуют на суровость бельгийского суда, который осудил Верлена на два года тюрьмы за нанесенную другу "царапину". Однако "бедный Лелиан" еще дешево отделался: по показаниям Рембо его можно было судить за попытку умышленного убийства.
В своих показаниях от 18 июля Рембо утверждал, что все сказанное им ранее является чистой правдой: главная причина покушения состояла в том, что Верлен не желал допустить его отъезда. Впрочем, на сей раз Рембо неохотно признал, что у Верлена, действительно, было намерение примириться с женой. Но даже эта его единственная уступка (крайне важная для Верлена) была вынужденной: 17 июля мадам Верлен – по собственному побуждению или по совету адвоката – передала следователю письмо, в котором Поль извещал ее о намерении покончить с собой, если жена не приедет к нему через три дня. Наконец, у следствия имелись показания Огюста Муро, который утверждал, что Верлен сам намеревался ехать в Париж с целью примириться с женой – и не желал отъезда Рембо из Брюсселя, поскольку тот мог бы его скомпрометировать. Возможно, Муро кое-что присочинил от себя, ибо Рембо, по его собственному признанию, вызывал у него крайнее омерзение. Но, в любом случае, умалчивать о роли Матильды в жизни Верлена уже было нельзя.
19 июля Рембо отказался от прежних своих показаний: Верлен не имел дурного умысла, покупая револьвер, а причиной его пьянства был разрыв с женой. Кроме того, Рембо заявил, что не желает никакого судебного преследования Верлена – об этом с радостью пишут его биографы, утверждая, будто он сделал все, чтобы выручить друга. Хотелось бы верить, что Рембо сам догадался изменить свои показания, однако более правдоподобным выглядит предположение, что ему объяснили суть вещей: возможно, это сделала мадам Верлен, но, скорее всего, инициатива исходила от следователей, которые, конечно же, видели несоразмерность проступка вероятному наказанию и были далеко не убеждены в абсолютной "невинности" и "добропорядочности" Рембо. Отметим еще одно: отказавшись поддерживать обвинение, Рембо выходил из процесса – по бельгийским законам, он уже не обязан был присутствовать на суде и давать показания. Не случайно в "Сезоне в аду" он в завуалированной форме признается, как ужасала его встреча с юстицией:
"К кому бы мне наняться? Какому чудищу поклониться? Какую святыню осквернить? Чьи сердца разбить? Что за ложь вынашивать? По чьей крови ступать?
Главное – держаться подальше от правосудия. – Жизнь жестока, отупляюще проста, – скинуть, что ли, иссохшей рукой крышку с гроба, лечь в него, задохнуться? Тогда не страшны тебе ни старость, ни опасности: ужасы вообще не для французов".
Возникает вопрос: откуда взялись совершенно другие версии? Сам Рембо не оставил никаких письменных свидетельств о событиях в Брюсселе – «Сезон в аду» был закончен по свежим впечатлениям брюссельский драмы, но это сочинение менее всего походит на мемуарные свидетельства. Несомненно, что сестра Изабель, зять Патерн Берришон и ближайший друг Эрнест Делаэ использовали какие-то сведения, исходившие от него. Однако невозможно определить, насколько исказил истину сам Рембо, следует учесть также, что близкие ему люди склонны были до определенной степени фантазировать. Например, вариацией на тему Патерна Берришона является очень интересная версия Стефана Малларме, согласно которой Верлен будто бы стрелял в друга в тот момент, когда за ним приехали из Парижа жена и теща:
«Обаяние Парижа померкло, Верлен терзался разгоравшейся семейной распрей и, как скромный служащий Коммуны, боязнью преследований: видимо, поэтому Рембо решил перебраться в Лондон. Нищая вакхическая чета вдыхала всей грудью вольную коксовую гарь, хмелея от взаимного чувства. Скоро письмо из Франции позвало, даровав прощение, одного из отступников, с условием, что спутника своего он покинет. На свидании молодая супруга – по бокам мать и свекровь – ожидали примирения. Я доверяю рассказу, превосходно переданному г-ном Берришоном, и вслед ему отмечу лишь пронзительную сцену, героями которой – один раненый, другой в бреду – оба поэта в нечеловеческой их муке. Женщины молили согласно, Верлен уже отказался было от друга – но вдруг заметил его, случайно, в дверях комнаты, рванулся за ним, в его объятия, не слушая увещеваний его, охладевшего, твердившего, что все кончено, „клявшегося, что узы их должны быть разорваны раз и навсегда“, что „даже без гроша в кармане“, пусть и привела его в Брюссель единственно надежда на денежную помощь в возвращении на родину, „он все равно уйдет“. Рука равнодушного оттолкнула Верлена, тот в помрачении выстрелил в него из пистолета и рухнул, рыдая. Было решено, что дело не останется… в кругу семьи, едва не сказал я. Рембо, в бинтах, вышел из больницы, и на улице его, по-прежнему одержимого отъездом, настигла на сей раз прилюдно вторая пуля, которую преданнейший друг искупал потом двумя годами монсской тюрьмы».
Версия Малларме куда более «кровавая», чем предыдущие: Рембо получает две раны – одну на глазах у трех женщин, вторую – «в бинтах», по выходе из больницы. К слову говоря, полученная Рембо царапина зажила очень быстро: конечно, баловаться в пьяном виде огнестрельным оружием очень опасно, но у Верлена, похоже, был свой ангел-хранитель, поскольку он нанес самую легкую из всех возможных пулевых ран. «Кровавая» легенда была оформлена и средствами изобразительного искусства – достаточно посмотреть на картину Росмана «Раненый Рембо». Возвращаясь к Малларме, следует сказать, что прославленный символист сам ничего не выдумывал – он просто доверился тем басням, которые успели сочинить сестра и зять Рембо. Обращает на себя внимание сочувственное отношение к Верлену (которого совершенно не было у Берришона, обвинившего Верлена во всех смертных грехах) и легкий оттенок осуждения «равнодушного» Рембо (по Берришону – невинной жертвы безумца).
Искажение фактов и формирование на их основе легенды проявились с особой наглядностью в версии Эрнеста Делаэ, который мог узнать о брюссельских события от обоих участников драмы. Он записал то, что ему стало известно – эта рукопись была опубликована только в 1974 году:
«Тогда-то и произошла эта знаменитая сцена, в номере гостиницы. Пьяный Верлен угрожал Рембо убийством, если тот уедет, Рембо упорствовал в своем решении… и выстрел из револьвера. Раненый Рембо остается кротким и разумным: „Видишь, ты сделал мне больно из-за своих глупостей!“ Верлен, наполовину протрезвев при виде крови, соглашается на отъезд. Рембо обматывает руку салфеткой (пуля попала ему в запястье), и они выходят вместе, поскольку Верлен хочет проводить его на вокзал. Но по дороге, вновь ощутив безумную ярость, он опять достает револьвер (который сначала отдал Рембо, а тот имел неосторожность вернуть его ему), опять целится в Рембо. Вмешательство полицейских. Арест обоих. Допрос. Верлен наполовину безумен, Рембо дерзок и груб в разговоре с этими чиновниками, которые (невзирая на то, что раненый отказался от обвинения) отправляют Верлена в тюрьму, а Рембо – в больницу. Возможно, если бы Рембо сказал просто: „Пустяки, мы оба выпили, револьвер появился случайно и т. п.“, дело на этом бы и закончилось, но у Рембо была такая слабость: он всегда умел договариваться только с простыми людьми; при столкновении с властями, при взгляде на „буржуа“ с высокопарными манерами и выражениями он превращался в дикобраза: „Это вас не касается, оставьте нас в покое, это наше дело и т. д.“ В подобных обстоятельствах дело выглядело плохо. К тому же, из Парижа пришли неблагоприятные сведения. Бельгийским чиновникам – как и во Франции, там царил тогда дух морализаторский и реакционный – дело показалось столь темным, что бедному Верлену „задали перца“: он получил два года тюрьмы. Рембо, известивший меня об этом из Роша, был крайне удручен. В сущности, неделя в кутузке – это самое большее, что Верлен заслуживал. Впрочем, срок ему сократили – он отсидел только полтора года (в монсской тюрьме)».
Кое-что Делаэ излагает точно: ему известно, что первый выстрел был произведен в гостинице, а Верлен был арестован лишь тогда, когда отправился провожать Рембо на вокзал. Правда, револьвера Верлен не доставал и уж тем более не целился в Рембо – он всего лишь сунул руку в карман. О матери Верлена и о намерении Поля примириться с женой Делаэ не говорит ни слова – это означает, что сведения он, скорее всего, получил от Рембо. Полицейские появились сами по себе: Делаэ либо не хочет говорить о том, что Рембо попросил арестовать Верлена, либо – что вероятнее – просто не знает этого. Разумеется, никакой «заносчивости» в обращении с чиновниками (т. е. следователями) не было и в помине – вот эта байка, несомненно, исходила от Рембо, который рассказывал нечто подобное и о своем первом столкновении с юстицией (в сентябре 1870 года). Характерно, что Делаэ испытывает определенное неудобство в связи с арестом и осуждением Верлена: он упрекает Рембо в излишней гордыне, хотя делает это в очень мягкой форме.
Можно не сомневаться в том, что Делаэ составил свою записку "для памяти" – однако в дальнейшем словно забыл о ней. В статье, посвященной Верлену, он описывает брюссельское происшествие совершенно иначе:
"Они находятся на бульваре, солнце стоит в зените, в нескольких шагах от них стоят полицейские. Прохожие оборачиваются и останавливаются при виде бурной ссоры. Внезапно поэт вынул из кармана роковой револьвер и сделал угрожающий жест. Тут же набегают полицейские, хватают и препровождают к комиссару этих двух человек, из которых один в крайнем возбуждении объявляет себя убийцей, а второй, хоть и выказывает только высокомерное презрение, но не может скрыть свою окровавленную, перебитую выстрелом руку. Первого оставляют в заключении, иначе и быть не может; второго отправляют в больницу. (…) Между тем, "жертва" ведет себе вызывающе. В больнице св. Иоанна, в промежутке между двумя приступами столбняка, к нему пришел с допросом следователь, испытывающий вполне естественное любопытство к этому юноше, одежда и внешность которого являются скорее простонародными, с чем контрастирует аристократически элегантная речь. На самые простые вопросы он отвечал с дерзким пренебрежением: никакой жалобы от него не дождутся, следствие и допросы – безделица и ребячество, но при этом дело противозаконное, от раны своей он, действительно, жестоко страдает, но это никого не касается… разве что врачей… и пусть его оставят в покое! (…) Рембо чрезвычайно удивлен и удручен заключением, в котором бельгийская юстиция – серьезная до экстравагантности – продолжает удерживать его друга".
В версии для печати Делаэ откровенно искажает факты (ибо у него имелась "памятная записка"): действие переносится на бульвар в разгар дня – так легче объяснить вмешательство полиции; рана Рембо становится крайне тяжелой (как у Берришона и Малларме) – кость перебита, кровь течет ручьями, возникает столбняк (!). В этом рассказе уже нет и намека на осуждение Рембо – в осуждении Верлена виновато смехотворно тупое бельгийское правосудие.
В отличие от Рембо, Верлен не раз возвращался к событиям злополучного дня 10 июля. В "Моих тюрьмах" он описывает их следующим образом: "Дело было так. В июле 1873-го, в Брюсселе, после уличной ссоры, следствием которой были два револьверных выстрела, причем первый легко ранил одного из спорщиков, после чего они, два друга, решили забыть об этом случае, потому что виновный попросил прощения, а другой его простил; но затем тот, кто совершил этот прискорбный проступок, будучи одурманен абсентом и до, и после ссоры, внезапно опять заговорил угрожающим тоном и столь недвусмысленно полез в правый карман своей куртки, где, к несчастью, находилось оружие с четырьмя неиспользованными пулями и со спущенным предохранителем, что другой в испуге бросился бежать со всех ног по широкой дороге (в Галле, если мне не изменяет память), преследуемый бешеным безумцем, к полному изумлению "топрых пелькийцев", влачащих под немилосердным солнцем свою послеполуденную лень. Полицейский, прохаживающийся неподалеку, сразу же задержал преступника и потерпевшего. После короткого допроса, в ходе которого виновный клеймил себя гораздо беспощаднее, чем пострадавший – его, оба задержанных, согласно приказу представителей власти, отправились вместе с ним в магистратуру, причем полицейский держал меня за руку – здесь пора уже признаться, что виновником покушения на убийство и затем повторной попытки был я сам, а возможной жертвой был не кто иной, как Артюр Рембо – великий и странный поэт, трагически умерший 23 ноября прошлого года[70]70
Ошибка Верлена: Рембо скончался 10 ноября 1891 года.
[Закрыть]".
В мемуарах Верлен – в отличие от своих показаний 1873 года – признает, что заговорил с Рембо угрожающим тоном и полез в карман за револьвером. На следствии он это отрицал – ложь понятная и простительная. Мадам Верлен также не сказала об этом ни слова, хотя все происходило на ее глазах – тоже вполне понятно, ведь речь шла о судьбе сына. Впрочем, не исключено, что Верлен приписал себе этот жест задним числом: в 1875 году у него произошла встреча с Рембо, который вполне мог ему внушить, будто он сам был виноват в своем аресте. В Брюсселе Верлен пил беспробудно, в момент ареста протрезветь еще не успел и, естественно, за свою память ручаться не мог.
Все остальные изменения сделаны по одной причине – из благоговейного уважения к памяти Рембо. Поэтому покушение было перенесено на улицу, хотя в реальности оно произошло в доме, где "прохаживающихся неподалеку" полицейских нет. Исчез временной интервал между выстрелами и проводами. Иными словами, в этой версии Верлен скрыл тот факт, что Рембо обратился к полиции за помощью. Совместного допроса, скорее всего, не было – задержанным считался один лишь Верлен, тогда как Рембо проходил по делу как свидетель. О показаниях Рембо Верлен так никогда и не узнал – не случайно во время следствия он был убежден, что его вот-вот отпустят на свободу, и "недоразумение" благополучно разрешится.
Еще один рассказ Верлена о брюссельских выстрелах был записан молодым поэтом-символистом Адольфом Ретте, который нанес визит пожилому мэтру, когда тот в очередной раз оказался в больнице. Визит этот совпал с известием (ложным) о смерти Рембо в Абиссинии, и Верлен, естественно, был крайне взволнован и опечален. Юноша сам попросил его рассказать о покойном друге, и Верлен заговорил о самом наболевшем:
"Я снова вижу нас в Брюсселе, в этой мерзкой гостинице на улице Пашеко, где мы остановились. Я сидел у ножки кровати. Он стоял у двери, скрестив руки и бросая мне вызов всем своим видом. Ах, какая злоба, какой жестокий огонь в его глазах проклятого архангела! Я сказал ему, чтобы он остался со мной. Но он хотел уехать и я чувствовал, что решения своего он не переменит.
Моя бедная мать, примчавшаяся из Парижа, чтобы попытаться вернуть меня к жене и ребенку, тоже была там. Она видела, что я вне себя и, не говоря ни слова, положила руку мне на плечо, чтобы удержать меня.
Наверное, минут пять мы с Рембо пожирали друга взглядом. В конце концов он повернулся со словами: "Я уезжаю". Выйдя в коридор, он бегом спустился по лестнице. Я слышал, как доски трещат под его ногами. У меня перехватило дыхание, перед глазами поплыли красные круги: мне казалось, что он уносит с собой мозг мой и сердце.
Когда я перестал слышать его, в душе моей поднялась буря. Я сказал себе, что должен вернуть его, хотя бы даже силой, и запереть в комнате. Я вскочил и бросился к двери. Мать моя хотела преградить мне путь: "Поль, – взывала она ко мне, – ты сошел с ума, опомнись, подумай о своих близких!" Но ярость полностью овладела мной. Я стал трясти ее за плечи, осыпая уж не помню какими бранными словами, когда же она встала перед мной, я оттолкнул ее с такой силой, что она ударилась лбом о косяк. О, я знаю, каким диким это может показаться. Но я совершенно потерял голову, я убил бы любого, лишь бы вновь заполучить Рембо.
Я кубарем скатился по лестнице и на улице увидел Рембо, который двигался по направлению к Ботаническому бульвару. Он шел медленно и словно бы неуверенно. Догнав его, я сказал ему: "Ты должен вернуться, иначе это плохо кончится". "Отстань", – бросил он, не взглянув на меня. Тогда я словно обезумел. Я сказал себе, что остается только убить его. Я схватил свой револьвер, который всегда носил в кармане и дважды выстрелил… Рембо упал… Меня схватили… вот и все".
Что заслуживает внимания в этом рассказе? Поскольку Верлен сам придумал версию о выстрелах на улице, то повтор этой детали не вызывает удивления. Подробности о бесчеловечном обращении с матерью также: все знали, что Верлен не раз поднимал на нее руку (хотя в Брюсселе ничего подобного не происходило, поскольку матери не было нужды преграждать Верлену путь на улицу). Верлен не мог постоянно носить револьвер в кармане, ибо купил его только в день покушения и обращаться с ним явно не умел. Трудно сказать, кто из поэтов – старый или молодой – сгустил краски. С одной стороны, известие о смерти Рембо могло ввергнуть Верлена в приступ запоздалого и одновременно сладкого раскаяния. С другой стороны, Адольф Ретте был не только поэтом, но и пробовал свои силы в журналистике, а потому вполне был способен присочинить кое-что от себя.







