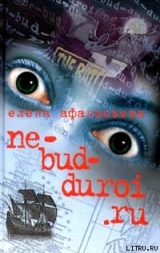
Текст книги "ne_bud_duroi.ru"
Автор книги: Елена Афанасьева
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Держись! – вдруг крикнул сын и, не дожидаясь светофора, через две сплошные резко развернулся и поехал обратно в сторону больницы.
– Что случилось? – пыталась спросить я, но мой голос и ответ сына тонули в гуле мотора и свисте ветра в ушах. Джой что-то кричал, но я разбирала только обрывки фраз: «Сапунок… читательский в куртке… прийти не позже двенадцати…»
Въехав обратно во двор больницы, Джой резко затормозил, соскочил с байка так, что я еле успела удержать мотороллер и не свалиться. Уже схватившись за ручку тяжелой двери приемного отделения, он обернулся.
– Сапунок вчера ушел в моей куртке. Сегодня в одиннадцать позвонил, что принесет ее. В куртке был мой читательский. Если у него не было других документов, они могли решить…
– Явно ниже тебя, светлый, заросший… – говорил хирург Валера Джою. – Его привезли уже с остановкой сердца и большой кровопотерей. Даша, узнай, тело еще здесь или отправили в морг. Его вещи должны быть в приемном. Подождите здесь. У меня еще одного с ножевым привезли из казино. Наигрался!
Надев на голову шапочку, только бутылочный цвет которой мешал принять его за повара, Валера вышел. У врачей, наверное, как у меня, существует разделение на две жизни. В жизни бытовой жалко и сдохшего попугая дочки, а на работе срабатывает стальная защита. Иначе не выжить. И дело не сделать.
Вернувшаяся Даша принесла опломбированный пакет. Сквозь синеву полиэтилена проступали фосфоресцирующие оранжевые полосы куртки, которую я купила Джою прошлым летом в Шанхае. Отснимав тогда под дождем положенную встречу лидеров в чайном домике резиденции Сунджао, за время, оставшееся до итоговой пресс-конференции, собралась побродить по Нанкину. Но подъезды к главной торговой улице были перекрыты: коммунистические лидеры, как водится, не утруждаясь заботой о населении, для удобства высоких гостей попросту прекратили все движение в центре города. Даже по аккредитации я больше часа добиралась туда, куда накануне доехала за полдоллара и за семь минут. В итоге времени осталось на один забег в магазин, и ничего, кроме куртки для сына, купить не успела.
Теперь эта залитая кровью куртка с дырой посредине лежала на кушетке вместе с простенькими часами, золотым крестом и читательским билетом, в котором рядом с фотографией сына значилось «Жуков Дмитрий Никитич».
Рядом плакал Димка…
В последний раз Димка плакал добрый десяток лет назад, в Шереметьево-2, когда понял, что папа уезжает навсегда. Тогда он как-то сразу стал маленьким мужчиной. Может, почувствовал ответственность за нашу сократившуюся до минимума семью. Но с тех пор он не плакал. По крайней мере при мне.
Сейчас он сидел на продавленной кушетке в гулком, холодном даже в нынешнюю теплынь коридоре и по-детски растирал глаза кулаками.
– Он ко мне шел. Понимаешь? Он ко мне шел, а его убили. В Спасоглинищевском, почти около нашего двора… Скоты. Ни за что же.
Димка смотрел перед собой невидящим взглядом и повторял:
– Он такой там, совсем живой… И улыбается…
Из больницы пришлось ехать в отделение милиции, объяснять, почему убитый совсем не убитый, а живой, а вместо него убит другой.
Дежурил тот же самый лейтенант Дубов, который несколькими часами ранее записывал наши показания по поводу взорвавшихся машин. Теперь Димка долго рассказывал, как вчера, в дождь, дал свою куртку знакомому – в одной компании сидели в «Китайском летчике». В куртке остался читательский билет. Днем хотел пойти в библиотеку к зачету готовиться, да вспомнил, что читательского нет. Парень позвонил в начале двенадцатого ночи, сказал, что снова идет в «Китайский летчик» и по пути занесет куртку. Но не дошел.
– Это понятно, но почему вы поехали искать его по больницам?
– Мы не поехали его искать. Мы поехали зашивать мне голову, – пыталась объясниться я. Голова болела и мешала излагать мысли членораздельно. – Я голову о комод разбила, когда увидела труп и упала…
– Еще один труп?! – вскинул торчащие ежиком брови лейтенант.
– То есть не труп… Это я с перепугу подумала, что труп. А это не труп, друг сына хотел его разыграть, а я некстати дверь открыла.
– Ничего себе, розыгрыши! А этот ваш друг не мог на полном серьезе разыграть…
– Толич! Нет, что вы! Это же шутка была. Толич, масдай, у нас дома весь вечер сидел. И сейчас там сидеть должен.
Лейтенант смотрел все суровее.
– Я, конечно, верю в случайные совпадения, но… Не кажется ли вам, что за один день два случая со смертельными исходами вокруг вас – это многовато…
Нам казалось, но… Что тут было поделать. Не рассказывать же было милому мальчику-лейтенанту про ne-bud-duroi.ru. Не быть же действительно дурой. Затаскают по допросам, а мне завтра на съемку в правительственное Астахово.
Наркоз стал отходить, голова болела нещадно, шов казался не двухсантиметровым, а километровым. Полное ощущение, что шов оттягивает на себя кровь не только из головы, но и из всего тела, доводит ее до кипения и впрыскивает обратно. И кровь, горячая и вязкая, катится не по сосудам, а по всему телу, доводя все свои «русла» до жжения.
Из глаз катились слезы. Не потому, что мне хотелось плакать – заплакать, в голос, по-бабьи завыть, при всем желании не получилось бы. На свою беду, я разучилась плакать. А то, что вытекало сейчас из-под век, было обычной реакцией на плохое освещение и жжение в глазах. Разглядывая мрачное помещение милицейского участка, я почему-то думала не обо всем, за день на нас свалившемся, а о том, есть ли химическая формула слез.
Заставив подписать показания, лейтенант Дубов отпустил нас «до утра». Но до утра было еще далеко.
– Кто такой «масдай»? – снова усаживаясь на байк, спросила я у сына.
– Э, мать, ты-то откуда таких словечек понахваталась?
– Сам же дважды назвал Толича масдаем. Когда я, шарахнувшись, в себя приходила, и сейчас, когда Дубову о нем рассказывал.
– От английского must die. Смысл – крайнее неодобрение. Билл Гейтс масдай. «Спартак» – масдай. Толич туда же, масдай! Додумался!
– А Билл Гейтс при чем?
– «Казалось бы, при чем здесь Лужков», – аполитичное дитя процитировало единственное, что помнило из политической реальности последних лет. – Билл Гейтс, как и Лужков, ни при чем. Еще вопросы будут?
– Никак нет. Спать!
Куда там спать! Около нашего подъезда мы застали перепуганного Толича. Пока поднимались по лестнице и мальчишки, пыхтя, тащили пыльный мотороллер на последний этаж – лифт ездить по-прежнему не хотел, – Толич, без конца талдыча, что он не виноват, рассказывал. Минут через сорок после того, как мы уехали, позвонили из милиции и потребовали, чтобы кто-то, «кто знал Жукова Дмитрия Никитича, 82-го года рождения», прибыл для опознания его тела.
– Сказали, что тебя, Джойка, убили…
– Долго жить будет, – только и нашлась я, что сказать.
– Я не поверил. По мобильному звонить стал, – бормотал с трудом приходящий в себя Толич, – но труба зазвонила на столе.
– Забыл телефон, – признал Джой.
– Вот я и поехал. Ключ из замка вынул, с обратной стороны запер. Я точно все запер, Евгеньандрена… Приехал в больницу, там сказали, что это не ты…
– Это Сапунок… В моей куртке…
– Но я не знал… Мне сказали, что вас в милицию отправили. Я решил домой. Приехал…
С этими словами мы достигли нашей лестничной площадки. И увидели приоткрытую дверь…
– Теперь не закрывается, – бормотал Толич. – Я вернулся, а тут…
«Тут» было все вверх дном. С порога заметно, что за время отсутствия Толича кто-то изрядно похозяйничал. Из шкафов, комодов, с антресолей и с книжных полок все было вывернуто на пол. Я и не представляла, что в моей квартире столько вещей. И где это они умещаются в обычном состоянии?
– Евгеньандрена… Я точно все закрывал, не знаю, правильно или нет, спросить-то не у кого было. Но я закрывал.
Парень был серьезно напуган – сначала хозяйку дома своей шуткой чуть до смерти не довел, а теперь еще стал причиной ограбления. Притянула расстроенного Толича к себе, насколько моего роста могло на это хватить.
– Хорошо, что тебя здесь не было, мальчик!
– Может, если бы был, не полезли…
–А может, убрали бы лишнего свидетеля. Еще одно убийство за день я бы не выдержала. Между ограблением и убийством всегда лучше выбрать ограбление, согласись.
Первое, что заметила, – фотоаппаратура из вывернутого кофра валялась в прихожей. Почти все, кроме одного объектива, в нормальном состоянии. Объектив скорее всего упал на пол первым. Но параллельно с вытряхиванием кофра опустошали и вешалку, что и спасло остальные объективы, старые камеры и новый цифровик. Все это теперь лежало поверх прежде висевшей над комодом моей купленной в «Детском мире» дубленки, Димкиной зимней куртки и шарфов. Повезло, что их шерстили одновременно с кофром.
– Я думал, вы ругаться будете.
– Что толку ругаться.
– А я в милицию позвонил…
– Ага… Лейтенант Дубов как нас увидит, засадит в КПЗ, лишь бы с нами больше ничего не случалось. Три уголовных дела вокруг нас за одно его дежурство – перебор.
– Но, наверное, что-то украли. Деньги, ценности.
– Денег у нас было… у меня тысяч пять в шкафу, а у тебя, Джой?
–Тыщи две в кошельке и восемь на карточке, – ответил сын и, протиснувшись в свою комнату, издал вопль облегчения. – Комп на месте!
Хозяин ты мой! Человек светлого завтра. С голоду не помрем! – обрадовалась я. – А о пропажах заявлять бесполезно. Я и сказать-то не смогу, что пропало. Столько лет здесь живу, а до сих пор и не знаю, что в этой квартире есть и чего нет.
Теперь и Толич посмотрел на меня, явно усомнившись в том, что при падении я себе ничего в голове не повредила.
Пробираясь между выброшенными отовсюду вещами, я удивлялась, как все причудливо перемешано. Детские Димкины коньки, глобус с дыркой на месте Филиппин, наряд мушкетера, который я шила сыну для утренника в третьем классе, тетрадь по арифметике ученика 3-го класса Карпова Петра с домашней работой за 5 мая 1933 года, мое персиковое выпускное платье с жуткими рюшечками, программка «Лебединого озера» в Большом театре 29 сентября 1952-го, болоньевые плащи, фетровые шляпы, кримпленовые костюмы, путевки в санаторий ЦК КПСС «Форос» на август 1983-го, дагеротипы с вензелем «Фотографическая мастерская С.Л.Левицкого. С.-Петербург, 1856 год» рядом с нашими свадебными фотографиями, на которых я меньше всего похожа на невесту, скорее на перепуганного галчонка, который как-то залетел к нам на балкон, Димка его потом всю зиму выхаживал… Годы и столетия перепутались в этой куче хлама.
– Не иначе как клад хотели найти, – присвистнул Джой.
– Интересно, нашли? – сказала я.
Мне это действительно было интересно. Кому-то нужно то, что у меня есть. Но у меня нет ничего, что могло бы заинтересовать нормального вменяемого грабителя и шантажиста. По крайней мере заинтересовать так, чтобы за это убивать.
Если неизвестное мне «нечто» имелось у прежних жильцов и досталось нам с Джойкой в необъявленное наследство, о котором я и понятия не имела, то лучшим исходом было бы обнаружение этого «нечто» нашими ночными визитерами. Если они нашли, что искали, и забрали себе, есть шанс, что от нас отстанут. Хуже, если не нашли. Тогда игры в «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» могут продолжиться. Игры со смертельным исходом…
Странно было стоять посреди своей разоренной квартиры с разбитой головой и убеждать себя в том, что все плохое позади.
– Будем надеяться, что нашли…
– Здесь где-то заначка была, – Джой неопределенно показал в сторону кладовки, – вискаря ботл. Чуть початый. В дьюти-фри купил, когда зимой от отца из Штатов летел. Найти бы сейчас, да тут разве найдешь.
Джой и Толич пытались хоть что-то положить на место, попутно разыскивая бутылку, но, поняв безнадежность своих крохотных усилий на фоне вселенского разорения, посмотрели на меня.
– Делать что будем?
– Спать. А потом убирать. Или сначала убирать, а потом спать. Очередность выбирайте сами. Главное, мне в десять быть в Астахово.
– А у нас в двенадцать зачет.
– Ежиха, – позвал Димка, почему-то вспомнив самое старое мое прозвище, когда он звал меня по первым буквам полного имени Евгения Жукова – Е и Ж – и говорил, что он маленький ежик, потому что у него мама ежиха. – Ты никуда не вляпывалась?
– Хочешь узнать, не влезла ли я в какое-нибудь дело, за которое могут ограбить и убить?
– Типа того.
– Я – нет вроде бы. А ты?
– И я вроде бы нет.
– Тогда попробуем понять, что за аномальное явление случилось в природе, что все силы небесные или земные против нас ополчились. Но только завтра.
Стала разгребать спальное место на своем диване. Джой с Толичем так и не нашли свой ботл, но молодой организм после стольких встрясок и без алкоголя дал сигнал к отдыху. На удивление быстро отыскав в этом бедламе раскладную кровать для Толича и расчистив Димкину кушетку, они отключились.
А я вместо сна провалилась куда-то в яму. Алиса хренова, ходу полета еще и читала лозунг, натянутый вдоль всего пути в пропасть: «Синяя Борода» – гарантия качества вашего брака!» Из пропасти выскакивал Джинн, выдергивал волосок за волоском из своей синей бороды, бежал к моей сгоревшей машине, падал под колеса, чертыхнувшись и извинившись, обратным духом исчезал в своей расселине…
Джинн видоизменялся и обретал лицо мужчины, который реально свалился мне под колеса на Никитском бульваре. Он еще как-то странно упал, манерно поскользнувшись в маленькой лужице. И долго не мог подняться, цепляясь за мой грязный «Москвичек». Машина содрогнулась оттого, что он стукнул проскочившей между колесами ногой по днищу… В детективных триллерах его превратили бы в наемного убийцу, который прикрепляет на дно взрывчатку, чтобы убить героя… Машина героя потом взрывается и горит долго и красиво. А герой, случайно отошедший пописать на заправке, чудом спасается и смотрит на горящую машину со стороны. Как я…
Как я…
А почему я думаю, что так бывает только в триллерах… А если…
На последнем «если» голова моя не вынесла нагрузки и отключилась окончательно…
4
Фотографический портрет
(Александринька, 15 февраля 1856 года)
Бежать!
Бежать из дома! Далеко-далеко. Чтоб все искать кинулись. И папа чтоб про свои важные доклады запамятовал, а велел лошадей закладывать и девочку свою ненаглядную искать. И мама чтоб, заламывая руки, убивалась, что так недобро девочку обидела, чего она, Александринька, никак не заслуживает!
Бежать! И непременно в легком платье, без шубки, без капора. И обязательно замерзнуть в снегу.
Замерзнуть в сугробе на Фонтанке! Ветер снегом занесет. И будет она коченеть, как девочка из сказки датчанина с таким красивым именем Ганс-Христиан. Сказку эту про несчастную бедную девочку со спичками мама читала им давеча перед сном. В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. И они с Ванюшкой в два голоса рыдали, никак успокоиться не могли. Папа даже попенял мама, что это она пугает детей на сон грядущий. Но маменька, утирая слезы с ее лица, отвечала, что добрее будут. И к себе прижимала крепко-крепко, а они с Ванюшкой все рыдали и рыдали.
Теперь уже маменька будет рыдать так же громко и безутешно, что не сберегла свою несчастную девочку. И поймет, что Александринька лучше и Ванюшки, и младшей Лизаньки, и того неведомого младенца, которого Господь должен послать им на Спас. Да только уже поздно будет! Она до смерти замерзнет в снегу.
Мимо будет ехать в карете Степушка с княгиней. Непременно чтобы Степушка! И он из окошка кареты заметит в сугробе кружево ее лимонного платьица, в котором она третьего дня танцевала с ним на детском балу у Нечаевых. И узнает это платьице. И велит остановить карету, и укутает своей шубкой, на руки возьмет, к себе домой привезет, и ухаживать будет. Маменьке они не сообщат – пусть рыдает!
Только вот унесет ли ее Степушка? Она, конечно, не Катрин Нечаева – несчастный Семочка Лазарев, сколь ни силился во время мазурки, но правильно обхватить ее не мог. Но Степушка, добрый, чудный Степушка ростом вышел пока не больше самой Александриньки – подымет ли?
Да и как быть с платьицем? Сейчас на ней синее буф-муслиновое, с глухим воротничком и без всяких кружев. А так надобно, чтобы Степушка нашел ее непременно в лимонном с кружевами. Она так нравится сама себе в лимонном. И мама, помогая miss Betty наряжать ее перед детским балом, называла «моя королева». А нынче взяла и свою королеву обидела!
Утром еще все было так чудесно. Проснувшись, Александринька пробралась в материнскую спальню. Мама уже встала. Солнышко играло в большом зеркале у маменькиного туалетного столика. И мама среди солнышкиных отражений как королева – королева солнечных зайчиков. Дульетку скинула и неглиже – в чулках, кружевных панталонах ниже колен, в сорочке без рукавов, с болтающимися концами не завязанных еще тесемок, – умывается. Из большого кувшина с пастушками Глаша поливает ей на ладошки. Вода ледяная, и маменькино лицо начинает розоветь. Александринька ежится, потом храбрится, подставляет и свое личико, мама плескает на него – брр, холодно! И весело.
– Как спала нынче? Замерзшая девочка снилась? Или несчастная Николенькина матушка? Да это ведь только книги! Писатели пишут их для того, чтобы ты, читая, училась чувствовать, страдать, любить. И потом, мы же говорили, дурных снов не бояться. Во сне отбоишься, оттревожишься, и, когда проснешься, бояться не будет надобности.
С маменькой бояться нет надобности. Отчего с маменькой никогда не страшно?
– Маменька, а как Степушка мне скажет, что жениться на мне хочет?
Мама смеется. Глаша ей корсет поверх сорочки шнурует, а маменька смеется.
– Отчего же непременно Степушка? Глаша, не так туго. Нельзя нынче туго в моем une fausse position1[1]
В невыгодном положении (фр.).
[Закрыть]. Так отчего же Степушка, а не кто другой? Не Николенька Павлищев? Не Петрушенька Звонарев? Не Семушка Лазарев, наконец? Прошлым летом в имении, помнится, тебе все Семушка больше нравился.
Какая, право, странная. Понимает, понимает все, а потом как скажет неумное, будто и не мама, а кто-то совсем глуповатый. Конечно же, Степушка, а кто еще?!
– Может, муж у тебя другой будет? Мне в детстве тоже нравился мальчик, сосед по орловскому имению, Алешенька Незвицкий. Но замуж-то я за вашего отца пошла.
– А если бы за Алешеньку? – подивилась Александринька. – Если бы за Алешеньку, а не за папиньку? У нас был бы другой папа? Или у тебя были бы другие детки? А мы бы тогда где были? У другой матушки? Вместе с папа или одни?
Маменька снова смеется. Глаша уже стелет на полу перед кроватью круги кринолина. Александринька эти круги сосчитала, даром говорят, что она ленится в учении. А она вот сосчитала – восемнадцать целых обручей, один другого меньше, и еще семь половинок обручей, как буквица «Слово» – «С», чтобы маменька могла в свой кринодино-вый колокольчик залезть. Ох, скоро и у нее будут платья с такими же восхитительными колокольчиками! Скоро-скоро! Ах, отчего же нельзя еще быстрее! Чтобы уже теперь носить такие же платья, как мама!
Мама, будто маленькая девочка в игре, через край этих обручей перепрыгнула – в домике! И рассмеялась, не как мамы смеются, а как девочки – весело так, заливисто.
– Хорошо, Александрии, что мы с тобою в девятнадцатом веке родились! Какие ужасные одеяния приходилось носить дамам в былые времена! В Мамонтовкс на чердаке прапрабабушкины платья, в которых она ко двору императрицы Екатерины представлялась. Не влезть – корсеты как пыточные орудия. Еще и вместо легкого кринолина панье да виртюгали. Тягость неподъемная. А барышни в эдаком виде танцевать умудрялись…
– …и романы крутить, – добавляет появившаяся в дверях матушкина сестра, княгиня Оленева. Ma tante сияет, будто сейчас на бал или с бала, даром что траурные плерезы на грогроновом платье. – Как они в эдакой-то крепости могли романы крутить и целоваться. Виртюгали, должно быть, били мужчин по ногам.
Княгиня хохочет, но не так, как мама, как-то глухо. А мама густо краснеет.
– Мон шер, умоляю тебя, при ребенке. Глаша, кликни Арину, пусть даст нам кофею.
– А что ребенок?! Александрин уже юная барышня, лет через восемь – десять замуж. Пусть привыкает! Кринолин, спору нет, практично, – говорит ma tante, пощупав конструкцию, укрепляемую на маменькиной талии. Талия эта в последнее время отчего-то стала не так стройна, как прежде. – Но нет предела удобствам. Попомните мое слово, скоро мы будем ходить вовсе без широких подолов. Я никогда не ошибаюсь касательно моды. Свадебное платье Александрин будет уже прямое. Да я и сама другой раз стану только в прямом венчаться. Мне бы только сбросить красоту сию, – ma tante рукой касается своих плерез.
Ну что такое ma tante сказала! Глупая она, что ли, в прямом венчаться. Ждешь-ждешь не дождешься, когда придет срок вместо обычной нижней юбки кринолин надеть, а тетушка туда же – прямое. Благодарю покорно! Сама пусть прямое носит!
– La glace est rompue2[2]
Лед сломан (фр.).
[Закрыть]. Я давеча в парижском журнале прочла, что в Североамериканских Соединенных Штатах некая Амелия Блумер попыталась ввести в дамскую моду брюки, наподобие шальвар, – не унимается тетка, перебирая скляночки на матушкином туалетном столике, то припудриваясь, то взбрызгивая себя духами. В другое время Александринька обязательно подставила бы носик, чтобы тетка пуховкой прошлась по ее личику и помазала пробочкой от волшебной скляночки у нее за ушками. Тетка это баловством не считает, напротив, говорит, что чем ранее барышне вкус к хорошим туалетам и прочим дамским тонкостям привить, тем полезнее. Но сегодня Александриньке лучше сидеть потише, чтобы не послали в классную.
– Бог мой, какой моветон! – восклицает мама. Вернувшаяся Глаша уже застегивает бесконечные пуговицы на столь любимом Александринькой фиолетовом левантиновом платье с белым воротничком.
– Да какой же это моветон! Тяга к удобству, comfort. Вот драма между домами Теплякова и Азаревича – это, мон шер, моветон!
– Что у них снова приключилось? – поднимает глаза маменька.
– Поводом к событию послужило стремление Теплякова задать бал в среду, когда бывают вечера и у Азаревича, и переманить оттуда к себе какую-то княгиню и какого-то барона. —Ma tante уже вошла в милую ее сердцу роль повествовательницы последних событий. Чего только из ее рассказов не вызнаешь! – Кстати, мон шер, кого я у вашего парадного встретила! Автора «Полиньки Сакс»!
– Дружинина?
– Ах, конечно же!
– Верно, приехал в первый этаж к Левицкому, портретировать. В «Светопись» самые блистательные сиятельства приезжают, сам великий князь недавно был. А нынче мне почудился Тургенев.
– Ах, нет, Дружинин лучше Тургенева! Куда как лучше! Не сравнить! Он был столь галантен! Сам, не дожидаясь дворецкого, открыл мне дверь! Ах, эдакую встречу да несколькими бы годами ранее! Вспомни, как мы тогда засыпали с его романом, как нынче с новым романом Жорж Занд да с «Demi-mond»3[3]
«Полусвет» (фр.)
[Закрыть]! Как я прежде мечтала хоть украдкой взглянуть на этого доброго адвоката женского сердца, защитника всякой увлекшейся неосторожной девушки и женщины! А уж говорить с ним! Но нынче, ты и вообразить не можешь, что о нем говорят! Натали Андреевская сказывала, что в дальнем конце Васильевского острова у него есть специально нанятая квартира для особого рода увеселений.
Ma tante, наливая себе принесенного Ариной кофею, увлеченно продолжала. Но дослушать Александриньке не довелось. Мама спохватилась, что ребенок слушает что ненадобно, зазвонила в колокольчик, и через несколько минут miss Betty увела Александриньку в классную. И все хорошее в этом утре закончилось.
В классной они с младшим братом подрались. Он сказал ей дурное, Александринька стукнула его в ответ. Иван отчаянно заревел. Да так, что матушка пришла со своей половины и, не разбираясь, недобрым голосом назвала ее дурной девочкой и велела оставить без сладкого. Матушка, которая только что вся в солнечных зайчиках была их королевой, и вдруг!..
А тут еще miss Betty стала жаловаться, что Alexix не хочет правильно читать по-английски. То есть все слова в книжке с картинками называет, а стоит ей показать те же слова в другой книжке, как не хочет их узнавать. Мама решила проверить, велела принесть выписанную из Лондона книгу и просила называть слово. Строчки отчего-то стали прыгать в затейливом танце, буквы смешались. А братец Иван, как нарочно, забежал и вперед ее давай выкрикивать «a bear, a horse, a piglet, a cow says Mou-Mou…»
И матушка принялась его хвалить. И за аглицкий, и за буквочки. А чего там хвалить, одни каракули. У нее, у Сашеньки, давным-давным-давно такие кривенькие получались. И уже долго-долго, целых много месяцев, еще с до-Рождества буквочки стали выходить ровненькие, одно загляденье, а ее мама отчего-то не хвалит! Напротив, вся такая уже не солнечная, говорит, что она, Александрушка, из нее, из матушки, жизнь высасывает. Что более нет сил у матушки на все семейство. Что папа только прожекты политического переустройства для министерства пишет, ему и дела нет, что займы не оплачены, что из имения мало денег прислали, что к лету, ежели они в имение не едут, а вынуждены оставаться в Петербурге, дачу надо задолго брать, потому что летом не до того будет. И только она, матушка, должна быть за все в ответе – и с прислугой браниться, что в доме нечисто, и что обед дурен, и что белошвейной мастерской давно не заплачено, сестра какая нарядная даже с утра приезжает, а у нее две дюжины платьев в сезон, разве может приличная дама так жить! И она, мама, не может всегда за всеми доглядывать, она жить хочет! Будто нынче матушка не живет. Смешная какая.
А Ванечка, как на грех, принялся далее читать из маменькиной книги, а его никто и не просил. Александринька кинулась книжку отымать, чтобы самой еще лучше прочесть. А Ванюшка не дает, убегает, да еще и рожи корчит, да нарочно по-аглицки кричит: «Bad girl! Alexix is a bad girl!» Александринька книжку как дернет, а Ванюшка не пускает, корешок и оторвался. Александринька этот корешок в Ванюшку бросила и его оцарапала. Случайно. Кто ж знал, что кровь из царапины сочиться станет.
Матушка кровь как увидала, выхватила тот самый оторванный корешок и Александриньку по рукам! Больно! И стыдно! И матушка сама потом плакать давай! Только Александринька этого уже не видела, бросилась из классной комнаты вон!
От такой обиды решила из дому бежать. Только как на улицу пробраться? У парадного входа Василий сиднем сидит, с Глашей заигрывает. Остается только черным ходом. Через кухню на черную лестницу забежала, дверь прикрыла, чтобы не хватились. А на той лестнице темно и холодно. И страшно. На восемнадцатой ступени что-то под ногу как попадется! Да как взвизгнет! Александринька как закричит! Даже понять не успела, что это жирный котище, присоседившийся к их кухне. От страху до двери на улицу не добежала, в приоткрытую дверцу на нижнем этаже шмыг! И за собой дверь закрыла – что, ежели там не кот, а домовой?
Стоит Александринька, моргает. Не знает, на кого нынче больше злиться, на маменьку, на кота или на темень. Дверца снова приоткрылась – точно домовой! И слова какие-то странные бормочет:
– Смыть-то я стекло смыл. Отчего не смыть, ежели они сами завсегда ругаются, когда опосля сеансу что не смытое останется. «Фотографисческое изображение аккуратности требует!» Так я аккурат и смыл, а они снова ругаться, отчего, мол, бестолочь, оригиналь испортил, новою изображению теперича не отпечатать…
– Свят-свят-свят! Нешто со стекла изображению сымают? Заговор какой? Уж не чернокнижный ли твой хозяин, а ты не сподручный ли ему? – кто-то с домовым говорит Аринкиным голосом.
Вот где кухарка их пропадает! На свидания к домовому на первый этаж бегает!
– Вы, Арина, необразованныя девица. Исключительно научное изобретение – фотографисческое потретирование. Через специальный аппарат ваш вид на стекло переводится, а опосля со стекла на бумагу. И все в натуральном виде. Никакой художник не надобен. И хозяин мой фотографисческий мастер, а я егойный ассистент, – свистит «домовой».
Александринька догадалась, что попала в загадочную «Светопись». Пошла вперед. Коридор быстро кончился передней. А там человек Сергея Львовича, их таинственного соседа, и еще какие-то люди. Еле-еле успела за толстую доху спрятаться. Доха длинная, даже ножек Александрушкиных из-под нее не видать, насилу прореху в меху отыскала, чтобы не задохнуться и наружу выглядывать. Отогрелась минуту-другую, да как чихнет! Благо звонок в эту минуту задергался, человек пошел открывать парадную дверь и чиха не услышал.
Появившийся новый гость похож на рояль в чехле. Когда осенью вернулись из Мамонтовки и мама попросила расчехлить рояль, Василий с Семеном освобождали его лакированные бока от серого одеяния столь же рассудительно, как здешний человек снимает меховую одежду с нового гостя. Сначала из-под большой шапки возникает голова с проплешиной, после из шубы выгружается сам гость, невысокий, плотноватый, похожий на Оле-Лукойе, только без зонтика и без цветных снов. У этого господина сны-то, пожалуй, все серые, как его сюртук.
Господин грузно садится на стул. Опустившийся на колени человек соседа помогает гостю разуться. Из калош, точь-в-точь как ножки рояля, возникают лакированные, но отчего-то тусклые штиблеты. Сходство становится совершенным, и Александринька мысленно прозывает гостя «роялем в чехле».
– Иван Александрович! – радуется выходящий навстречу гостю хозяин этого загадочного места, их таинственный сосед.
Повернувшись к своему человеку, он чуть напыщенно говорит:
– Сегодня у нас в гостях вся слава российской словесности! Ты, Пафнутий, гордиться будешь, что дверь их сиятельствам открывал да шубы с калошами принимал!
– Как славно, Сергей Львович, что ныне над городом не висит abat-jour из мрачных туч, как в ноябре, когда мне пришлось не одну неделю ждать погоды, дабы портретироваться, – пыхтит гость.
– Но нынче все располагает к тому, чтобы фотографии были удачны. Солнце в небе и солнца русской литературы в моей мастерской! – радостно добавляет сосед. – Но когда этого сияния так счастливо много, каждому солнцу невольно приходится ждать своей очереди. Я вскорости закончу с Иваном Сергеевичем в pavilion. А вы пока извольте не скучать в гостиной. Все прочие, кроме Островского, уже там.
Что они тянут, то про солнца, будто солнц бывает несколько, то про abat-jour. Бежать через входную дверь никак не получится, человек ее запер. И назад ходу нет – то ли домовой там, то ли Аринка, одно другого хуже. Но летом Александринька видела, что у этого pavilion был еще и выход во двор. Огромные такие окны, и дверь вся из стекла. Теперь остается только пробираться в этот загадошный pavilion и уж оттуда на улицу. Не то, не ровен час, стемнеет, и никакой Степушка ее, замерзающую в сугробе, не углядит.






