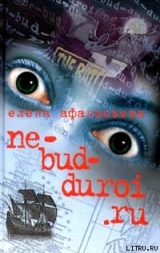
Текст книги "ne_bud_duroi.ru"
Автор книги: Елена Афанасьева
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
– Этак испортить себе жизнь, испортить се добровольно, имея все нужное для любви, добра, веселости и счастия! – чуть грустно проговорил Григорович, глядя вслед удаляющемуся возку друга. – Ах, Дружинин! Вечно он в любовном волнении, вечно jeun premier6[6]
Первый любовник (фр.).
[Закрыть]. В нем чудится пантагрюэльский эротизм, даже разврат. Но не судите его строго, Иван Александрович! Поверьте его другу. Он скорее воздыхатель.
– Иван Сергеевич, знаете ли, нынче говорил, что хочет списать с Александра Васильевича образ для нового романа про разность поколений. Эдакого легковесного отца. Даже имя уже придумал герою – Павел Петрович Кирсанов.
***
Обратно, к дому, Гончаров шел пешком. Мимо Гостиного двора, не удостоив взглядом даже книжные лавки Свешникова и Исакова.
Квартира за нумером девятнадцать была дрянная, с отвратительной лестницей. После плавания поселившись в доме Кожевниковой на Невском, просто чтобы где-то поселиться, он думал, что вскорости поменяет жилье. Но теперь понял, что не может. Что ему жаль своей дрянной квартиры, как жаль и лени своей.
В этой квартире была Она! Тогда, в сентябре, вместе с Майковыми. Зашла. Села на стул подле окна. Взяла в руки одну из тех шкатулок, что покупал он в Шанхае, даже не предполагая, кто сию безделицу будет держать в руках. Черепаховый гребень с витиеватым узором китайских иероглифов игриво вколола в волоса, и с трудом дала уговорить себя принять подарок. Гребень плохо держался, выпадал. «C’est inutile»7[7]
«Это бесполезно» (фр.).
[Закрыть] – «Et moi j’aime l’inutile»8[8]
«А я люблю бесполезное» (фр.).
[Закрыть].
Несколько минут поговорили о пустом. И только.
С тех пор и эта шкатулка, и эта квартира стали для него чем-то особенным. Хранящим присущую только ей необъяснимую манкость, что она оставила повсюду, где успела побывать в несколько коротких месяцев пребывания в Петербурге. И в заведении Левицкого. Левицкий нынче все хотел добиться общего выражения лиц литераторов, групповой портрет которых он намеревался послать в Париж, в тамошнюю «Иллюстрацию». Но каково могло быть общее выражение, если он, Гончаров, все время фотографического сеансу думал только о Ней – как в тот раз, осенью, вошла в этот pavilion, как сняла салоп, как села…
Нынче февраль. Из чего следует, что он знал ее меньше времени, чем прошло после того, как потерял. Три неполных месяца встреч – с августа по октябрь, и уже четыре месяца бесконечного ожидания письма. Он стал смешон. Жить только надеждой на чудо, которому невозможно случиться.
Она уехала. Продолжилась старая жизнь, ставшая после ее отъезда до невозможности обычной. Словно взяли и весь воздух разом выпустили. И он теперь ждет каждой ее записки в надежде сделать новый вдох.
Зачем это она уехала отсюда? Или бы вовсе не приезжала, а если приехала, то не уезжала бы никогда. Что теперь осталось ему? Любовь, которой нет? Ценсорская должность, которая у ближайших литературных коллег вызывает чувство неловкости за то, что он решается взваливать на себя ограничитсльство чужих талантов и страстей. Но это ли не ограничение страстей собственных?
Нет дела. Нет жизни. Нет любви. Никто даже не думает, что-де он способен быть в любви. Одна добрая особа, порицая ее, Елизавету Васильевну, Лизу, за поездку в деревню с другом ее детства, заметила: «Зачем это она едет с мужчиной?» И на его оправдание, что в Петербурге Елизавета Васильевна ездила иногда и с ним, Гончаровым, развела руками: «По городу, две версты, и не с двадцатилетним мальчишкой, а с вами». Не комплимент – оскорбление. Будто в его лета он уже не мужчина!
Писать. Только писать! Заканчивать Обломова. И тогда они поймут! Она ведь обещалась приехать, когда роман будет кончен, выслушать его.
Она не успела еще миновать Тверь, а он уже посылал ей вслед тот, созревший в голове, нет, в душе, план главы романа – «не того, который должен быть готов через полтора года во имя ее, а того, который начался в душе героя и Бог весть когда кончится».
«Ужели Вы без любопытства посмотрите на эту борьбу, из которой ему выйти поможет только или забвение им героини, или ее горячее участие», – писал он вслед посланному ей плану главы. Писал отдельно от плана. Писал день и ночь. Писал, рвал, прятал, посылал одно из десяти писем.
Во что превратилась вся жизнь с 18 октября? В ожидание писем от нее и в отправление писем к ней. Он не мог бы выжить эти четыре месяца, запрети ему кто-то жестокий писать. И вот теперь этим жестоким должен стать он сам. Одиннадцать писем вдогонку ускользнувшей любви. Она ответила двумя. Без малого пятимесячное изредка и неохотно прерываемое молчание – не лучший ли ответ? Faut il encore mettre les points sur les i?9[9]
Надо ли еще ставить точки над i (фр.).
[Закрыть]
«Loin des yeux. Loin du coeur»10[10]
«С глаз долой, из сердца вон» (фр.).
[Закрыть].
Что остается ему? Жить. Ходить. Есть. Спать. Существовать. А может, и жениться?! Находятся иные, даже друзья, которые искренне-наивно предлагают ему сие занятье.
Верный его друг Евгения Петровна Майкова в воскресенье подсела и очень серьезно начала говорить, что зачем-де он таскается по белу свету как отчужденный от людей, будто Каин какой. Что наступают лета покоя, когда человеку так нужна дружба, что вот приехала какая-то милая, добрая девушка девятнадцати лет, с тремястами душ и хорошеньким носом, что им хочется, чтоб он женился…
Он посмотрел тогда на Евгению Петровну как на несмышленого ребенка.
«Зачем это вы мне говорите?»
«Для вашего счастья: мы видим, как вам скучно на свете, а это племянница Языковой… женитесь, пожалуйста…»
«Я бы с большим удовольствием сделал это для вас. Но вы знаете, что я никогда не думал о женитьбе, а теперь… когда передо мной недавно был идеал женщины, когда этот идол владеет мной так сильно, я в слепоте… и никогда не женюсь…»
«Ну так женитесь на идоле!»
«Вы же лучше других имеете понятие que je ne suis pas mariable»11[11]
Что я неженим (фр.).
[Закрыть].
«Вот уж верно, ни Богу свеча, ни черту кочерга!»
Tout vas pour le mieux.12[12]
Всё к лучшему (фр.).
[Закрыть] Будет искать спокойствия – отныне это его идеал. Нет… Je ne sais qu’aimer.13[13]
Я могу только любить (фр.).
[Закрыть] Напишет. Он еще раз напишет ей. Расскажет о нынешнем портрете у Левицкого, она ж сама спрашивала про его портрет. И будет ждать. Единственное, что остается, – ждать. И писать. Сочинить хотя бы своему герою счастливую любовь. Но… Невозможно. Не он сочиняет роман, а роман сочиняет его.
Эх, это вечное российское «не было бы счастья…» Не явись ему Лиза, он бы не знал, что должно статься с Обломовым. Теперь знает. Он встретит женщину. Свою женщину. И сам ее отдаст.
* * *
Засыпая, Александринька закрывает глаза. И видит отчего-то сплошь ботинки – лакированные штиблеты под дубовым столом. Да еще таинственный ящик их соседа. Сергей Львович, отыскав ее за портьерой, усадил в то же кресло, где прежде сидели писатели, приказал молчать, не шевелиться и не моргать. И снял портрет и с нее.
– Чуть выше голову, маленькая леди. Всегда – выше голову! А маменька на то и маменька, что надобно ее любить и прощать. Она сама еще не наигравшаяся вдоволь девочка, ваша маменька.
Перед сном они снова задрались с Ванюшкой, но маменька не заругала. Смотрела куда-то мимо них, в пустоту.
– Маменька, неужто и Степушка вырастет и станет таким, как этот… как граф Лев Николаевич? – Александринька решилась выговорить то, что мучило ее весь день.
Матушка улыбнулась так грустно.
– Не станет. Таких, как этот граф, полдюжины человек на всю Россию. И почти всех их ты сегодня видела.
5
Наследство Синей Бороды
(Женька, сегодня)
Отчаяние похоже на маленькую птицу. Не уследишь, и она уже разрослась до размеров собственной тени и с каждым взмахом крыла становится все больше. Пожалуй, единственное, чему я научилась после отъезда Никиты, так это загонять эту птичку внутрь, не позволяя ей махнуть крыльями. Оставалось только терпеть, когда она, стреноженная, клюет все твое существо изнутри.
Тогда все рухнуло как-то сразу. Страна, рубль, работа, муж. Я случайно узнала, что в раннюю пору нашего романа, когда под поцелуи и осторожные движения рук мы приближались к заветному порогу, попутно терпеливо (или нетерпеливо) дожидаясь, когда же мне все-таки стукнет восемнадцать и можно будет идти в загс, будущий муж, проводив меня до дома, шел к своим дипломницам. Одна даже родила ему дочь.
Джою было почти семь, когда я узнала о Наташке – она училась в той же школе, куда собирались отдать Димку. Я не стала устраивать скандал – хоть на это ума хватило, но что-то внутри меня обломилось и стало сохнуть. Этим «что-то» была вера в абсолютность – абсолютность любви, абсолютность счастья или отчаяния. Даже на полноту отчаяния сил не было.
Год жили будто по привычке. Потом Никите предложили работу в Америке. Он звал ехать сразу всем вместе, я отнекивалась – зачем срывать с места ребенка и тащить через океан, не зная, как повернется. Сама я в начале 89-го только-только получила работу в агентстве, меня стали публиковать в «Комсомолке» и в «Огоньке». Да и стрингерство на западников, у которых в пору развала Советского Союза был необычайный интерес ко всему, что у нас тут творилось, стало приносить первые, пусть не огромные, но собственные деньги.
Может, надо было бросать все найденное и ненайденное и ехать за ним? Не знаю. До сих пор не знаю…
Развелись уже постфактум, в 91-м. Время от времени он возникал здесь, привозил подарки Джою, каждый год забирал сына к себе на каникулы. Но во время его присутствия в Москве все мое существо напрягалось и настраивалось на круговую оборону – только бы его не увидеть, только бы не увидеть…
– Никогда не спрашивайте, кто виноват в разводе, – сказал как-то Григорий Александрович, сидя у этого старого окна на кухне, потом ставшей моей. – Если женщина хочет уйти и если она умная женщина, она всегда сложит ситуацию так, чтобы мужчина мог себе позволить думать, будто это он ее бросил. Если же женщина чувствует, что бросают ее, она убегает первой, создавая иллюзию собственной легкой грешности, приведшей к крушению. Гордость не позволит иначе…
Получалось, что это я резала по живому, боясь, что когда-нибудь отрежет он.
Однажды, снимая для рекламного плаката агентства психологической помощи милую докторшу, услышала от нее – страх, боль, отчаяние нельзя загонять внутрь. Это верный путь к болезням и затяжным депрессиям. Выпустить надо, выбросить. Но я-то знала, что попробуй я выбросить, и волна отчаяния накроет и меня, и Димку, и весь этот холодный мир… Птица вернется, клонируется, снова и снова возникнет из стреноженного звереныша страха, который был когда-то связан и загнан вглубь меня. А так… Ну, выклюет внутренности, так зачем они мне…
Но поняла, что Димку надо учить другому.
– Нарисуй! Нарисуй, мой мальчик, свой страх! Какого он цвета – серый? Зеленый? Фиолетовый?
– Малиновый с белым и еще зеленый.
– Рисуй, мой мальчик, рисуй все, что тебя мучает. Пускай никто, кроме тебя, не поймет, что ты рисуешь, пусть никто не узнает, что так выглядит твой страх. Ты рисуй его, выпускай из себя – пусть летит нарастающей птицей над городом, над миром.
– Он не улетает…
Можно сжечь. Нарисовать, скомкать, провести ритуальную пытку на маленьком костерке твоей решимости – все, нет страха! А пеплом отчаяния вымазать лицо – мы клоуны! Мы клоуны! Мы веселы! Мы свободны! Свободны. Свободны…
Но эта внутренняя свобода была только для Джоя. Симуляция моей собственной свободы, иллюзия, ложь во спасение сына. Научился ли он быть свободным, кто знает…
Сейчас я чувствовала, что птица с огненным крылом горящей машины и траурно-белым оперением простыни, в которую был завернут случайно погибший мальчик, птица, залетевшая в меня вчера, была хоть меньше той, старой, давно во мне живущей, но злее.
«Старая машина… молодой сын…» Машины нет, к черту машину! Но сын есть. И должен быть. Во что бы то ни стало должен быть сын. Иначе не будет меня.
Поверив когда-то, что собственный страх можно пересилить, только ринувшись в самую гущу того, что пугает, и улетая от собственного страха на войны и катастрофы, я всегда знала, что есть один самый страшный страх, в бездну которого мне не ринуться никогда, – сын. Дикий животный, действительно животный – до спазмов в животе, страх потерять Димку, поселившийся во мне сразу после того, как он сам маленькой точкой возник во мне.
Те, кому от меня что-то нужно, знают, в какую точку бить. Два покушения на сына. Две случайности, спасшие его. Или две жестокости на грани – посмотри, что будет, если ты не напряжешь мозги и не сделаешь, что от тебя требуется.
Но что требуется? Что? И кем?
Нашли они то, что искали? Хорошо, если да. Унесли бы все, вымели бы подчистую. В квартире с голыми стенами существовать можно. В квартире, наполненной страхом, нельзя. Страх почти материален. Заполняет пространство, как вода в тонущем судне. Прослойка воздуха становится все меньше, если не спастись – погибнешь, захлебнешься…
На часах было начало пятого утра. Спать не получалось. Наркоз стал отходить, и зашитая голова болела, что даже радовало. Словно физическая боль хоть как-то могла оттянуть на себя другую боль и другую тревогу, которая разлилась во мне за вчерашний день.
– В компах тоже кто-то порылся, – Димка уже сидел на обычном месте. Хотя заваленный посудой, книгами и бельем стол меньше всего походил на обычное место работы моего компьютерного гения.
– Ладно, не спится мне – старой пугливой тетке, но молодой организм мог бы и отдыхать. – Я кивнула головой на Толича (если с больной головой это можно было называть кивком). Наш милый масдай с пришепетыванием храпел на раскладной кровати, водруженной прямо поверх разбросанного хлама. Уставшие Толич с Димкой ночью даже не удосужились поставить ножки кровати на ровное место, и голова у Толича была ниже уровня ног. Но это его не слишком беспокоило. Живот, достойный изображать купол воздушного шара, мерно вздымался под одеялом.
– Скорее всего они согнали все, что было у нас на жестких дисках. Хотя залезать к нам ради этого не было смысла – через и-нет куда как легче. Может, попутно. До кучи…
– Тебе кофр не попадался? Мало что я осталась без машины, так еще и без кофра. Обвешаюсь всеми аппаратами и на твоем байке с ветерком поеду в правительственную резиденцию…
– Не попадался. Давай делить хату на зоны и все перерывать в поисках кофра.
– Может, лучше сразу раскладывать по местам.
– А ты уверена, что знаешь, где у чего в этой квартире место? – спросил сын и прижал к себе, будто это я была его ребенком, нуждавшимся в утешении, а не наоборот. А может, так оно и было. Иногда мне казалось, что в какой-то другой жизни Джой был моим отцом – сильным и надежным. Потом он родился, я стала его мамой и вынуждена была стать старшей. Но когда мы остались вдвоем, мне показалось, что мы снова поменялись ролями, теперь уже навсегда.
– Да-а! Невероятно, что это все жило в одной с нами квартире.
– Что это? – удивилась я, вытаскивая из груды вышитый шелком старинный герб. – Странные символы для герба. Корица, мускатный орех, гвоздика…
– Мать, ты еще помнишь названия специй и их внешний вид?! Ты когда ими последний раз пользовалась? Замок еще в этом гербе, шлем золотой, кроме твоей кулинарии. И что-то латиницей. Ща проверим в универсальном переводчике.
Джой быстро набрал на клавиатуре какой-то адрес после www, списал с вышивки цитату.
– «Себастиану Элькано. Ты первым обогнул меня». Комп говорит, что это на латинском. Я хоть лениво учил географию в школе, но, кажется, Элькано – это тот фраер, который вернулся с каравеллой «Виктория» из кругосветки, где грохнули Магеллана. И откуда это у прежнего хозяина?
– Он же мидовский чин был, подарили в какой-нибудь Испании. Джой, может, нам лучше пожить где-то в другом месте…
– Если за нас взялись всерьез, то достанут везде. Наши с тобой лежбища вычислить – раз плюнуть. Две бабки, твоя Ленка да пара-тройка моих… как бы это приличнее выразиться при собственной матери.
– Можешь не выражаться. Девочек хоть не подставляй. Они-то при чем? А про Ленку ты вовремя вспомнил. Если успею ее перехватить перед работой, может, удастся взять напрокат ее «Волгу». Если этот танк не в очередном ремонте.
– Тебя из-за руля видно не будет. Танк привык к соответствующим габаритам, – справедливо заметил сын. – Ладно. Ищем кофр. Блин, неужто это считалось сексуальным нижним бельем? – Димка держал в руках дамские трусы, которые ныне вполне сошли бы если не за платье, то за бриджи. – Бедолаги были мужчины. Как в таких трусах до сути добирались и желание не теряли?
– Ну и что же им от тебя надо? – вопрошала поднятая на ноги в полседьмого утра Ленка.
Ленка была моим наследием от школы. В те годы мы являли собой колоритнейшую пару. Меня с вечными сорока пятью килограммами никто не хотел принимать за ровесницу подруги, которая была только тремя месяцами старше, но едва ли не сотней килограммов мощнее. После выпускного вечера на смотровой площадке около университета ко мне пытался приклеиться парень из другой школы, но его друг быстро одернул незадачливого ухажера: «Ты что, не видишь, девушка с мамой!»
За четверть века, прошедшие после выпускного, я героическими усилиями дошла до сорока девяти килограммов. Да так на них навечно и застыла. А Ленка всегда оставалась в своей форме – худела она на двадцать килограммов или поправлялась на тридцать, при ее комплекции это значения не имело. В бюсте а-ля мадам Грицацуева она легко прятала от мамы сигареты и спички, а на экзамены проносила целый набор конспектов, умудрившись однажды прихватить с собой даже «Краткий словарь политэкономии социализма».
– Давай мыслить логически – куда ты вляпалась? – требовала подруга. – Вспоминай, может, сняла кого не надо или что не надо…
– Я так много снимала кого не надо, что, если за каждый снимок взрывать по три машины и убивать по три человека, жителей во всем ЦАО не останется. И потом, снимки представляют опасность лишь до момента опубликования…
– А что ты еще не опубликовала?
–Жующего жвачку американского президента – раз. Но не думаю, что ЦРУ за это станет меня преследовать. Генералов в Чечне – два, да я их на всю жизнь во всех видах наснимала.
– И все же… Там же, в Чечне, кроме боевиков, сплошной криминал, говорят…
Добрая толстуха никогда не выезжала дальше собственного дачного поселка, но каждый год обещала себе и сыну, что вот-вот они вместе поедут странствовать по Европе. «Вот-вот» год от года откладывалось, и про свои неизбежные полеты по стране и по миру я старалась рассказывать как можно меньше. Не потому, что скрывала. Просто все, со мной происходящее, я относила к разряду «работа». Не будет же Ленка в наши редкие встречи морочить мне голову своими годовыми балансами и бухгалтерскими отчетами ликероводочного завода, на котором недавно пристроилась главным бухгалтером, почему же я должна рассказывать что-то о лагерях боевиков в филиппинской «Чечне» на острове Минданао или о съемках празднования пятидесятилетия пребывания у власти Елизаветы Второй. Это работа, и все.
– Генералы в Чечне, говорят, все в нефтяном бизнесе замешаны. Может, кто в кадр тебе случайно попал.
– Я в Чечне давно не снимала, а прилетела из Ингушетии. Снимала в лагере беженцев, там до генералов далеко.
– А с наводнения ты с эмчеэсовцами летела? – не унималась начитавшаяся «МК» подруга. – Их самолеты, говорят, используют для перевозки контрабанды! Может, сняла что-то не то.
– Я рейсовым летала. И с эмчеэсовцами у меня прекрасные отношения. Не знаю, что там говорят.
– В любом случае надо взять листик и выписать все версии.
– Так! Мы еще и детективов начитались! Лавры Насти Каменской покоя не дают, логастик ты наш!
Ленка, надо отдать ей должное, была человеком вполне рассудительным и умеющим мыслить логически. Не знаю, что приобрел в лице подруги ликероводочный завод, но какая-нибудь крупная финансовая корпорация потеряла в этой объемной даме блистательного аналитика. Не случись глобальная перестройка родной экономики в неподходящую для Ленки пору, она явно была бы топ-менеджером одной из бюджетообразующих монополий.
Но, забеременев в 1991-м, собиравшаяся насладиться материнством Ленка оказалась перед необходимостью в одиночку бороться разом со всем. С обесценивающимися на глазах сбережениями, с отсутствием грудного молока и нежеланием сына есть обычную, с трудом добытую смесь «Малыш», с периодическими дебошами случайного папашки, претендующего на отцовство только в период особо сильных загулов.
Свои неизрасходованные аналитические способности Ленка теперь тратила на решение Стасиковых задач по математике, на безошибочное с двадцатой страницы отгадывание интриги любого детектива и на телефонное разруливание любовных дел подруг. О своих любовных делах после разрыва с Никитой я не рассказывала. Во-первых, вообще разлюбила откровенничать. Во-вторых, рассказывать было почти не о чем. Несколько случайных и одна чуть менее случайная связь оказались скорее горьким лекарством от неизбежного гормонального бунта, чем каким-то маломальским подобием чувства. И с тех пор как Ленке перестали требоваться консультации по вопросу, что же делать, если Стасик третий день не какал, общение с подругой сводилось к ритуальному пересказу новостей о школьных друзьях. Милка бросила Сашку, вышла за какого-то араба и уехала в Штаты. Витьку поставили на счетчик, все думали, уже убили, но кто-то видел его в Брянске, бомжует. А Лешка Оленев, сама знаешь, в рейтинг «Форбса» попал – кто бы подумал, что из Оленя олигарх вырастет…
– Надо найти Оленя, пуcть приставит к тебе охрану!
– С какой это стати?
– Он же был в тебя влюблен. А первую любовь не забывают. Не встретила бы тогда своего аспиранта, жила бы сейчас в виллах в Жуковке да на Лазурном берегу…
– Не жила бы. Я Бобби Халла от Бобби Орра не отличала, а этого Лешка простить бы не смог.
– Это у него по юности мозги набекрень были. Что ж он, по-твоему, в постели с женой о хоккее разговаривает?
– Не знаю, о чем он там со своими женами разговаривает, в журналах пишут, что у него уже третья. А если знать заранее, кто как через двадцать лет исправится, жить бы неинтересно было.
– Любознательная ты наша. То-то и с зашитой головой. Нет, Лешку все же привлечь надо.
– Я его лет двадцать, поди, не видела. Убей, не знаю, где его искать.
– И убьют, если не узнаешь. Ты министров, банкиров снимаешь? Снимаешь! Что, свои фотографические связи поднять не можешь?!
– Могу. Но не хочу. Кто я ему? Сидели три года за одной партой – здрасте-пожалста. Да он и не помнит, как меня зовут, а я явлюсь – не хотите ли меня непонятно от чего защищать! Я же не знаю, что от меня нужно этим странным преследователям, а они знают. Пусть сами ищут, если уже не нашли.
– Что значит – не нашли?!
Краткое описание нынешнего вида моей квартиры привело Ленку в состояние, близкое к шоковому.
– Я тебе говорила, что нельзя жить в отрицательной энергетике чужих вещей!
– Откуда ты знаешь, что энергетика отрицательная?
– Иначе не случилось бы всего, что случилось! За девять лет ни ремонта, ни генеральной уборки! – Ленке, с ее пунктиком чистоты, этого было не понять. – Это все твой туалет в зоне процветания!
– Ты еще поучи меня крышку на унитазе закрывать, чтоб деньги водились, фэншуистка ты наша!
Новомодное китайское учение было последним пунктиком подруги. Ленка двигала мебель, чтобы поток ци не угрожал ей во время сна, усиливала зону брака «музыкой ветра» и собиралась ломать входную дверь, перестраивая общий с соседями коридор, потому что Пятому дому, соответствующему ее зодиакальному знаку, была показана входная дверь, ориентированная на юго-запад, а у нее получался чистый восток.
Во время прошлогодней командировки в Китай пришлось просить переводчика записать иероглифами на листочке все, что затребовала подруга, а потом сломя голову носиться по прелестному старому шанхайскому рынку, тыча в загадочные иероглифы пальцем. Китайцы, глядя на меня как на сумасшедшую, лезли куда-то далеко на антресоли и из дальних чуланов притаскивали странные предметы. «Это все западные увлечения. У нас в Китае этим никто не пользуется!» – сказал переводчик с путаным именем, просивший называть его Сашей.
Но Ленка, встретившая меня в четыре утра в Шереметьево-2, была счастлива, что теперь наконец-то сможет с помощью настоящего зеркала «Ба гуа» правильно нейтрализовать тайную стрелу уличного фонаря, «перечеркивающего» окно ее кухни. Я не стала расстраивать подругу и рассказывать, как, не достав таинственного «Ба гуа», в самолете собственноручно ковыряла маникюрными ножничками на деревянной раме обычного зеркала, зачищала пилочкой для ногтей и подпаливала зажигалкой знаки, срисованные с вверенного мне рисунка требуемого предмета. От магического зеркала Ленка была в особом экстазе.
Ленку огорчало, что все пособия по фэн-шуистике, в массовом количестве подоспевшие на наши прилавки, были переводными с английского, а не с китайского, и часто противоречили друг другу. Пунктуальная душа подруги жаждала первоисточника. Она доводила меня требованием достать ей настоящего китайца, способного растолковать все тонкости: «Тебя же звали на прием по случаю пятидесятилетия КПК в их посольство, что тебе стоило сходить и найти мне специалиста!»
– Зря смеешься. Я как сама крышку унитаза закрывать стала и Стасика приучила, так наш завод новый хозяин купил, нормальный, и мне сразу зарплату прибавили! Меня как менеджера нового типа даже пригласили в Белый дом на встречу с малым и средним бизнесом по случаю Дня независимости. Слушай, а если прежний хозяин в квартире какой-то клад держал? Ты ж говорила, он важной шишкой в МИДе был.
– Быть-то был, но выгнали его еще накануне перестройки. А на пенсию, даже персональную, он не сильно шиковал. Он все жене при разводе оставил, и деньги, и квартиру на Смоленке за МИДом, и дачу. А это была квартира его родителей. Даже не настоящих родителей, приемных… Когда мы туда перебрались, Джой после бабушкиных строгостей да съемного жилья в квартире в индейцев играл. Найдись там что стоящее, еще тогда бы выкопал.
– Может, наследники проснулись. Обозлились, что отец или дед не пойми кому завещал, теперь до кучи все прибрать хотят…
– Непохоже, – я мотнула головой, но первый же кивок отозвался болью в наложенном шве. Пришлось ограничить выражение эмоций движением рук. – Петр Григорьевич, сын прежнего хозяина, лет двадцать как в Америке. Сначала с папиной подачи в ООН работал, потом, после скандала, там и остался. Женился на внучке то ли Рузвельта, то ли еще кого-то… Нет, не Рузвельта точно. Но какого-то бывшего их президента. Дамочка из миллионерш попалась, и он весь в шоколаде. Непохоже, чтобы он взрывать и убивать за папино наследство начал. Он же мне после оглашения завещания сказал, что крайне удивлен, но ничего против воли покойного отца делать не будет, сам, мол, был не слишком хорошим сыном. И потом, я ж ему предлагала забрать любые вещи в квартире. Но он, кроме нескольких фотографий, ничего не взял. Даже картину оставил.
– Тетку с арбузом, что ли?
– Ее, родимую. Какой-то дока из Джоевых друзей недавно говорил, что это начало девятнадцатого века. У американской внучки такого добра, наверное, навалом.
– А вдруг в раме картины чего-нибудь запрятано, раз девятнадцатый век? – предположила уставшая от однообразия блочного бытия подруга.
– Э-э, это ты уже не Марининой, а Хмелевской начиталась. Или Донцовой… Должна огорчить вас, пани Иоанна. Когда эта ночная телезвезда, моя соседка справа, в своей квартире в прошлом году ремонт делала, рабочие в стену так долбили, что картина свалилась и рама треснула. Но ничего, кроме тараканьих яиц, внутри не обнаружилось. Увы!
– А если это Джоя преследуют? Может, вляпался – наркотики или долги…
– Вляпаться он мог только виртуально. Джоя чтобы от компьютера оторвать, подъемный кран вызывать нужно. И потом, звонили-то мне. И письмо это – «не будь дурой»… И ждали чего-то в Кремле не от Джоя, а от меня…
– Стоп! – завопила Ленка, едва не выронив из рук пятую по счету чашку кофе. – В Кремле! Они чего-то ждали от тебя в Кремле!
– И что? – не поняла я.
– У нас что, Кремль – проходной двор?! Там каждый может входящих через Спасскую башню обыскивать?!
Я не отвечала, обдумывая ее версию.
– Если они чего-то ждали от тебя в Кремле, значит, у них есть туда доступ, причем доступ неограниченный! – едва не налив себе на пальцы кипятка, сделала вывод Ленка.
Наверное, Ленка права. Это ниточка. Потяни ее, клубочек, может, и распутается. А может, напротив, запутается. Сосед у кого-то в караулке стоит. Сказали ему, что фотографша пакетик оставит, передать попросили, и все тут…
Итог кремлевским размышлениям неожиданно подвел проснувшийся Стасик.
– Ой, батюшки, уже полвосьмого, – всплеснула руками Ленка и засуетилась по крохотной кухоньке, каким-то чудом не задевая пышными боками углы. Омлет из трех яиц с сыром и ветчиной, хлопья с молоком, две горсти кураги и чернослива для улучшения пищеварения, свежевыжатый апельсиновый сок, две сосиски, тосты с джемом и шоколадом исчезали во рту ребенка в считанные минуты.
Для меня затолкать раньше двенадцати часов дня в себя даже тоненький ломтик сыра – уже подвиг. Поэтому я с изумлением наблюдала за завтраком маленького Гаргантюа. Тем временем Ленка отработанными движениями сложила в коробочку четыре пирожка с мясом и с печенкой, шесть бутербродов с ветчиной и сыром, два яблока, киви, апельсин, два глазированных сырка, горсть конфеток и несколько сушек – «для баловства».
– Их что, в школе не кормят?!
– Кормят. Но только на третьей перемене. И аэрофлотовскими завтраками – разве это пища для растущего организма! – объяснила Ленка и снова заворковала над чадом: – Сыночек, борщик в кастрюльке, котлетки с пюре на тарелочке.
Открыв холодильник, она показала на внушительных размеров миску с полудюжиной котлет, венчающих гору пюре.
– Погрей в микроволновочке, салатик в холодильнике. – Жест в сторону не меньшей по размерам миски. – Пирожок с грибами в хлебнице.
– А на полдник что? – молвило толстощекое чадо.
– Ой, на полдничек-то я ничего не успела! – запричитала Ленка и побежала за кошельком. – По дороге купи себе пироженко или в кондитерскую сходи. Я сегодня не поздно, испеку что захочешь!
– Значит, так, – заключила спешащая на работу Ленка, – сейчас завозим Стасиньку в школу, потом доезжаем до моего заводоуправления. Там рядом заправка, последи сама за счетчиком – мухлюют ребята, наливаться начинают иногда с трех литров. Но зато бензин неразбавленный. В пробке машинка может закипеть, долей водички.
– Не учи ученую. Сама не на «Мерсах» езжу!
– У каждой машины, как у каждой женщины, свои причуды, – заявила Ленка, докрашивая и без того румяные щеки. – Сомневаешься?
– Не в машинах, в женщинах. По-моему, мы все примитивны до ужаса. Ищем сильного мужика, за которым как за каменной стеной мечтаем спрятаться. А найдем, так не успокоимся, пока его не сломаем, не пересилим, не взвалим все на себя, чтобы тогда уж жаловаться, что мужики перевелись!






