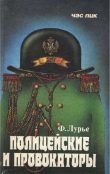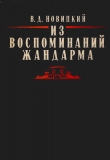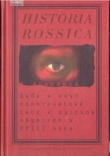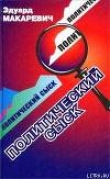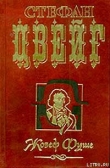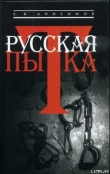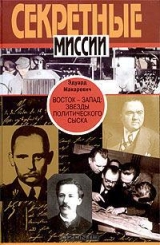
Текст книги "Восток - Запад. Звезды политического сыска"
Автор книги: Эдуард Макаревич
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)
Но государь знал большой грех за Бенкендорфом. В 1816 году молодой генерал вступил в масонскую ложу. Называлась она «Соединенные друзья». По прошествии лет можно считать, что привела его туда мода на вольнолюбивые порывы, на духовные искания. Масонство в России тогда было словно внутренней церковью, христианством для души. Их, молодых офицеров и генералов, людей высшего света, масонство объединяло в некое братство, влекло романтикой тайного ордена. Братьями Бенкендорфа были Грибоедов, Чаадаев, будущий декабрист Пестель. Бенкендорф покинул ложу в 1818 году, а Пестель – годом раньше. И оба по идейным соображениям. Бенкендорф окреп в убеждении, что высшая идея – служение престолу – не стала главной у вольных каменщиков. А Пестель, жаждавший переустройства общества, понял, что российское масонство стояло далеко от жизни и не стремилось к политическим изменениям в стране.
Выйдя из масонов, будущие декабристы создали «Союз благоденствия», предтечу тайных обществ – Северного и Южного. «И желалось им некоторый порядок масонских лож ввести в «Союз благоденствия», – уразумел современник их И. Якушкин. Об этом союзе Бенкендорф своевременно информировал государя. Помнил ли он при том заповедь масонов: «Если один из братьев станет бунтовать против государства, ему следует не содействовать в этом, а скорее сострадать как глубоко несчастному человеку. Однако этот брат не может быть исключен из ложи, а узы, связывающие его с нею, остаются нерасторжимыми»? Николай I сам возглавил Верховную следственную комиссию по делу декабристов. По пятнадцать часов в сутки – допросы, допросы, допросы. Священным огнем исходило царское сердце – выжечь с корнями заразу либерализма. Вопросы подследственным, что удары, – гневные, прямолинейные.
– Тихонечко, тихонечко, ваше величество, – предупреждал Бенкендорф.Силой не получится, хитростью да лаской надо.
Может, от таких предупреждений и родился донос А. Голицына, будто член следственной комиссии Бенкендорф, помня о своих бывших соратниках по масонской ложе, был весьма субъективен при расследовании дел декабристов. Вроде сочувствовал, стремился отвести от заслуженной кары.
Но доносчик оказался близорук. Пластичный Бенкендорф забыл заповедь масонов о нерасторжимости уз. Иная его вела стезя – нерасторжимость с властью. Поэтому Павлу Пестелю, соратнику по ложе, – смертная казнь. Так же, как Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаилу Бестужеву-Рюмину, Петру Каховскому. Как иначе! Ведь дворянин Пестель на тайном собрании «Северного общества» заявил: «В случае успеха восстания царскую семью уничтожить». И поддержан был.
Первоначальный приговор – всех четвертовать, но царской милостью отклонен. Снизошла та милость после разговора Бенкендорфа с Николаем: не по-христиански это, четвертовать. И Европе просвещенной царь уже пообещал без единой капли крови. Поэтому: «Повесить!» Бескровный акт. Вот и все, что мог выхлопотать Бенкендорф для соратников по масонской ложе.
Семнадцать лет после того душа не ведала переживаний и была в ладу с делами. А на закате жизни заныла кровавыми сполохами. Но об этом речь впереди.
Государственная безопасность по Бенкендорфу: реальность
Почти восемнадцать лет строил Бенкендорф систему самодержавной безопасности. В центре ее было Третье отделение со своими 72 сотрудниками. От него тянулись струны к жандармским частям. Александр Христофорович добился, что в апреле 1827 года царь подписал указ о создании корпуса жандармов. Части корпуса стали исполнительными органами Третьего отделения. Бенкендорф сам делил Россию на жандармские округа – восемь округов нарезал, в каждом восемь-одиннадцать губерний. На каждый округ назначил генерала и штаб при нем, мудрено названный окружным дежурством, а потом управлением. А в каждой губернии – отделения округа со своим штаб-офицером. В 1827 году в корпусе жандармов по всей России служили 4278 человек.
– Корпус должен быть элитным соединением, – предложил Бенкендорф.
И Николай поддержал его. В корпус отбирали самых развитых, самых грамотных солдат из армейских частей. А для офицеров, коих было большинство, важна была отличная рекомендация или протекция. Как ни сторонилась армия жандармов, а желающих попасть в корпус было больше, чем вакансий: офицеры жаждали стать элитой. Надев голубой мундир, избавлялись от казарменной рутины, серых армейских буден, приобретали независимость, подчиняясь только начальнику округа. Да и платили элите значительно поболе.
Бенкендорф настоял на том, чтобы губернаторы не лезли в деятельность жандармских отделений и не пытались ими управлять. Мало того, он добился с ведома императора, что распоряжения Третьего отделения обязательны для всех государственных учреждений, что сотрудничество с Третьим отделением для министров и губернаторов – их служебный долг.
Безопасность власти, по Бенкендорфу, начинается со сведений о настроениях населения, и прежде всего дворянства, чиновников, образованных людей. Рапорты и донесения жандармских офицеров текли рекой в дом на углу набережной Мойки и Гороховой улицы в штаб-квартиру Третьего отделения. Жесткой рукой в море российской расхлябанности и необязательности добился Бенкендорф выполнения главного принципа: знание общественного мнения для власти – как выверенная карта для полководца.
А дальше понятие безопасности у Бенкендорфа сводилось к наблюдению за министерствами и ведомствами. Третье отделение вмешивалось в их дела, пыталось пресечь злоупотребления, остановить бюрократические нелепости. Тайная полиция помнила указание своего шефа: интересы любого ведомства не должны заслонять интересы государства. Бенкендорф ввел в практику ежегодные отчеты Третьего отделения для царя. По сути это были аналитические записки на основе донесений жандармских офицеров.
Уже в одном из первых отчетов в 1827 году Бенкендорф объявляет приговор бюрократии: «Хищения, подлость, превратное толкование законов вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят, так как им известны все тонкости бюрократической системы». В Отчете за 1829 год констатировалось, что Адмиралтейство дезинформировало императора в отношении качества боевых кораблей: «Моряки считают, корабли построены плохо, без соблюдения правильных размеров, но никто не осмеливается сказать об этом государю». Подтекст – осмелилось сказать Третье отделение.
В этих ежегодных аналитических отчетах службы Бенкендорфа, которые подписывал он сам, нередко звучали весьма прогрессивные идеи как вывод из анализа собранной информации. В отчете 1838 года обосновывалась необходимость строительства железной дороги Москва – Петербург и обращалось внимание на всеобщий ропот по поводу рекрутских наборов. В отчете за 1841 год ставился вопрос о важности государственной заботы о народном здравии. В отчете 1842 года говорилось о массовом недовольстве высоким таможенным тарифом, обращалось внимание на вредное влияние откупов на хозяйство страны и народную нравственность.
Конечно, не все принималось Николаем, и тогда последствия для самодержавия были трагические. В 1828 году Бенкендорф положил на царский стол докладную записку о русской администрации в Царстве Польском. Какой язык, какая сила переживания! «Власть продолжает там оставаться в руках презренных субъектов, возвысившихся путем лихоимства и ценою несчастья населения. Все государственные чиновники, начиная со служащих канцелярии генерал-губернатора, продают правосудие с аукциона». И вывод: угнетение местного населения может закончится взрывом. И какое разочарование! Николай ни в чем не изменил свою политику в Польше. На брата Константина, вероятно, понадеялся, который там был наместником. Но правым оказалось Третье отделение – восстание вспыхнуло уже в 1830 году. Правда, Бенкендорф потом выговаривал своим офицерам. Те хоть и слали тревожные рапорты из Польши, но не предполагали, что все случится так скоро. Прогноз был недостаточно точен.
Как высшую заслугу мог отнести на свой счет Бенкендорф то резюме, к которому пришел после некоторых размышлений: сведения, оценки, аналитические записки Третьего отделения значительно расходились с картиной, рисуемой государственными ведомствами. Правда Третьего отделения укрепляла безопасность власти.
Однако так же, как ложь, глупость, бюрократизм и организация социальной и хозяйственной жизни в России подтачивали самодержавие, еще более увесисто сокрушали его революционеры, либералы, демократы. С ними бороться нужно не столько констатирующими аналитическими записками, сколько приемами политического сыска, считал Бенкендорф.
Революционные идеи и критика власти рождались в среде образованного люда. Но что такое идеи, критика и умствующая публика без общения, без трибуны, без споров, без искрящейся иронии, повергающей оппонента, без тщеславия и амбиций, без «трепа» в конце концов? Ничто! Пространство общения и взялась осваивать служба Бенкедорфа.
Сначала салоны в богатых домах. Они были разные. В одних больше сплетничали и дулись в карты, в других спорили о политике, и по-серьезному. Людей Бенкендорфа интересовали и те и другие. Последние больше, ибо стали прибежищем интеллектуалов. Именно там, в оглушительных спорах, впервые осознали себя «западники» и «славянофилы». Оттуда появился властитель дум Петр Чаадаев.
А университеты, эти как бы официальные духовные пространства в николаевской России? Студенческие компании рождали воздух свободы и будоражили умы. Здесь появился первый опыт свободолюбивых «движений». Университеты – самое страшное – плодили кружки, где собирались по интересам, изучали Гегеля, Шеллинга, французских социалистов, дискутировали и «наезжали» на порядки в стране. Это уже более серьезно, чем салоны. Служба Бенкендорфа не дремала. Многие дела по ее части брали начало в этих кружках. Дело Герцена, дело Белинского – самые громкие.
Ну и последний рубеж интеллектуального пространства, самый мощный, самый тревожный, – толстые журналы. Это уже идеи, отлитые в форму и выплеснутые на бумагу. Поэтому вдвойне опасные. В николаевской России толстых журналов было больше десятка. Самые авторитетные – «Телескоп», «Современник», «Отечественные записки». Они разносили идеи и знания по городам империи, тянули духовные нити по всей России. Несмотря на свирепство цензуры, несмотря на эзопов язык. Служба Бенкендорфа осваивала территорию «толстой журналистики», опираясь на своих добровольных помощников из мира редакторов, издателей, публицистов и читателей. На стороне этой службы была цензура. Захирев при Александре I, она очнулась и окрепла при Николае I. Побуждаемый Бенкендорфом, государь в 1826 году утвердил цензурный кодекс. И если кто-то хотел распространять какое-либо издание, ему нужно было добыть разрешение одного из цензурных комитетов. А там сидели люди Бенкендорфа. Любую рукопись они смотрели на предмет «зловредных идей» и на предмет «укрепления» общественной нравственности. И надо сказать, что Бенкендорф сажал на цензурное дело не самых «дубовых» чиновников. Иначе никогда бы не пробиться Пушкину и Лермонтову на журнальные страницы в эпоху Николая. Да царь и сам порой охотно исполнял обязанности цензора, хотя бы в отношении Пушкина.
Где-то в середине 30-х годов XIX века в Третьем отделении поняли, что пресекать идеи революционеров и либералов мало. Надо с ними вести полемику, выступать в печати по тем же вопросам, развенчивать их взгляды и мотивы их революционности, предлагать иное видение социальной действительности. И делать это и в России и за границей. Но для сего нужны способные публицисты, политики, мыслители. Их надо искать в среде интеллигенции, привлекать к сотрудничеству, поощрять. Так нашли Фаддея Булгарина, Якова Толстого, а потом и других. Таков был новый поворот в национальной безопасности, исходивший от Бенкендорфа. Поворот, который через столетие не только не умер, а получил новое звучание в облике психологической войны. Видные теоретики этой войны в двадцатом веке Л. Фараго, П. Лайнбарджер, М. Чукас, наверное, и не предполагали о своем предтече в лице графа Бенкендорфа и его службы.
Соратники
Будучи главой политической полиции, Бенкендорф назначил управляющим Третьим отделением и своим заместителем фон Фока. Он пришелся Александру Христофоровичу своим немецким происхождением, впечатляющей работоспособностью и аккуратностью. Фон Фок был мастер систематизации и бумажных дел, а это наипервейшее качество в службе безопасности. Составленные им списки и отчеты хорошо укладывались в планы Бенкендорфа. Фон Фок вершил свое дело незаметно. И от его каждодневного усердия машина политического сыска крутилась без сбоев и без скрипа. Он, в общем-то, и проделал всю черновую работу по организации сети осведомителей из бюрократии и светского общества. И картотеку создал, и учет поставил. Очень ценил Бенкендорф эту серую мышь, так буднично и незаметно претворявшую его замыслы. Тем более что сам не любил черновой работы.
Но, конечно, яркой звездой запылал на небосводе Третьего отделения Леонтий Васильевич Дубельт – находка Бенкендорфа. Сообразителен и смел был ротмистр Дубельт, с 15 лет познавший вкус военной службы. Пулям не кланялся, но одна, проклятая, все же ранила под Бородином. Замечен был за храбрость и организацию дела – потому и адъютантом служил сначала у генерала Дохтурова, потом у славного Раевского. Был и в заграничном походе. В Париже закончил войну.
Ох, Европа, Европа! Цивилизация начала века – дороги, товары, свобода. А в России уже тайные офицерские общества. И близок к ним Леонтий Васильевич. Будущие декабристы С. Волконский и М. Орлов у него в друзьях. Идеи свободы казались неотделимы от блеска эполет лихого полковника.
После восстания на Сенатской площади арест миновал командира пехотного полка Дубельта: разговоры о свободе – не членство в тайной организации. Но в список подозреваемых попал. И предстал перед следственной комиссией, назначенной императором. Здесь-то его и увидел Бенкендорф, заседавший в той же комиссии. Увидел и запомнил – поведение полковника ему понравилось. Суда Дубельт избежал, а в реестре неблагонадежных остался. Но перед начальством не стелился, конфликтовал. Однажды не выдержал, подал в отставку. Демонстративно. И армия не расстроилась из-за вызова блестящего полковника. В сей драматический час Бенкендорф сказал ему:
– Иди ко мне в Третье отделение.
Неожидан и странен был ход главы секретной службы. Но он тоже был в Париже, как и Дубельт. А вернулся с иными впечатлениями. Как говорил С. Волконский: «Бенкендорф вернулся из Парижа... и как человек мыслящий и впечатлительный увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих...»
И уговорил-таки Дубельта встать в ту когорту, что называлась Третьим отделением. Из армии в жандармерию, но на честных началах. Согласившийся Дубельт пишет жене, что просил передать Бенкендорфу не делать о нем представления, ежели обязанности неблагородные будут лежать на нем, что он не согласен вступить в жандармский корпус, ежели ему «будут давать поручения, о которых доброму и честному человеку и подумать страшно». Но Бенкендорф искренне считал жандармскую службу делом благородным и убедить в этом мог даже весьма искушенных. Так пехотный полковник стал жандармским.
Какой талант открылся на ниве сыска! Невероятная способность по нескольким фактам выстроить картину и сделать прогноз. Так он предугадал судьбу Пушкина. Через пять лет Дубельт уже генерал и начальник штаба жандармского корпуса. А потом управляющий Третьим отделением. Жесткий прямой характер, мешавший карьере в армии, не мешал служить у Бенкендорфа. Его ценили не только в секретной службе, ценили те, кто был объектом его внимания. Герцен тут близок к Бенкендорфу, когда заметил, что Дубельт умнее всего Третьего отделения, да и всех трех отделений императорской канцелярии, вместе взятых.
Если фон Фок – это агентурная сеть, это добывание сведений об общественном мнении, которое «не засадишь в тюрьму, а прижимая, его только доведешь до ожесточения», то Дубельт – это работа с образованными мужами, с литераторами. Он считался в ведомстве Бенкендорфа самым просвещенным, причастным к литературе, да и сам немножко сочинял. Работал с редакторами толстых журналов, с Пушкиным, Герценом. Они-то знали его главный метод убеждение, уговоры. Это стиль Бенкендорфа, помноженный на «литературность» Дубельта, его терпение и деликатность, на его сочувствие, на сопереживание. Трагедия моих подследственных, думал Дубельт, в том, что они шли по «ложному направлению». Он искренне сочувствовал им и пытался менять это направление.
Так кто же на самом деле был Дубельт: отважный воин, боевой офицер пехоты, жандармский генерал, организатор политического сыска, личность, которую так талантливо нашел Бенкендорф? Кто мог лучше и проницательнее о нем сказать, чем человек, принесший больше всего беспокойства Третьему отделению, его подследственный – социалист Александр Иванович Герцен: «Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, или лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость».
Отношения с Третьим отделением: Герцен
Пожалуй, одним из самых серьезных испытаний для системы сыска, лелеемой Бенкендорфом, была борьба с инакомыслием в Московском университете. С 1826 года здесь возникло сразу несколько студенческих кружков, среди которых самыми «горячими» оказались те, где «колобродили» Сунгуров и Герцен. И того и другого вскоре арестовали. Для Герцена нашли формальный повод «соприкосновение к делу праздника», на котором пели «возмутительные песни, оскорбляющие его величество». Песня, правда, была одна, спетая на студенческой пирушке, где гуляли по поводу окончания курса:
Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.
И тут вошли жандармы. Герцена среди гулявших не оказалось, но его арестовали спустя две недели как имевшего отношение к пирушке – «русскую полицию трудно сконфузить». Конечно, песня – повод. К Герцену и его однокашникам претензии были иные. В Третьем отделении знали, о чем дискутировали молодые интеллектуалы. О самом страшном для царя: как начать в России новый союз по образцу декабристов. И следователи выражались вполне определенно:
– Наша цель – раскрыть образ мыслей, не свойственных духу правительства, мнения революционные и проникнутые пагубным учением Сен-Симона.
Приговор был прост и ясен: для Герцена – ссылка. Потом он напишет: «В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанием». Под опеку того же Третьего отделения. Через полгода, уже в Петербурге, где Герцен служил по ведомству внутренних дел, его пригласили в дом на углу Гороховой. На сей раз уже сам Дубельт занимался им. Повод вроде пустячный: пересказал в письме отцу случай, как постовой ночью у моста убил и ограбил человека. Да вот незадача, комментировал с пристрастием, язвительно отзывался о власти. Дубельт ему с располагающей полнотой поведал:
– Вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции. Это все несчастная страсть чернить правительство – страсть, развитая в вас во всех, господа, пагубным примером Запада. Государь велел вас отправить назад, в Вятку.
Последовавшие объяснения несколько смягчили Дубельта:
– Ехать вам надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно заменить другим городом. Я переговорю с графом Бенкендорфом. Все, что возможно сделать для облегчения, мы постараемся сделать. Граф – человек ангельской доброты.
День спустя встреча с Бенкендорфом. Тот был сух и холоден. Почти не глядя на Герцена, он объявил:
– Я по просьбе генерала Дубельта и основываясь на сведениях, собранных о вас, докладывал его величеству о болезни вашей супруги, и государю угодно было изменить свое решение. Его величество воспрещает вам въезд в столицы, вы снова отправитесь под надзор полиции, но место вашего жительства предоставлено назначить министру внутренних дел. – И назидетельно продолжил: – Что будет потом, более зависит от вас. А так как вы напомнили об вашей первой истории, то я особенно рекомендую вам, чтоб не было третьей, так легко в третий раз вы, наверное, не отделаетесь.
Так Герцен оказался в очередной ссылке, в Новгороде. В Третьем отделении понимали, что он становился опасен не только идеями декабристов. Он начал разрабатывать идеологию русского социализма, попросту народничества. Это пугало неизвестностью. Проницательный Бенкендорф и аналитичный Дубельт оценивали ситуацию как весьма перспективную для революционных настроений среди части российских интеллектуалов. Тогда-то, в один из вечеров, после долгого разговора о беспокойном смутьяне Герцене, Бенкендорф заметил Дубельту:
– Его не в Новгород, а из России полезно бы выслать. И вообще, чем ссылки и тюрьмы, лучше отправлять такую публику на Запад.
Спустя два года Герцену разрешили вернуться в Москву. Но опять под полицейский присмотр. Все же не дожал Бенкендорф своего поднадзорного. Он продолжал писать, сначала как философ, потом как литератор-революционер. Уже после смерти графа появилось герценское программное сочинение «Кто виноват?». С него начался в России жанр политического романа.
Но настал день, когда опальному социалисту лихой жандармский офицер вручил пакет. Преемник Бенкендорфа граф Орлов извещал о высочайшем повелении снять надзор. Влиятельные особы ходатайствовали. Герцен выправляет заграничный паспорт, и вот уже Париж, Рим, и, наконец, Лондон. Мечта Бенкендорфа осуществилась – его поднадзорный убрался из России. Из Лондона зазвучала теперь его бесцензурная речь. Там он выпускал книги для России, зовущие к революции и социализму.