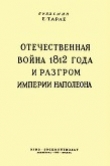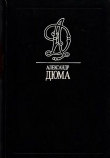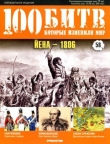Текст книги "Сто дней Наполеона"
Автор книги: Эдит Саундерс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Другая забота императора – его законодательство. Между 1802 и 1804 годами был введен знаменитый 25-страничный Гражданский кодекс – тот самый, о котором Наполеон впоследствии скажет: "Моя истинная слава – не в сорока сражениях, выигранных мною: Ватерлоо изгладит память обо всех этих победах, но что не может быть забыто, что будет жить вечно – так это мой Гражданский кодекс". Этот кодекс, являющийся стройной компиляцией из римского права, обычаев, королевских ордонансов, судебной практики старых парламентов, учений французских средневековых и ренессансных правоведов и революционных декретов, стал своего рода исполнением обещания, данного в 1790 году установить в стране единое законодательство. Данный документ закреплял установленный в предыдущие годы принцип равенства всех перед законом и подтверждал отмену едва ли не последней феодальной институции – поземельной ренты. Вслед за Гражданским кодексом в 1806 году был введен Гражданский процессуальный кодекс (Устав гражданского судопроизводства), в 1807 году Коммерческий кодекс (Торговое уложение), в 1810-м – Уголовный (полное название: Уголовный, исправительный и полицейский), а в 1811-м Уголовно-процессуальный (Устав уголовного судопроизводства) кодексы. Проводятся также серьезные экономические преобразования: например, закон 17 жерминаля XI года (7 апреля 1803) обращает счетную монету, чья стоимость в дореволюционной Франции произвольно диктовалась королем, в реальную и устанавливает единую денежную единицу на основе серебряного металла с фиксированным его отношением к золотому эквиваленту; кроме того, наряду с металлическим обращением был организован новый вид бумажного обращения в виде банковских билетов.
Наполеон сам – главный автор своих реформ, кодексов и указов, вникающий в каждую деталь и каждой мелочи уделяющий внимание. Граф Жан Антуан Шапталь, член Государственного совета, вспоминал: "За четыре года консульства он собирал несколько советов каждый день, на них поочередно обсуждались все стороны управления, финансов, законов; и так как он был одарен замечательным умом, первый консул часто предлагал глубокие комментарии и очень здравые рассуждения, поражавшие даже знатоков Эти совещания часто продолжались до пяти часов утра, потому что он никогда не оставлял дело нерешенным, пока сам не приходил к определенному выводу".
Вся Франция становится продолжением единой императорской воли. Политика, экономика, законы, образование – все строится по принципу, с поистине наполеоновской краткостью сформулированному на Святой Елене: "Единоначалие – самое важное в войне". Поэтому император сам пишет законы, поэтому сам же разрабатывает планы военных операций, в большинстве случаев даже не удосуживаясь посвятить своих маршалов и генералов в те или иные подробности: Абсолют самодостаточен и не нуждается ни в чем, кроме материала для своей творческой экспансии.
Однако вот военный гений Абсолюта, хотя и неоспорим, тем не менее несколько преувеличен. Многие действия Наполеона ошибочны, иные расчеты неверны: взять хотя бы Австрийскую кампанию 1809 года, план которой разрабатывался императором и неудачи в процессе которой были благополучно списаны на Бертье. А между тем Наполеона окружает целая плеяда талантливейших военачальников, зачастую (как минимум) не менее гениальных, нежели сам Бонапарт: таковы прежде всего Даву, Массена и Бертье. (Здесь мы вообще сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, едва ли разрешимой в рамках беглого исторического экскурса: с одной стороны, военный гений Наполеона не терпит никакого постороннего вмешательства, хотя планы кампаний и составляются совместно с начальником штаба Великой Армии Бертье; с другой стороны, значительное число стратегических комбинаций и тактических удач лежит "на совести" французских маршалов и генералов, вынужденных проявлять самостоятельность хотя бы в силу непредсказуемости обстоятельств. Поэтому, несмотря на реально осуществляемое императорское единоначалие, мы можем констатировать коллективный характер побед французского оружия.) Об особой роли Бертье, участвовавшего в разработке планов всех наполеоновских кампаний (кроме кампании 1815 года), мы уже упоминали. В качестве иллюстрации приведем только один отрывок из вюрцбургского донесения Бертье от 1 октября 1806 года: "Мне необходимо три дня на самую спешную рекогносцировку позиций маршала Лефевра у Кенигсхофена. Между тем я тут один, и ни дней, ни ночей не хватает на изготовление всех Ваших приказаний и частных распоряжений по армии Я отправил доверенных офицеров для рекогносцировки и отчасти уже предупредил исполнение распоряжений, которые Ваше Величество изволили сделать ". Наполеон щедро награждал своего начальника штаба, однако жизнью его манипулировал по своему усмотрению: так, например, однажды в полуэпилептическом приступе гнева избил маршала головой об стену, в другой раз женил его, выбрав вице-коннетаблю Франции невесту по собственному вкусу. Впоследствии император попытается развеять легенду о "сером кардинале" своих военных кампаний, но у него получится прямо обратное – на одной и той же странице наполеоновских мемуаров мы читаем следующее: "Бертье вел себя соответственно своему недостатку ума и ничтожеству. Никто иной не мог бы заменить ему Бертье".
Сходный случай и с другим наполеоновским маршалом – Даву. В результате ошибки в расчетах императора 96-тысячная армия Наполеона сражается при Йене с 55-тысячными прусскими фланговыми силами, в то время как в тот же день неподалеку, при Ауэрштедте, Даву с 26– или 27-тысячным отрядом вынужден стоять насмерть против 50 тысяч пруссаков. Оба полководца побеждают, однако сколь различны обстоятельства победы! Узнав о том, что Даву разбил главную прусскую армию, Наполеон резко бросает капитану из штаба 3-го корпуса: "У вашего маршала, видно, двоится в глазах" – и в 5-м бюллетене по Великой Армии объявляет действия Даву маневром своего правого фланга, упомянув, правда, о "выдающейся храбрости и твердости характера" прославленного подчиненного. Вообще, любая похвала, достающаяся другому, является в глазах Бонапарта ущербом его собственной славе. Странная мелочность пополам с мстительностью постоянно обуревает императора: после победы Моро при Гогенлиндене в декабре 1800 года он сообщает о ней Законодательному корпусу как о величайшем подвиге, однако позднее утверждает, что эта победа результат чистой случайности и австрийской ошибки; весьма неприязненно относясь к Лафайету и не в силах открыто репрессировать политического упрямца, Бонапарт каждый раз вычеркивает имя его сына, лейтенанта французской армии, из списков на повышение, несмотря на ходатайства генералов Себастьяни и Груши, последнему из которых Лафайет-младший спасает жизнь при Эйлау. Свет Божества не может быть умален никаким иным светом, слава Божества – ничьей иной славой.
III. Немеркнущий образ
Кстати, о славе. Трансформации и вариации образа Наполеона в сознании современников, не говоря уж о потомках, – интереснейшая вещь, прибавляющая немало поучительного ко всей мифологической фантасмагории вокруг имени Бонапарта. Так, скажем, в начале 1800-х годов парижская "Газета защитников отечества" совершенно всерьез утверждала, что само имя "Наполеон" по своим греческим (!) корням означает "Львиная долина", хотя уж школьные-то товарищи Бонапарта по Бриеннскому королевскому училищу были твердо убеждены, что в свете своих француз-ских корней это имя читается как "Солома-в-Носу" (La Paille-au-nez). Огюст Барбье пишет с каким-то автопародийным восторгом:
В одежде блузника, и пьяный, и веселый,
Париж восторгом распален,
Под звуки труб и флейт танцует карманьолу
Вокруг тебя, Наполеон.
Совершенно по-другому, без флейт и карманьол, представляет себе Наполеона Англия. В то время англичане и французы вообще очень плохо ладят. Все начинается с того, что в мае 1794 года в Париже одновременно происходят два не связанных друг с другом казуса: конторщик при национальной лотерее Адмира весь день поджидает Робеспьера, адреса которого он не знает, у входа в Конвент с намерением его застрелить; не дождавшись Робеспье-ра, бравый конторщик идет стрелять в Колло д'Эрбуа – единственно по той при-чине, что адрес последнего ему известен (дело оканчивается легким ранением). Дочь торговца бумагой Сесиль Рено сутки напролет дефилирует туда-сюда возле дома столяра Дюпле, у которого Робеспьер снимает жилье; найдя девицу подозрительной, ее обыскивают и обнаруживают в сумочке два миниатюрных ножичка, которыми эксцентричная особа хотела зарезать не то себя на глазах у Робеспьера, не то Робеспьера на глазах у себя, но которыми, по правде сказать, вряд ли удалось бы зарезать не только что Робеспьера, но даже царевича Дмитрия. На основании этих двух смехотворных происшествий Комитет общественного спасения выводит версию об "аристократическом заговоре", руководимом из Лондона, и по предложению одного из главных террористов Барера Конвент принимает декрет от 7 прериаля II года (26 мая 1794), гласящий: "Англичан и ганноверцев в плен не брать". В прокламации от 1 фримера VI года Директория объявляет о намерении "продиктовать условия мира в Лондоне"; французское правительство грозится тем, что высад-кой в Англию "великая нация отомстит за вселенную", а центральное бюро Парижского кантона в прокламации от 14 нивоза VI года заявляет: "При слове "Англия" кровь кипит в жилах и сердце трепещет от негодования".
Наполеон продолжает славную традицию своих парижских предшественников, а англичане платят ему тем же. "Корсиканский выскочка", "кровавый Бони", "людоед", "кровожадный тиран", "новый Нерон", "корсиканский тигр" и "пожиратель людей" – вот далеко не полный перечень характеристик, даваемых Бонапарту по ту сторону Ла-Манша. Правда, сразу после заключения в 1802 году Амьенского мира в Лондоне большой популярностью пользуются бюсты Бони с надписью "Спаситель мира", но мир продолжается недолго{*9}, и воодушевление скептических джентльменов очень быстро проходит. Уже в 1803 году, в самый разгар страхов перед французским вторжением в Англию, на одной из афиш Королевского театра в Лондоне можно прочесть следующее объявление: "Королевский Театр, Англия
Представляет долженствующий быть успешно исполненным
ФАРС
В одном акте, именуемый
"Вторжение в Англию"
Ведущий комик – М-р БУОНАПАРТЕ
в своем ПЕРВОМ (и, по всей вероятности, последнем)
появлении на этой сцене"{*10}
И уже в 1803 году император жалуется: "Весьма примечательно, что в ходе моей великой схватки с Англией ее правительству постоянно удавалось обливать грязью мою особу и все мои поступки"; особенно больно жалит бывшего "Спасителя мира" "Таймс": "Ежедневно две из ее четырех смертельно ядовитых страниц заполнены низкой клеветой. Этот презренный листок приписывает французскому правительству все самое подлое, зловредное и недостойное, что только может представить себе людское воображение". Впрочем, то же самое Наполеон мог бы сказать и о тех многочисленных политических брошюрах и статьях, памфлетах, шансонах и карикатурах, которые наводнили Францию времен Реставрации: "чудовище" ("монстр") ("monstre") и "новый Тамерлан" ("Tamerlan moderne") – вероятно, еще не самые хлесткие выражения, отпускавшиеся по адресу человека, совсем недавно бывшего объектом безудержной и бездарной лести.
Иное дело Германия. Здесь лучшие умы всё склонны переводить на метафизику, приправленную мистикой, и на мистику, оттененную метафизикой. Гёте восторженно изъясняет наполеоновский миф, даже не подозревая цинической двусмысленности собственной сентенции: "Легенда Наполеона сродни Откровению святого Иоанна – каждый чувствует, что в ней что-то скрывается, но никто не знает, что именно". "Великолепнейшим" ("der Herrlichste") именует Наполеона Гёльдерлин, "исшедшим из ада отцеубийцей" ("ein der Holle entstiegener Vatermorder") – Клейст. Гегель пишет Нитхаммеру 13 октября 1806 года, в самый канун Йенского сражения: "Я видел, как через город на рекогносцировку проехал император, эта мировая душа (diese Weltseele)".
С поэтических высот туманного Альбиона им отвечает Байрон (письмо к Муру 9 апреля 1814 года): "Увы, мой бедный маленький кумир, Наполеон, сошел с пьедестала. Говорят, он отрекся от престола. Это способно исторгнуть слезы расплавленного металла из глаз Сатаны". Не меньшую патетику, хотя и несколько другого жанра, изливает русская литература в лице Марины Цветаевой: "С 11 лет я люблю Наполеона: в нем (и в его сыне) все мое детство и отрочество и юность, и так шло и жило во мне не ослабевая, и с этим – умру. Не могу равнодушно видеть его имени..." (из письма Анне Тесковой, Кламор, 2 февраля 1934). Миф становится все ярче и многомернее, постепенно приходя к своему апофеозу. Маленький капрал обращается в собственную легенду.
Post scriptum
За три недели до смерти, между двумя тяжелыми приступами, отвергнутый Европой, которую он до неузнаваемости переделал, и с ее же помощью почти наверняка отравленный мышьяком, Наполеон Бонапарт пишет прибавление к завещанию: "Все мои матрацы и одеяла, полдюжины платков, галстуков, полотенец, носков, пару ночных панталон, два халата, пару подвязок, две пары кальсон и маленький ящичек с моим табаком. Все это завещаю на память сыну". Вряд ли в тот момент, когда диктовались эти строки, автор завещания помнил, что раньше, давным-давно, в английском парламенте его называли "Робеспьером на коне", а многие французы, видя его, плакали от радости. Уже много лет тому назад от него отвернулись не только богатство и успех – все это сущая безделица в сравнении с тем, что его мелочный мир самооправдательных воспоминаний давно покинули гордость и достоинство. Остались лишь неутоленные обиды и ненужные вещи. "Мировая душа" скрылась в тени, из которой когда-то взошла звезда Наполеона Бонапарта.
А. Бауман
Примечания
{1}Для Англии эта война длилась с 1792 года, когда вместе с Австрией и Пруссией она составила первую антифранцузскую коалицию.
{2}Согласно Фонтенблоскому договору от 16 апреля 1814 года, Наполеону был предоставлен суверенитет над островом Эльба, присоединенным к Франции сенатус-консультом (постановлением Сената) от 26 августа 1802 года, а в 1809 году переведенным в подчинение главному управлению департаментов Тосканы. Бывшему императору разрешили взять с собой один батальон своей гвардии (600 солдат), а кроме того, согласно статье 3-й, положили цивильный лист (ежегодную ренту) в размере 2 млн. франков, которые, к слову сказать, кабинет министров упорно не выплачивал из-за нехватки денег и надлежащего пиетета.
{3} В другом месте книги Эдит Саундерс называет Людовика ХVIII "великодушной персоной". Любопытно сравнить подобную непривычную для нас оценку с теми характеристиками, которыми наделяла данного государя советская историография. Вот, например, какой красочный портрет рисует Альберт Манфред, главный специалист советского марксизма по француз-ским революциям: "Тучный, одутловатый шестидесятилетний подагрик, в лучшие дни не умевший сесть на коня, вялый и ко всему равнодушный, этот монарх "божьей милостью", усаженный на трон с помощью иностранных штыков, был менее всего способен завоевать симпатии нации" (Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1998. С. 553). Евгений Тарле, историк на несколько порядков умнее и компетентнее своего процитированного коллеги, высказывается более миролюбиво: "Сам король, старый больной подагрик Людовик ХVIII, был человеком осторожным", – зато все эпитеты, сэкономленные на Луи, сполна опускаются на головы его родственников и приближенных: "но брат его, Карл Артуа, и вся свора эмигрантов..." (Тарле Е. В. Избранные сочинения в IV т. Т. II. Ростов-на-Дону, 1994. С. 366). Впрочем, и западная историография ХХ века не всегда безгрешна в оценке характера и убеждений этого монарха. Так, к примеру, в одной из работ английского историка Рональда Фредерика Делдерфилда, блестящего стилиста и проницательного психолога, не всегда, к сожалению, пренебрегающего устоявшимися условностями стереотипов, можно прочесть такой пренебрежительный пассаж: "Уставшая от войны страна была готова принять Людовика ХVIII, этого страдающего от подагры толстяка, хотя и навязываемого ей иностранными штыками" (Делдерфилд Р. Ф. Маршалы Наполеона: Исторические портреты. М., 2001. С. 365).
Однако не менее проницательный французский историк герцог де Кастри называет графа Прованского в третьем томе своего "Завещания монархии" "единственным политическим умом в королевской семье" (Duc de Castries. Le testament de la monarchie. T. 3. Les emigres: 1789-1814. Paris, 1962. P. 27). Лучшая же, вероятно, характеристика Людовика была дана другим французским историком – А. Мале, исполненная с той живой портретно-психологической точностью старой академической науки, какая ныне почти совершенно утрачена: "Было ли это естественной склонностью или результатом долгой и бездеятельной жизни в качестве претендента, но Людовик ХVIII боялся всяких деловых забот и избегал всякого труда. Физической неподвижности, на которую его обрекала подагра и изуродованные ноги, соответствовала некоторая оцепенелость духовной деятельности. Насквозь проникнутый сознанием законности своих прав, убежденный в божественном их происхождении, он намерен был неуклонно пользоваться ими и спокойно наслаждаться властью; трон был для него просто самым мягким из всех кресел. Политический режим, подобный английскому, Людовику ХVIII нравился в том отношении, что позволял царствовать, не управляя и возлагая на министров всю тяжесть деловых забот, – такой режим благоприятствовал его лени и дилетантским наклонностям. Какая-нибудь ода Горация или удачно переданная сплетня занимали его гораздо больше, чем заседание совета министров или выработка законопроекта.
С другой стороны, ясный и скептический ум короля, мало способный поддаваться иллюзиям, определенно подсказывал ему, что Францией невозможно управлять иначе, как на основе либерального режима, и он прекрасно понимал, что при малейшей попытке произвести какие-нибудь существенные перемены в учреждениях, созданных революцией, он ставит на карту свою корону с величайшим риском окончательно ее потерять. А в шестьдесят лет ему вовсе не хотелось снова начать цыганскую жизнь, бродя с одного места на другое – из Вероны в Митаву, оттуда в Хартвелл [Хартвелл – замок в 60 км от Лондона, где Людовик жил много лет. – А. Б.], Гент и т. д. Двадцать с лишним лет изгнания внушили Людовику ХVIII отвращение к такому бродяжническому существованию, и, по словам Тьебо, "он твердо решился умереть на престоле, и у него хватило ума и благоразумия, чтобы осуществить свое желание на деле". Такой монарх, если бы он был один и мог свободно следовать влечениям своей природы. вполне был бы способен дать Франции возможность постепенно пройти школу парламентского режима. К несчастью, он был не один, а стремление к спокойствию неоднократно заставляло его делать уступки резким выходкам окружавших его фанатиков и давлению еще более фанатической палаты, далеко не являвшейся точным отражением общественного мнения страны" (История ХХ века под ред. проф. Лависса и Рамбо. Т. 3. М., 1938. С. 89-90).
{4}Имеется в виду англо-американская война 1812-1814 гг., начавшаяся в результате торгово-экономической конкуренции двух стран, а также желания некоторых предприимчивых американских политиков сделать территориальные приобретения в Канаде. Американские войска одержали в ходе этой войны ряд значительных побед (на озере Эри (сентябрь 1813), на озере Шамплейн (сентябрь 1814) и др.), однако в августе 1814 года английский десант ухитрился захватить и сжечь большую часть Вашингтона. В итоге в 1814 году в Генте был подписан мирный договор, восстановивший довоенное положение.
{5}Имеется в виду Венский конгресс (сентябрь 1814 – июнь 1815) с участием представителей всех европейских держав, за исключением Турции. Целью и результатом конгресса стало восстановление и переделка государственных территориальных границ посленаполеоновской Европы и провозглашение коллективного принципа регулирования международных отношений. По меткому замечанию немецкого историка Э. Р. Хубера, Венский конгресс не был "мирным конгрессом в обычном смысле слова", а, скорее уж, "двойным конгрессом" (Doppelkongress), который не только урегулировал нерешенные территориальные вопросы, но и создал новое политическое устройство Европы (Huber E. R. Deutsche Verfassungs Geschichte seit 1789. Bd. 1: Reform und Restauration 1789 bis 1880. Stuttgart, 1957. S. 44).
{6}В начале ХIХ века Россия и Пруссия являлись наиболее близкими союзниками в Европе, на это же время приходится пик российской дипломатической активности в отношении государств "Священной Римской империи германской нации". Еще в конце ХVIII века "германская" дипломатическая политика России была названа "деятельной инфлюэнцией", такою она осталась и в следующем столетии. В конце 1800 года Пруссия вместе со Швецией и Данией вошла в организованную Павлом I т. н. 2-ю лигу нейтральных государств. В июле 1801 года, сразу по вступлении на престол, Александр I заявил в инструкциях российским послам: "Большая часть германских владетелей просит моей помощи; независимость и безопасность Германии так важны для будущего мира, что я не могу пренебречь случаем для сохранения за Россией первенствующего влияния в делах Империи" (цит. по: Искюль C. Н. Внешняя политика России и германские государства 1801-1812 гг.: Автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. СПб.: СПб. филиал Ин-та росс. истории РАН, 1996. С. 41). В том же месяце в рескрипте российскому послу в Париже С. А. Колычеву Александр говорит о "равновесии" в Империи, которое России надлежит поддерживать между Австрией и Пруссией при помощи своего союзника – Баварского курфюршества. Преемник Колычева, поверенный в делах Франции граф А. И. Морков, получает от царя следующие строки: "...сохранить преобладающее влияние России в делах Империи". Согласно российско-французскому мирному договору от 8 октября 1801 года и его секретным статьям, Россия признавалась гарантом "Священной Римской империи". Поэтому арест в 1804 году отрядом французских драгун бежавшего из Франции герцога Луи Антуана Энгиенского, произошедший на территории суверенного маркграфства Баденского, и последующая его казнь по сфабрикованному обвинению в заговоре на жизнь Первого Консула послужили причиной разрыва русско-французских отношений. Тогда же, в 1804-м, Александр собственноручно пишет "Декларацию России о совместных с Пруссией действиях по защите Северной Германии", а в 1805-м, вслед за англо-русской союзной конвенцией "О мерах к установлению мира в Европе", Россия заключает конвенцию со Швецией о совместных действиях по защите Северной Германии, построив таким образом своего рода систему коллективной безопасности в этом регионе. В 1805 году заключается русско-прусская союзная конвенция, в 1806-м она плавно перетекает в Бартенштейнскую конвенцию, которая в будущем предполагала государственное переустройство Германии в качестве "конституционной федерации" на основе союзнического паритета между Австрией и Пруссией. В противовес созданному Наполеоном Рейнскому союзу Россия и Пруссия предлагают создать Северогерманский союз во главе с Пруссией, что, впрочем, не было поддержано германскими государствами, справедливо опасавшимися стать праздничным десертом Фридриха Вильгельма III. В Тильзите Александр послал Наполеону, в числе прочих, дипломатическую записку, в которой прозвучали следующие слова: "Вопрос, интересующий меня превыше всего, – это восстановление короля Прусского в его владениях" (речь шла о "вознаграждении" Фридриха Вильгельма богемскими землями не присоединившейся к Бартенштейнской конвенции Австрии). Характерно, что большая часть статей заключенного в июне 1807 года Тильзитского мира была посвящена прусским и германским делам: так, этим мирным договором восстанавливался статус Данцига, восстанавливался суверенитет государей-родственников Российского Императорского дома – герцогов Саксен-Кобургского, Гольштейн-Ольденбургского (герцог Петер Фридрих Людвиг был родным дядей Александра, женатым к тому же на сестре императрицы Марии Федоровны) и Мекленбург-Шверинского. Александр признавал Рейнскую конфедерацию германских государств под протекторатом французского имератора, а Франция в свою очередь признавала право Пруссии на "вознаграждение" в случае уступки Ганновера Вестфальскому королевству. В конце 1811 года советник российского посольства в Париже граф Карл Нессельроде, будущий министр иностранных дел, представил Александру план, согласно которому Россия и Франция – союзники по Тильзиту и Эрфурту – гарантировали бы неприкосновенность Пруссии, а Франция в довершение всего сделала бы Пруссии еще ряд территориальных уступок. Александр одобрил план, и это зримое доказательство любви России к Фридриху Вильгельму кружилось на каруселях дипломатических переговоров вплоть до апреля 1812 года, когда союзники по Тильзиту и Эрфурту окончательно рассорились в пух и прах. Роман же России и Пруссии еще более укрепился, так что обе стороны пронесли свою негасимую, хотя и отнюдь не безоблачную, любовь через все баталии 1812-1814 годов (во время похода 1812 года рекрутированные Наполеоном пруссаки проявили крайне предосудительное рвение, объяснявшееся тем, что Наполеон пообещал Фридриху Вильгельму III весь Прибалтийский край) и в конце концов выплеснули эту любовь на головы англичан, австрийцев и французов в ходе Венского конгресса. (Подробнее об этом см., напр.: Искюль С. Н. Россия и германские государства (1801-1808 гг.). СПб., 1996). Впрочем, германские увлечения Александра вовсе не кажутся такими уж странными, если учесть, что ко времени описываемых событий русской крови в жилах российских императоров было – кот наплакал, зато почти в гордом одиночестве текла немецкая (если, конечно, отцом Павла I не был какой-нибудь Салтыков).
{7}Суть польской проблемы состояла в том, что король саксонский, он же великий герцог Варшавский, Фридрих Август сохранил верность союзу с Францией, вследствие чего был низложен и содержался в плену в Берлине, – а освобожденные им престолы оказались вакантными. К оставшимся беспризорными территориям немедленно протянулись энергичные руки держав-победительниц.
Пруссаки потребовали полного восстановления границ 1806 года (т. е. до знакомства Пруссии с аппетитами Наполеона), а стало быть, возвращения им большей части великого герцогства Варшавского. Русские, напротив, уже считали этот кусок пирога своим: Александр I намеревался путем обмена германских и итальянских областей заполучить польские провинции, присвоенные Австрией в 1772 и 1795 годах и Пруссией в 1793 и 1795 годах, т. е. фактически аннулировать закрепленные Петербургскими конвенциями результаты трех разделов Речи Посполитой, и стать конституционным монархом Польского королевства, связанного личной унией с Российской империей.
Австрийцы требовали вернуть им Галицию, уступленную ими Наполеону по Шёнбруннскому миру 1809 года и вошедшую в состав великого герцогства Варшавского.
Однако, поскольку при российском дворе желание Александра даровать полякам их же собственные позаимствованные Россией провинции было встречено крайне недружелюбно, император придумал весьма остроумную комбинацию: будущей Польше отдать польские провинции Австрии и Пруссии, Пруссии отдать Саксонию, австрийцам же – ничего. Разумеется, это соломоново предложение мало кого устроило, и меньше всего – австрийцев.
{8}28 сентября 1814 года Александр I и Фридрих Вильгельм III подписали секретный протокол, согласно которому Саксония под именем Саксонского королевства отходила к Пруссии, а великое герцогство Варшав-ское под именем Царства Польского отходило к России. 8 ноября командующий русским оккупационным корпусом в Саксонии генерал Репнин объявил саксонцам о смене декораций, и 10 ноября прусские войска вступили на территорию королевства. 30 декабря князь Андрей Разумовский огласил новый русский проект, по которому Пруссия получала Саксонию и вдобавок Познань, Россия – остальную часть великого герцогства Варшавского, а саксонский король перемещался на Рейн с приобретением Трира, Бонна и Люксембурга. Этот новогодний геополитический рецепт стал последней каплей, и к французам, недовольным своей жертвенной участью, и австрийцам, плотоядно облизывавшимся одновременно на Галицию и на Папскую область, прибавились также англичане, опасавшиеся, что обосновавшийся на берегах Рейна саксонский король поможет Франции проглотить Нидерланды. Поэтому, руководствуясь извращенной и безотказной дипломатической логикой, англичане, дабы не допустить усиления французов на севере, выступили в их поддержку, и 3 января 1815 года был подписан австро-франко-британский секретный договор, поучаствовать в котором приглашались также Бавария, Голландия, Ганновер и Сардиния. Согласно этому договору, в случае чьих-нибудь враждебных военных поползновений (нетрудно догадаться, чьих!) каждая из сторон обязывалась выставить по 150 000 чел. "с полнейшим бескорыстием".
{9}Пиренейская война – военные кампании 1807-1814 годов на Пиренейском полуострове, одно из южных "направлений" наполеонов-ских войн. В британской историографии эта война обозначается выражением Peninsular War ("peninsula" – по-английски "полуостров", "the Peninsula" – "Пиренейский полуостров"), которое при желании можно перевести даже как "Полуостровная война"; Дэвид Чандлер, один из крупнейших исследователей наполеоновских походов, именует весь этот букет военно-политических коллизий "Иберийскими интригами".
Причиной Пиренейской войны, помимо естественного территориального аппетита Бонапарта, стало постоянное нарушение Испанией и Португалией "Континентальной блокады" Англии, объявленной Наполеоном в 1806 году, поскольку экономика этих двух стран в значительной мере держалась на продаже англичанам мериносовой шерсти и ввозе дешевых английских машинных фабрикатов. Пресечь эти торговые связи с моря было невозможно, т. к. английский флот господствовал в Бискайском заливе, Средиземном море и Атлантическом океане. Поэтому в октябре 1807 года 27-тысячная французская армия под командованием генерала Андоша Жюно двинулась через испанскую территорию на Португалию, а в конце ноября французы вступили в Лиссабон. Настала очередь Испании. 4 декабря 1808 года французские войска уже торжественно вступали в Мадрид, однако отчаяннейшее сопротивление, которое оказали испанцы, заставило наполеоновские армии увязнуть в Испании на долгие годы. Регулярные части Бонапарта, состоявшие из хорошо вооруженных и обученных солдат, так в конечном счете и не смогли победить астурийских крестьян, сьерраморенских пастухов и каталонских ремесленников, которые едва ли менее беспощадно терзали и трепали французскую армию, нежели знаменитые своей героической кровожадностью партизаны Полесья – войсковые соединения вермахта. Одними только убитыми французы потеряли в Испании 68 000 чел., при 62 000 погибших испанцев (не считая умерших от эпидемий во время осады Сарагосы и других городов) (Урланис Б. Ц. История военных потерь. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил Европейских стран в войнах XVII-XX вв. (историко-статистическое исследование). СПб., 1994. С. 90). Оттого-то столь прочувствованы слова Наполеона, сказанные им на Святой Елене с чувством глубокого и неподдельного реализма: "Меня доконала испанская язва!"