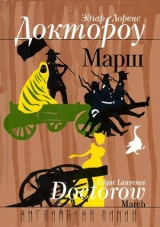
Текст книги "Марш"
Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
VIII
Мокрые и несчастные, они стояли на угловой башне форта, дождь хлестал по их плечам, со шляп вода струями лилась за шиворот.
Ч-черт, – сказал Уилл, – я им чуть было не сказал, кто я на самом деле.
Ага, – проговорил Арли, – что мы, переодетые, скрывались и только того и ждали, когда придут свои. Всеобщий восторг, объятия, поцелуи.
Конечно, а так опять мы из-за тебя в заднице! Не станешь же ты говорить, что наше положение лучше, чем у тех бедных янки, которых нам приказано стеречь? Едим те же помои. Должны стоять тут под дождем без крыши над головой в точности как и они. Так в чем же, черт возьми, разница?
Уилл, малыш, ты не понимаешь!
А он еще и револьвером мне в башку тыкал, требуя клятвы в верности опять своим же! Как будто я – это уже и не я. Неудивительно, что их доверие к нам не идет дальше того, чтобы позволить нам здесь без толку мокнуть.
А ты бы что на их месте сделал? Нельзя же верить человеку, который принес присягу, когда ему приставили к виску револьвер!
Что ж, зато ты опять среди своих. Ты же хотел этого. Я как-то не заметил, чтобы ты воспылал к синему мундиру такой уж любовью.
А что? Надо было мне сказать: капитан, я такой же конфедерат, как и вы. Меня зовут рядовой Уилл Б. Киркланд из Двадцать девятого пехотного полка Армии Северной Каролины. И не надо мне револьвером в башку тыкать.
Ага. Так бы тебе это и сошло!
Да запросто. Нам были бы рады и пристроили бы на теплое место.
Да он несколькими вопросами все бы вызнал – в том числе и об отсидке в милледжвильской тюрьме за то, что ты из этого твоего Двадцать девятого полка драпануть пытался! Да еще всплыло бы, что я в боевой обстановке спал на посту.
Так нас же тот генерал простил!
Ну конечно, и у тебя есть бумага, чтобы это подтвердить. Боже, ты меня слышишь сквозь этот проклятущий дождь? Я стою здесь с мальчишкой, который думает, что армию на войне можно уговорить, доказать ей что-то. Он думает, что солдат – это нечто большее, чем форма, которая на нем надета! Он не понимает, что наша жизнь, наше время безумно. Боже, Ты ведь это знаешь не хуже меня, потому что ежу понятно: это не тот мир, который творил для нас, грешных, Ты, Господи!
А помнишь, ты говорил, что у Бога насчет нас какие-то особые намерения; сдается мне, пока они что-то не воплощаются.
Уилл, мальчик мой, мы живы! А почему? Да потому, что не стараемся быть только тем, чем кажемся на первый взгляд. Не пытаемся какому-нибудь тупоголовому капитану повстанцев напрягать мозги до тех пор, пока они у него из ушей полезут. А то начнешь его грузить сказками, он рассвирепеет и застрелит нас как лживых собак. Мы были похожи на федералов, этого ему достаточно. Да мы ими и были. А теперь уже – не-ет!
Эт-точно!
Да, здесь мокро, холодно – ноябрь, ночь, – и жрать охота, но мы живы, и положение у нас все-таки чуточку лучше, чем у тех, что ежеминутно падают мертвыми в каждом штате Конфедерации. А то, что живы мы благодаря способности свернуть с прямого пути то в одну сторону, то в другую, ориентируясь по обстановке, показывает, что есть, есть в нас нечто, какой-то дар Божий! Да вообще я чувствую в этом Божий Промысел, и мне жаль, что ты этого не видишь. Я буду молиться, чтобы Он не наказывал тебя за неблагодарность. А еще за то, что вечно ты во всем обвиняешь меня.
Милое дело, их поставили на два через четыре, но вот уже и небо побледнело, а смены все нет! Дождь перестал, задул ветер, будто раздувая рассвет. Внизу показался лагерь – раскисшая, лишенная растительности грязная плешь с ручейками болотной воды, текущими прямо сквозь стены форта. Пленные, не имеющие для укрытия даже шляп, выбирались из залитых водой земляных нор, где они спали. С первыми лучами холодного солнца все были на ногах, повылезали, стояли, скрючившись, дрожа и пританцовывая на месте. Кашель, то одиночный, то целыми залпами раздававшийся в их толпе, бил Уиллу в уши как ружейная пальба. Все поглядывали на кухонный барак, но там даже дымок над трубой не вился.
За дальней стеной форта сквозь сосны виднелась река, быстрая и вспухшая от затяжных дождей.
И вонь – в то утро вонь стояла в лагере хуже обычного: воняли открытые сортиры, да и с похоронной траншеи, вырытой как раз под их постом и кое-как забросанной землей, дождь смыл всю верхнюю присыпку. Там и сям торчали тела. Чтобы не смотреть, Уилл повернулся в другую сторону, пытаясь сквозь всю эту гадость уловить запах соснового леса. И тут увидел охранников, которые бежали с фонарями и собаками.
Вскоре пленных федералов – промокших, грязных, истощенных так, что от них оставалась кожа да кости, – построили на дороге и погнали в городок Миллен на железную дорогу. В колонне было больше тысячи человек, и у некоторых хватало сил и присутствия духа, чтобы роптать – зачем это нас, дескать, вывели из лагеря и гонят в Миллен? Через каждые двадцать ярдов вдоль колонны шагали охранники с винтовками, некоторые еще и с собаками. Арли, шедший ближе к голове колонны, стал понемногу отставать, пока не поравнялся с Уиллом. Ни по какой железной дороге мы никуда не поедем, – сказал он. – Ты слышишь меня?
Слышу.
Там, куда они приедут, жрачки будет еще меньше. Смотри на меня и делай как я, – прошептал Арли.
Ну вот, опять двадцать пять! – отозвался на это Уилл.
У дебаркадера стоял длинный состав из товарных вагонов с двумя паровозами, которые пыхтели котлами, со свистом выпуская струи пара и густой черный дым. Когда вагон заполнялся, дверь задвигали и запирали. Некоторых пленников, которые уже не могли ходить, заносили в вагоны на плечах их товарищи. Арли, по пятам за которым следовал Уилл, стал переходить от вагона к вагону в хвост поезда, будто бы для того, чтобы удваивать охрану каждый раз, когда подошло время закрывать двери. Вид у Арли при этом был самый деловой: мушкет на изготовку, прищуренным глазом – зырк! – а ну, кто там бежать собрался?! Так они добрались до последнего вагона, и, выбрав момент, когда офицеры спешились и стали совещаться, разглядывая вынутые из планшетов карты, Арли и Уилл, быстренько обогнув последний вагон, забежали за угол пакгауза.
Тут им опять открылась река. Все та же река Огичи, около которой располагался лагерь. На дальнем берегу стоял отряд федеральной кавалерии, беспомощно наблюдая за погрузкой. Наконец паровоз свистнул, вагоны лязгнули, поезд пошел.
Надо будет когда-нибудь, – сказал Уилл, – сходить к этому, как они там называются-то? – ну, которые ширину лба мерят и длину носа, как их?
Хрю… Фрю… Френологи, – блеснул ученостью Арли.
Во-во. Прийти к такому и спросить… ну, то есть если я по какой-нибудь странной случайности в живых останусь – что у меня такое с башкой, что я слушаюсь тебя, в какую бы новую передрягу ты нас ни впутал.
Да нормальная у тебя башка, – сказал Арли. – Здравый совет от подставы отличаешь, если тебе, конечно, хорошо объяснить.
И вот они уже опять в лагере, пустом за исключением двух-трех умирающих пленников в колодках да нескольких уже умерших этой ночью. Арли разделся, увязал мокрую форму конфедерата в комок и бросил в выгребную яму. Показывая Уиллу, что делать дальше, вывозился, голый, в грязи, да еще и в волосы себе горстями напихал мокрой грязи. Затем переоделся в тряпки, которые снял с одного из трупов. Попрыгал, поприседал и забегал, вопя и завывая.
А это еще зачем? – удивился Уилл.
Так ведь холодно же, идиот чертов! – окрысился Арли.
Через час в Миллене уже хозяйничала федеральная пехота. На территорию форта отрядили подразделение черных саперов – уложив мертвых в канаву, они с лопатами в руках забрасывали братскую могилу землей. Офицеры осматривали кухонный и больничный бараки, деревянные колоды с цепями. Выглядывая из санитарной повозки, Уилл диву давался, какой гнев все это вызывало у северян. Бровки хмурят. Кулачки сжимают. Ругаются. Ходят туда-сюда, головами качают. Под выданным ему теплым шерстяным одеялом он все еще дрожал. У Арли тоже зубы стучали, но на лице его было спокойствие и удовлетворенность.
Лагерь тем временем готовили к сожжению. Солдаты бегали вдоль стен форта, поливали их керосином и поджигали. Вскоре и бараки занялись, окутавшись тяжелым черным дымом. Когда санитарный фургон, удаляясь, въехал на пригорок, Уилл с Арли увидели, что и над поселком тоже клубится дым. Янки решили сжечь все, что носило название Миллен.
Мулы бежали резво, ехали они, ехали, и тут Арли обратил внимание, как мягок ход повозки. Надо же, – удивился он. – Глянь-ка! У них дрожки-то на пружинном подвесе! Черт, надо бы и у нас такой обычай завести.
Больничный шатер, куда их привезли, стоял в сосновом лесу, среди других армейских палаток. Их уложили на походные койки, укрыли шерстяными одеялами, да еще и подушки настоящие дали. Через какое-то время полог отодвинулся и, к несказанному удивлению Уилла, в шатер вошла женщина в белом халате. К ее волосам была пришпилена федеральная армейская фуражка. Доброе утро, джентльмены, – сказала она, и в тот же миг стены шатра осветило утреннее солнце. Перед койкой Уилла она встала на колени, приподняла ему голову и поднесла к его губам чашку с бульоном. Он заглянул в ее голубые глаза, и она ему улыбнулась. За всю свою жизнь он не видел женщины прекраснее. Ее ладонь приятно грела ему затылок. На глаза ему навернулись слезы благодарности, как будто он и впрямь был освобожденным узником того недоброй памяти лагеря военнопленных.
На соседней койке Арли с ухмылкой во весь рот приподнялся на локте, чтобы удобнее было наблюдать эту сцену.
IX
Вильма Джонс так привыкла обо всех заботиться, что и во время Марша к Свободе легко нашла, где себя применить. Старик негр, называвший ее доченькой, был глух как пень и, разговаривая с нею, всегда кричал. Упасть направо ему не давала трость, упасть налево – Вильма, которая его поддерживала под локоть. На нем было вытертое пальтецо без рукавов, но торчащие из него костлявые старческие руки были длинны, мускулисты и цепки. Его рука стискивала ее ладонь с силой, которой хватило бы на десятерых. Этот старый раб сильно хромал, но сбежать от него было невозможно. Лысый, в натянутой на голый череп шерстяной шапке и совершенно беззубый, со старинным выжженным на щеке клеймом. Но он шел! И даже не спотыкался! Подобно большинству старых людей, он не обращал внимания на косые взгляды. Она же качала головой и усмехалась. Старик напомнил ей судью. Такой же требовательный, он не позволял ей ни на минуту отвлечься, как будто у нее не было своей жизни. Только судья Томпсон никогда не называл ее доченькой, на это у него имелась мисс Эмили.
Петь песни в толпе перестали, женщины крепче прижали к себе детей. Насыпь была узкая, из подступающей к ней по обе стороны густой и неподвижной болотной жижи под разными углами торчали мертвые стволы деревьев. В воздухе стояло зловоние, через дорогу клочьями переползал туман.
Когда подошли к руслу, поступил приказ отойти подальше от берега; их место заняли солдаты, навели понтонный мост. Вильма огляделась. Толпа освобожденных рабов все разрасталась, и теперь всем нужно было ждать, пока пройдут войска. С противоположного берега реки за перемещениями наблюдали несколько офицеров кавалерии. Сидели верхом, с места не двигались. Среди них был генерал – золотые галуны, эполеты… Эффектный до невозможности. У Вильмы появилось дурное предчувствие. Да и историй всяких наслушалась. Повстанцы ведь идут за ними по пятам. Хватают отставших негров, расстреливают или вновь обращают в рабство.
Река разлилась, течение быстрое. Ничего не поделаешь – пока вся армия не перейдет, с места не двинешься! Дивизия за дивизией мимо них проходили и проезжали войска, тащили лафеты, зарядные ящики, нахлестывали мулов. Доченька, – закричал ей старик, – почему мы не переправляемся? Вильма перебежала насыпь, остановила офицера. Мамаша, – сказал тот укоризненно, – мы ради вас такую войну ведем! [6]6
На самом деле вряд ли ради них. Своей прокламацией об освобождении, обнародованной лишь через полтора года после начала войны, Линкольн объявил свободными негров только на тех территориях, которые не контролируютсяфедеральными войсками. На условном Севере у Линкольна были и свои, неотколовшиеся рабовладельческие штаты. Война велась не за свободу негров, а за контроль центральной власти над экономикой, и в первую очередь над торговлей хлопком. Уже во время войны (25 июля 1861 г.) Конгресс США официально объявил, что война ведется для сохранения целостности Союза штатов, а не ради запрещения рабства.
[Закрыть]От вас же только и требуется: не путайтесь под ногами!
Некоторые женщины и дети уже плакали. Чувствовалась какая-то перемена – вот хотя бы небо взять: потемнело оно, что ли? Солдат мимо проходило все меньше, меньше, и наконец последние перешли мост. Толпа устремилась вперед, Вильма вела старика за руку. Но тут вдруг вой пошел по толпе. Вильме, конечно, этого видно не было, но тросы, на которых держался понтонный мост, оказывается, обрубили, и мост поплыл от берега. Солдаты на другом берегу тащили за веревки, подтягивали понтоны к себе.
Люди не знали, что делать. Кто-то кричал: Южане идут! Вильма пыталась не поддаваться панике, но старик тянул ее к реке. Я свободный человек! – кричал он. – Я свободный человек! В какой-то момент она не смогла его удержать, и он прыгнул прямо в воду. Вокруг люди кричали, молились, всуе поминали Господа. Бросались в реку и пытались переправляться вплавь. Вильма видела, что некоторые черные саперы кидают с того берега бревна и сучья, чтобы пловцам было за что ухватиться. Но старик не умел плавать. Он лишь махал палкой в воздухе, оступался, падал, скрывался под водой, снова появлялся и вновь махал в воздухе палкой. Женщины сажали детей себе на головы и пробовали переходить вброд. Мужчинам как-то удалось соорудить плот из бревен, кусков брезента, женских юбок и одеял. Потом саперы перебросили через реку веревку, после чего установилось некое подобие порядка: людей перевозили на плоту по четыре-пять человек за раз. Но те, что скученной толпой ждали на берегу, были вне себя от страха. Им казалось, они уже слышат, что приближаются инсургенты, едут по насыпи, и негры не могли справиться с нетерпением. Сжимая в руках узлы и чемоданы, прыгали в воду.
В результате Вильма все же оказалась на плоту. Но на середине реки его течением дернуло и перевернуло. Отфыркиваясь, она вынырнула и тут почувствовала, что кто-то помогает ей, тянет за руку. Ну наконец-то, она почти на берегу, вода стекает с нее ручьями. Сильный черный мужчина одной рукой поднял ее из воды. Дрожа, она села на землю. Те, кому удалось переправиться, бегом бежали за армией. А на другом берегу еще человек сто или даже больше темнокожих все еще стояли у кромки воды, застыв от страха. Женщины и плачущие дети. Послышались выстрелы, и Вильме показалось, что какие-то люди на лошадях подъезжают к ним с насыпи.
Вот, возьмите, мисси, – сказал мужчина, который спас ее. Он набросил на нее одеяло. – Лучше не мешкать. Бог дал этим людям свободу, но это еще не все. Идемте. Мужчина был высокий, стоял в расстегнутом форменном кителе, потрепанных штанах и босиком. Взял Вильму за руку, помог ей подняться и повел по дороге. Она все оборачивалась, смотрела назад, пока русло реки не скрылось из глаз. Лишь крики долетали до них из-за реки и терялись, затихали в лесу.
X
Перл навсегда запомнила ту ночь, когда она увидела убитых солдат. Их тела, лежащие на залитой голубоватым лунным светом земле. Двенадцать – как двенадцать поверженных статуй. И лейтенанта Кларка, с удивленным видом глядящего в никуда. Она спряталась на краю поля и смотрела, как местные жители подъехали на телеге. Несколько белых и два негра – чтобы было на кого взвалить черную работу. Они грубо побросали тела на телегу, словно это куски говяжьих туш. Вслед за телегой Перл дошла до кладбища и из кустов смотрела, как, орудуя кирками и лопатами, там роют могилу. Рыли и непрестанно озирались, не видит ли кто. Мертвецов хоронили всю ночь, только к рассвету закончили.
Перл неостановимо била дрожь. Стучали зубы. Глянула, чт оу нее в руке, оказалось – его письмо. В первых лучах утреннего света луна побледнела, поле из черного сделалось серым, и Перл поняла, что лучше ей отсюда уходить. Опушкой леса обогнула городок, вернулась на дорогу, по которой они приехали, и прямиком к тому дереву у дороги, где она спрятала свой китель и фуражку. Вновь она закатала платье до пояса, вправила его в штаны и опять сделалась мальчишкой-барабанщиком. Теперь хотя бы есть карман, куда положить письмо.
Не зная, что делать дальше, Перл прислонилась к дереву спиной, села и стала ждать.
Разбудило ее мычание коров. День был в полном разгаре, мимо шла армия – гуртоправы гнали коров и коз, ездовые криками погоняли мулов, солдаты с винтовками на плечах строем шли по обочине, тучей вздымая пыль.
Перл встала и вышла из укрытия. Солдаты оглядывались, улыбались ей, иногда на ходу что-то говорили. Или вдруг проезжающий на коне офицер посмотрит на нее сверху вниз, но останавливаться – нет, останавливаться никто и не думал. Она искала глазами возницу того фургона из ее роты, который успел развернуться, когда началась стрельба. На четырехколесной повозке, груженной награбленным барахлом, проехали какие-то два ряженых мародера – во фраках и цилиндрах. Нет, эти не из ее прежней компании. Едут, хохочут. Увидели ее, один полез в мешок, достал сладкую картофелину, кинул ей.
Она поняла, что лейтенант Кларк и его солдаты пали не в битве. Если они пали в битве, зачем тогда местные хоронили их тела в такой спешке! Нет, сперва была тишина, а потом она услышала залп, видела кровавый след до самых ворот тюрьмы, а главное, видела, что солдаты лежат шеренгой, как их выстроили для расстрела. И они безоружны.
Этим нужно было с кем-то поделиться. Но она все еще не была уверена, что научилась говорить как белые, а если будет говорить как дома, то все поймут, что она не тот, за кого себя выдает, она не белый мальчишка-барабанщик. Как жаль, что нет с нею больше ее учителя лейтенанта – теперь, когда он ей так нужен! В тот момент, когда она решила, что не скажет никому ни слова, перед ней на дороге вдруг выросла фигура офицера с золотыми галунами. Она вскинула руку к козырьку. Его огромный гнедой конь фыркнул, закинул голову, попятился и заходил кругами. Какого черта, – заорал офицер, а Перл все стояла перед ним, держа пальцы у козырька.
Успокоив коня, офицер обратил взгляд на Перл. Ты откуда тут взялся, парнишка? Почему не со своей ротой?
Все мертвые.
Что ты сказал?
Они… типа… Я в смысле… они… эт-самое…
Ты что там мнешься? Говори уже!
Они – ну… как его…
Что они?
Погибли.
Ты что, не знаешь, как надо обращаться к офицеру?
Я знаю.
Я знаю, СЭР!
Вот я и говорю, сэр.
Опусти руку и стой смирно! Черт бы их взял, – сказал офицер другому, остановившемуся рядом с ним. – Теперь он плачет! И как прикажете таких вести в бой?
В тот момент мимо проезжал еще один офицер верхом на маленькой лошаденке, чуть ли не пони, его ноги свисали и почти волочились по земле. У него был совсем не военный вид, запыленный френч наполовину расстегнут, шея повязана платком, на голове старая помятая шляпа, а во рту окурок сигары, торчащий из рыжей, тронутой сединой бороды. Перл навсегда запомнилось это ее первое впечатление от генерала Шермана – выправкой и одеждой он совсем не походил на бравого офицера, и она никогда бы не восприняла его в этом качестве, если бы не почтительность, с которой встретил его красивый и важный дядька, сидящий высоко над ним на огромном гнедом скакуне.
Генерал же на своей маленькой лошаденке был практически на уровне ее глаз. Надо же, какой симпатичный у нас солдатик, – сказал он. – Ты хороший барабанщик, а, сынок?
Перл кивнула.
Нужна большая смелость, чтобы пойти в армию и воевать за свою страну. Барабанщики ведь попадают под огонь, как и все мы, не правда ли?
Да, сэр!
Иногда мне тоже хочется заплакать.
Да, сэр!
А в чем у него проблема? – обратился он к офицеру на гнедом скакуне.
Генерал, он говорит, что потерял свою роту. Полагает, что его товарищи убиты.
А, так они были в авангарде, да, сынок? Вы проходили здесь вчера ночью?
Да, сэр. Да, генерал.
Стало быть, опять нам задала перцу кавалерия Уилера, – сказал Шерман стоящему рядом офицеру. – Должно быть, мы понесли потери.
Нет, генерал… сэр, – сказала Перл. – Когда убили моего командира, лейтенанта Кларка, сражение уже кончилось.
Больше Перл не могла сдерживаться. Заплакав навзрыд, она шла, держась за повод генеральской маленькой лошадки, и слезы бежали у нее по лицу. Через весь город Перл довела генерала с его штабом до кладбища, где и показала им свежую могилу.
XI
Шерман ходил в грубой солдатской одежде и делил все тяготы с простыми солдатами. Спал в парусиновой палатке, когда спал вообще. Его сопровождал единственный денщик, и лошадь в его распоряжении была всего одна-единственная, да и та – кляча, едва ли подходящая начальнику такого масштаба. С его стороны это было очень правильно: приходилось отдавать приказы армии, в которой не хватало всего самого необходимого, и делать это мог только человек, способный служить примером. Однако Моррисону, выпускнику Вест-Пойнта, служившему у него в штабе, вся эта простота казалась несколько наигранной. Моррисон не находил разумной причины, почему генерал – да не какой-нибудь политический назначенец, а профессионал, тоже выпускник военной академии в Вест-Пойнте, каким был Шерман, – не должен чем-то отличаться от своих подчиненных. Элегантность одежды и некоторая недоступность командующего, глядишь, и всей армии придала бы кое-какой дополнительный лоск! Люди сражаются, воюют – правильно, они доказали, что не даром хлеб едят! – но жесткое соблюдение субординации внушает подчиненным уважение, которое только возрастет, если ты не пренебрегаешь привилегиями, положенными по чину и должности. Уважение, а вовсе не любовь есть источник власти командира – уважение надежнее, да и долговечнее намного: в передрягах долгого рейда по тылам противника любовь-то и повыветриться может!
Кроме всего прочего, Моррисон чувствовал себя униженным. Лояльный адъютант, он выполнял работу офицера связи безупречно, ни одним движением лица не выдавая никаких чувств, кроме бесконечной преданности делу. Но он любил комфорт и не гнушался привилегий. Шерман специальным приказом запретил офицерам штаба пользоваться палатками на жесткой раме и лошадьми в количестве большем, чем две на человека. Из-за этого Моррисон вынужден был обходиться без удобств, без книг и без собственного повара. Как это так – из всей прислуги один денщик! Нет, он не жаловался, конечно, но все же иногда его задевало, что генерал, похоже, получает извращенное удовольствие, подвергая других тяготам, которые ему самому только в радость, но должен же он понимать, что с другими-то не всегда так!
Крепкий, краснолицый, рано начавший лысеть молодой офицер, при кажущейся солдатской дубоватости Моррисон был хорошим знатоком природы человека, и своей прежде всего. Он сознавал, что его приверженность к роскоши в полевых условиях есть слабость, а то и признак недостаточной мужественности, уверенности в собственной значимости в этом мире. И действительно, ему проще было держаться в тени, так как он считал, что Шерман не испытывает к нему расположения, а только терпит. Слишком уж они разные люди. О себе Моррисон твердо знал, что никогда бы не дошел до такого цинизма, чтобы по-свойски, запанибрата разговаривать с нижними чинами на марше, в то же время не испытывая никаких эмоций, когда две с половиной тысячи солдат вдруг погибнут, как, например, в битве при горе Кеннесо. Тогдашнюю реакцию генерала он наблюдал. Мимолетная досада (эх, не вышло!) и сразу увлечение новой стратегической задумкой.
Когда взяли Атланту, генерал делал вид, будто не принимает всерьез горы писем, восхищенные рукоплескания и всеобщее преклонение, доходящее до экзальтации. В его ответных письмах – как раз Моррисон и писал их под его диктовку – отражалась лишь невозмутимая честность и скромность, что было в совершенном противоречии с буйным восторгом, потрясавшим его душу, да и с явным чувством превосходства по отношению ко всем тем, кто присылал поздравления – не исключая, между прочим, президента. Как это мог определить Моррисон? Да запросто: по тону, каким генерал диктовал свои письма, по лукавой самодовольной усмешке после особенно элегантной витиевато-самокритичной фразы, по нетерпеливо быстрым шагам по кабинету этого генерала, который был так счастлив оттого, кто он есть, что едва сдерживал дрожь возбуждения, – действительно, трепет внезапно охватывал его и не прекращался, пока генерал с напускной скромностью не выходил из кабинета встречать очередного политика, пришедшего к нему петь дифирамбы.
И вот опять – очередной пример генеральского самодурства: ни с того ни с сего взял да причислил этого мальчишку-барабанщика к своему штабу. Да такого еще странного мальчишку-то! – он и говорит странно, и не делает ничего, только сидит и слушает на секретнейших совещаниях военного совета. Жалко, конечно, что лейтенанта Кларка убили, но разве значит это, что его барабанщика нельзя просто направить в другую роту?
Своими соображениями Моррисон поделился с полковником Тиком, прошедшим с Шерманом всю кампанию от самого Шайло.
Понимаете, Моррисон, – сказал Тик, попыхивая пенковой трубкой, – два года назад генерал не смог отлучиться в отпуск, и его домашние приехали из Огайо к нему сюда. Миссис Шерман с детьми… в том числе с сыном Уилли, – понизил голос Тик, словно это все объясняет.
Моррисон уже пожалел, что начал этот разговор.
В то время мы стояли в Виксбурге, – продолжал Тик. – А в разгар летней жары нет места хуже, чем Виксбург.
Моррисон ждал.
И его сын Уилли (с Севера мальчишка, не привык!) не выдержал, – после долгой паузы закончил Тик. – Грустная история. Какое отношение к войне имел этот мальчишка?
Как? Он что – умер?
Представьте! От брюшного тифа, – сказал Тик. – А с этим барабанщиком, чует мое сердце, что-то не так. Странный он какой-то, вот ей-богу! Но если и не делает ничего, все равно он нужен – пусть служит утешением несчастному отцу. Это же и к гадалке не ходи – ясно, что в сознании генерала Шермана он как бы заслоняет образ умершего сына. А мы ведь хотим, чтобы сознание генерала было ясным?
Разумеется.
Потому что не всегда оно ясным-то было, вот в чем закавыка, – пробормотал Тик и отвернулся.
Но ведь надо же разобраться! И полковник Тик потихоньку стал наводить справки. Оказалось, что в роте фуражиров погибшего лейтенанта Кларка никаких барабанщиков не числилось. Один барабанщик в его полку погиб под Милледжвилем, но тот юноша служил в пехоте. Наверное, Тик добрался бы до солдат, выживших в стычке под Сондерсонвилем, стал бы выяснять у них, но тут он сам доискался до истины, найдя ответ в загадочных карих глазах Перл, которые, стоило ему встретиться с ними взглядом, смотрели с вызовом, что совершенно нетипично для солдата, стоящего на самой нижней ступеньке армейской иерархии.
Да и в любом случае Перл не могла бы долго хранить свой секрет, тем более в суровых полевых условиях. Довольно скоро любопытство Тика, да и других штабных офицеров, было удовлетворено: этот странный, немногословный и несколько мрачноватый мальчишка оказался девушкой. А из всей окружающей обстановки, на фоне которой шла война, было ясно, что, как бы ни был светел цвет ее кожи, она не может быть белой. На этом этапе расследования у офицеров возобладала мысль, что от такой информации генерала Шермана надо оградить. Почти не совещаясь, разве что обменявшись понимающими взглядами, они пришли к решению не выдавать секрета Перл командующему. Денщику Шермана, сержанту Мозесу Брауну, вменили в обязанность следить за тем, чтобы ни командующий, ни кто-либо другой в армии не узнал правды, и он с заданием успешно справлялся. В те минуты, когда Перл занималась собой, он ограждал ее от ненужных взглядов. Однажды даже соорудил из веток что-то вроде шалаша на речке, чтобы Перл могла без помех выкупаться.
Все это Перл воспринимала как должное. Мозес Браун вел себя с нею очень церемонно, он ничем не выдавал своего отношения ни к ней, ни к полученному приказу опекать ее. Выдержанный и терпеливый, он свое дело делал на совесть. За это Перл была ему благодарна. В конце концов она прониклась к нему расположением сродни тому, которое дома испытывала к Роско. А вот к офицерам, между собою сговорившимся ее опекать, она особой благодарности не чувствовала. Все горевала по лейтенанту Кларку. Его письмо так и лежало у нее в нагрудном кармане. А в кармане брюк она хранила две золотые монеты, которые подарил Роско. Под кителем носила красную шаль с золотым шитьем. Это было всем ее достоянием. Что касается генерала, то она скоро поняла, что его ей следует опасаться меньше всех остальных. Ему нравилось следить, чтобы она хорошо поела, немногословность же ее он приписывал тому, что малый еще не оправился от тех ужасов, которых насмотрелся во время заварухи под Сондерсонвилем. Ну когда же ты мне скажешь, как тебя зовут, сынок? – бывало спрашивал он ее. А она лишь головой мотает. Ночами, лежа в своей маленькой палаточке, она частенько слышала, как он бродит по лагерю, не в силах заснуть. До нее долетал аромат его сигары и звук шагов – ходит, мерит шагами пространство между палатками, как караульный в ночном дозоре. Наверное, ночью ему лучше думается, – догадалась она. Днем же при первой возможности она старалась слушать, как он говорит, и про себя беззвучно проговаривала все слова, стараясь научиться говорить как белые. На марше генерал любил то заехать вперед, обогнав штабной фургон, то отстать до самого арьергарда. Везде его знали и дружно отзывались на приветственный жест командующего. В войсках у него было прозвище «дядюшка Билли», и однажды утром Перл порадовала генерала, когда в ответ на его «как дела?» сказала: Пасиб, дядюшка Билли, у меня усе путем.








