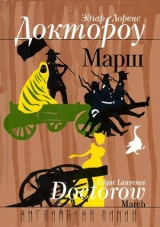
Текст книги "Марш"
Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Что касается почти поголовного пьянства, то его причиной было разграбление винокуренного завода на Ривер-стрит. Полковник это выяснил, проследив, откуда идут попадающиеся ему на пути пьяные с бидонами виски в руках. Поиски привели его к большому кирпичному зданию, окруженному погрузочными платформами, на которых валялись вусмерть упившиеся солдаты. Внутри народ был поактивнее. Завалили девушку-негритянку на пол и пустили по кругу. За другой погнались по каким-то лестницам, переходам, вот уже тащат, она визжит и отбивается. Из подвернувшейся бочки с бурбоном Тик восполнил запас виски во фляге и пошел своей дорогой.
В главном здании колледжа Южной Каролины свои амбулатории развернули три полковых врача. Но если бы их было даже десять, все равно бы они не справились с наплывом раненых и увечных. Еле удавалось поддерживать порядок в вестибюле, куда валом валили штатские и, тесня друг друга, требовали помощи. Главным образом белые горожане – с ожогами, вывихами, переломами. Кроме того, несколько федеральных солдат погибло и многих ранило взрывом. Дело в том, что Шерман приказал сбросить в реку главный в штате склад пороха и боеприпасов, но что-то там пошло не так. Раны этих людей были ужасны, и все хирурги занимались ими целый день.
Сбреде Сарториусу из армейского медицинского управления прислали двух санитаров в сержантском звании, так что теперь в операционной всем заправляли они, а Эмили Томпсон с Перл осталось только мыть окровавленные полы, собирать в мешки и уносить операционные отходы, стирать полотенца, подносить бинты и лубки и раздавать лекарства. По совету Эмили вдову Джеймсона Мэтти определили на работу в кладовую, где от худшего она была избавлена.
Когда неотложная помощь была всем оказана, в смотровой кабинет Сбреде Сарториуса по очереди стали пускать штатских. Их травмы не представляли для него большого интереса. По большей части горожане были в состоянии шока и замешательства. Он прописывал им чарку бренди или настойку опия слабой концентрации. Его раздражал поток испуганных людей, которому, похоже, нет конца и краю. В обязанности Перл и Эмили вменялось раздавать им солдатские одеяла, поить лекарствами и провожать на второй этаж, где пациентов укладывали в койки, поставленные в аудиториях.
Пожары бушевали весь вечер, и все больше народу обращалось к врачам. Сперва черные и белые ждали осмотра в разных комнатах. Но колледж мал, и к полуночи в коридорах сидели и лежали белые и черные бок о бок.
Пришлось реквизировать другие здания и на дополнительных площадях развернуть новые палаты. Из окна коридора Стивен Уолш увидел, что два здания колледжа охватило пламя. На крышах сновали люди, пытались сбить пламя одеялами. Он видел их силуэты на фоне неба. Что за дьявольщина? Н-да, дьявольщина, но явно не та, придуманная, о которой рассказывают священники и монахини. Их ад утешает. Своим существованием он гарантирует наличие рая. А эта дьявольщина, этот ад, мой ад – он ничего не гарантирует. Это жизнь, которая сама по себе невыносима.
Левая рука Уолша забинтована. Будто она окуклилась. Или сделалась осиным гнездом. На правой руке тоже бинты, но пальцы свободны. Обожжена только ладонь, хотя правая рука болит не меньше, чем левая. В бинтах он чувствует себя беззащитным. Хочется содрать их зубами. В любом случае утром он от них избавится и вернется в роту.
Что сказала санитарка, он не расслышал – такой стоял бедлам, в такой мощный хор сливались стенания и крики. Однако с виду она утонченная леди, поэтому он наклонил голову и сощурился, как бы показывая, что смотрит на нее так пристально лишь потому, что пытается читать по губам.
В гимнастическом зале, превращенном в приемный покой, пациентов было больше, чем коек, и люди лежали на дощатом полу, подложив под голову сложенные одеяла, или сидели, как он, прислонившись спиной к стене.
Но она с такой заботой вела его в кабинет, словно он у нее на каком-то особом счету. Взяв за запястья, подержала его ладони в тазике с холодной водой, потом наложила мазь. При этом склонялась к нему с таким видом, будто делает что-то очень интимное. Ее светло-каштановые волосы мелкими завитками падали по обе стороны лица и были так близко, а война – так далеко! Санитарка произвела на него неизгладимое впечатление. На марше ему казалось, что ничего хотя бы отдаленно напоминающего человеческую теплоту и близость не будет уже никогда.
У вас есть имя? – осведомилась она.
Стивен Уолш.
Она подняла на него взгляд. Глаза у нее были карие, с зеленоватыми искорками. Что такое, почему ее взгляд так бередит ему душу? А я – санитарка Джеймсон, – сказала она, как будто призывая его с этим поспорить.
Очень рад.
Вот и чудненько. Но вы уж постарайтесь больше не баловать с огнем, Стивен, – сказала она. И тут же рассмеялась.
Он все еще думал о ней. Особенности ее речи, естественность и простота, с которой она двигалась и держалась, позволяли сделать вывод, что санитарка Джеймсон на самом деле негритянка – цветная девушка, освобожденная из рабства и зачисленная в федеральную армию.
Это его не шокировало. Многие месяцы он шел по Югу, и существование бледнокожих негров уже не было для него открытием. В этом странном краю, где ужасающим обычаям следовали на протяжении многих поколений, рабы были уже не обязательно черными, бывали и белыми разных оттенков. Да, – думал он, – если Югу суждено победить, то в принципе рано или поздно должно наступить время, когда белый цвет кожи уже не будет гарантировать статус свободного человека. Кого угодно можно будет закабалить, сковать цепями и продать с аукционного помоста; а что до черной кожи, то цвет – всего лишь предлог, тогда как главное – сама идея рабовладения.
Но что-то еще было непонятно, неуловимо в этой мисс Джеймсон. Она говорила с ним нежным, воркующим голосом и словно немножко поддразнивала, а смотрела при этом такими глазами, которые, казалось, скажи он что-то не то, широко откроются в недоумении и ужасе. А та серьезность, с которой она подошла к лечению его обожженных ладоней, ее сосредоточенность и неторопливый, основательный подход к делу выдавали в ней девочку, которая лишь с недавних пор предоставлена самой себе.
И тут он поразился мысли: да ведь эта ослепительная красавица, несмотря на взрослую должность армейской санитарки, наверное, совсем еще ребенок!
Он вышел в коридор, где сновали люди, и стал бродить там в надежде вновь увидеть ее.
На исходе ночи на носилках в бессознательном состоянии доставили какую-то негритянку, и Эмили Томпсон позвали помогать. Одежда негритянки была порвана в клочья, на груди и руках синяки. Один глаз заплыл. Губа разбита. Ее уложили на стол и освободили от остатков одежды. Осмотрев ее, Сбреде решил прежде всего зашить разрыв промежности и приказал санитарам расположить ее в коленно-локтевом положении с опущенными плечами и головой.
Эмили приходилось одновременно держать фонарь и подавать Сарториусу инструменты. От ужасного зрелища подступала тошнота. Волосатые руки Сбреде были окровавлены, глаза смотрели сосредоточенно и жестко. Она искала в нем признаки хоть какой-то человеческой эмоции. Неужели сочувствие следует выражать только работой рук? Или окружающие о нем должны догадываться? Бог знает, какой ужас испытала эта девушка. Эмили даже смотреть в ее сторону не могла. Что же это такое! Даже самые потаенные уголки человеческого тела не могут укрыться от грубого вторжения рук врачебной братии! Впрочем, подумав, Эмили признала, что прогресс науки в целом полезен. Но как она ни убеждала себя, как ни боролась с собой, все равно ее до глубины души возмущала неугомонная мужская настырность. Она понимала: он старается спасти бедную женщину, но в уголке сознания все равно копошилась мысль о том, что Сбреде со своей наукой только добавляет ей унижения, длит насилие, учиненное над ней такими же, как он, мужиками-солдатами. Он не говорил ни слова. Как будто эта женщина не человек, а чисто хирургическая задача, не более.
Операция закончилась, один из сержантов вздохнул. Женщина умирала. Из ее горла исходили ужасные звуки. Не успели перевернуть ее, как она судорожно напряглась и окончательно затихла.
Сбреде покачал головой, жестом показал, чтобы убрали тело, сбросил фартук и, едва глянув на Эмили, вышел. Тем самым он как бы показывал, что смерть – не то состояние, которое может его интересовать, и его помощница осталась с открытым ртом, в совершеннейшем шоке.
Эмили убежала на верхний этак, где были огромные окна с широкими подоконниками. Села на подоконник, пытаясь восстановить самообладание. Говорила себе: человек просто перетрудился – ведь он прекрасный доктор, а работать приходилось в полевых условиях неделями без отдыха. У него напряжены нервы, да и как же иначе? Каждодневный груз ответственности кого угодно доведет до срыва. Но следом за этой явилась другая мысль, которую ей пришлось приписать теперь уже своей усталости после многих часов непрестанной работы и пережитого ужаса от городского пожара. Суть ее была в том, что Сбреде Сарториус, мужчина, которому она отдала себя, не врач. Он заклинатель трупов, шаман вуду, маг, замысливший пересоздание тварной вселенной.
А на дворе, освещенном сполохами огня в ночном небе, собрались люди, внезапно ставшие бездомными. Сквозь их скопище еле пробивались армейские санитарные повозки. В этой толчее взгляд Эмили иногда натыкался на женщин, настолько знакомых по облику и манерам, что ей иногда казалось, будто она их знает лично. Осанка выдавала в них аристократок. Они прижимали к себе детей и спокойно ждали, не обращая внимания на нервозность и суету вокруг. То были женщины ее класса; в среде им подобных она вращалась всю жизнь. И вот они все потеряли.
О Господи, – прошептала она. – Почему я не там, не с ними?
Психиатрическая лечебница тоже сгорела, и некоторые ее пациенты были доставлены сюда, в колледж. Напуганные, они бродили по коридорам – все, как водится, с длинными растрепанными волосами и в грязной, вонючей одежде. Не понимали – где? что? куда? Стонали и завывали. Тех, кого смотрителям удавалось поймать, врачи начиняли снотворным. Для восстановления порядка даже вызвали войска. Когда психов позагоняли в подвал, они там устроили такой гвалт, что крики слышны были на этажах. Пациенты, дожидавшиеся, пока ими займутся, бросали испуганные взгляды на военных врачей и санитаров, ища у них подтверждения, что есть все же в мире цивилизация, есть еще все же культура, не все сплошной пожар, безумие и смерть.
Мэтти Джеймсон гладила и складывала полотенца в бельевой, где было сравнительно спокойно: за тяжелой дверью, в слепом отростке коридора. Как это часто происходит с теми, чьи руки заняты простым механическим трудом, в мыслях она была далеко. Склонив голову набок, с улыбкой на губах, она пребывала в Филдстоуне зимним вечером одного из первых лет ее брака, когда у Джона не было неотложных дел, заставлявших его надолго уезжать, и они наслаждались уютом ее горницы, шторами отгородившись от ночной непогоды и разведя жаркий огонь в очаге; сидели в креслах, читали. Им даже не нужно было говорить, так они были близки, так хорошо друг друга понимали. И вот теперь она как бы снова была молодой женщиной с упругим телом, тайно гордящейся тем, как Джон к нему ненасытен. И хотя родила ему уже двоих сыновей, все еще была почти столь же гибкой, как и в невестах. И ничего она от жизни не хотела, лишь был бы ею доволен этот сильный мужчина, который, как ей казалось в жаркие моменты радостей супружества, который… ах, я теряю нить… который… – да, несомненно: он произошел от льва!
Скорбь Мэтти по утраченному счастью вкупе со страхом за жизнь сыновей привела ее в конце концов в состояние не лишенной приятности постоянной сонливости, поэтому, когда суматоха в здании привлекла ее внимание, она показалась ей полной ерундой, с которой можно обойтись примерно так же, как с внезапно заплакавшим во сне ребенком.
Эмили Томпсон возвращалась в операционную с уже готовым решением и лишь проговаривала про себя то, что должна сказать Сбреде Сарториусу, но ее отвлекла Мэтти Джеймсон – та бродила среди пациентов, склонялась к ним, садилась перед ними на корточки, касалась лба страждущего ладонью и говорила с каждым мягко и успокоительно. Эмили остановилась в недоумении.
От Перл она слышала кое-что о жизни на плантации Джеймсонов и, подобно Перл, привыкла уже смотреть немножко покровительственно на эту женщину, которая каждый раз, как увидит Эмили, неизменно говорит одно и то же: Вы случайно не дочь судьи Томпсона из Милледжвиля? Да тут и без слов ясно: умственный уровень Мэтти Джеймсон как раз на уровне ситуации, в которой она оказалась. А теперь еще военная действительность вдруг встала дыбом и заслонила от нее источник ее скорбей.
Как это все удивительно! Однажды на бивуаке Эмили попросила Сбреде посмотреть Мэтти. Он посмотрел, и они потом обсуждали ее состояние. Это деменция, – сказал он. – Однако, если бы ты заглянула в ее мозг, я уверен, ты не нашла бы там никакой патологии. При некоторых душевных болезнях – да, производишь аутопсию, и все как на ладони: пожалуйста, срисовывай поражения. Бывают кристаллизовавшиеся наросты. Гноящиеся опухоли. Ты видишь изменение цвета, рыхлые желтые отложения, узкие борозды разъеденной ткани. Но бывают болезни, когда никаких таких признаков нет вообще – соматически мозг в порядке.
Эмили тогда сказала: Значит, это не мозг, а ее сознание повредилось?
Сознание – это работа мозга. Оно не существует само по себе.
Тогда, значит, душа, наверное, затронута!
Сбреде посмотрел на нее с сожалением. Душа? Поэтическая фантазия, причем совершенно беспочвенная, – сказал он, словно жалея, что ему приходится ей это объяснять.
Наблюдая за Мэтти, Эмили видела, как та идет по коридору, забитому пациентами – со всеми заговаривает, каждому улыбается, – потом завернула в какую-то комнату и исчезла из глаз. Что она делает? Эмили пошла за ней и обнаружила ее в аудитории, переделанной во что-то вроде гостиной. Газовое освещение здесь было притушено. Несколько кресел заняты пациентами, которые сидели с безутешным видом, опустив головы. Одна стена была зеркальной. В углу пианино – оно-то и привлекло взгляд Мэтти. На вращающемся табурете за ним сидел пожилой мужчина и читал Библию, но вдруг почувствовал ее присутствие сзади. Крутнувшись на табурете, заметил, с каким восторгом она смотрит на пианино. И сразу встал.
Мэтти села и уставилась на клавиатуру, как смотрят пианисты, видящие в ней целую вселенную. Затем положила пальцы на клавиши и начала играть. Это был вальс Шопена, и хотя Мэтти исполняла его неуверенно и робко, чувствовалось, что она полностью отдалась иллюзии, будто она дома за своим концертным «бёзендорфером».
Эмили не знала, что это именно Шопен, но то, что она слышала, определенно было живой и очень красивой музыкой. Музыка пробудила в ее душе воспоминания о мирной жизни. Сначала это было как обвал, чуть ли не шок. Потом, по мере того как Мэтти Джеймсон все более осваивалась и музыка становилась смелее и разливалась шире, мысли Эмили стали возвращаться к принятому решению. Она смотрела на отражение своего лица, слабо подсвеченного мягким сиянием газовых рожков. Неужели ни у кого из нас нет души? Что же тогда я слышу сейчас, как не душу, облеченную музыкой? Вот же, я слышу, это душа! – сказала она себе. И, не мешкая, бросилась собирать вещи.
Другие тоже не остались к музыке безучастны, и когда к двери подошла Перл, ей пришлось встать на цыпочки, чтобы увидеть, кто играет. И тогда она спросила Уолша: Как это называется, когда твой отец женат на женщине, которая не твоя мама? Как ее?..
Называется мачеха.
Вроде как я папе дочка, а этой… ну…
Мачехе?
А мачехе я…
Падчерица.
Вот-вот. Падчерица. Это разве нормально? Все эти мачехи, пачихи…
Ну, бывает, – пожал плечами Уолш. – Все же лучше, чем дупель-пусто.
Да, так вот – видишь ту чокнутую тетку, что музыку играет? Видишь? Вот, прижмись сюда, здесь видно. Это вот она, миссис Джеймсон, она и есть моя мачеха, – сказала Перл, да еще и головой покивала, как бы подтверждая родство. – Мачеха! видали? На пианино играть небось не разучилась! Всю жизнь у меня от этого в ушах звон стоял. Злости моей не хватало. Там черные у себя в лачугах помирают, а она на пианино бренчит – ей все трын-трава. Меня в упор не видит, смотрит прямо сквозь – мачеха моя, мэ-эм миссис Джеймсон!
Приникнув, как велела Перл, к ней вплотную, Стивен Уолш инстинктивно понимал, что она не сознает, какое действие на него оказывает такая их близость. Он все никак не мог смириться с мыслью, что ведь она совсем еще дитя – эта искрящаяся жизнелюбием девушка, от одного взгляда которой у него захватывает дух. Сперва, в самом начале их знакомства, она заметила, что он за ней плетется, и поощрительно улыбнулась – приняла, как принимает нового знакомого ребенок, сразу зачисляя в разряд закадычных друзей. И тотчас пустилась с ним в такие откровенности, каких никогда не позволит себе в подобных обстоятельствах взрослый. Каким же беззащитным сделала его война, что он мгновенно к ней потянулся! Причем с такой силой, что в его мозгу завертелись мысли о том, как он на войне не погибнет, начнется новая жизнь, и в ней он будет ее мужем.
С детства Стивен Уолш умел уходить в себя, прятаться в убежище собственных мыслей. Его родители пили, и он рос беспризорником на улицах Манхэттена; хлеб насущный добывал тем, что подметал в салунах и разносил кружки с пивом, и сам вырабатывал для себя правила чести и порядочности. Сформировался этаким стоиком, но как бы по собственному выбору, будто бури, бушевавшие в семье, и жестокости уличной жизни не сыграли совершенно никакой роли в становлении его характера. Однажды попал под крыло иезуитов и терпел обучение, пока ему не дали на прощанье список книг, которые за свою жизнь должен прочесть каждый. Потом, уже самостоятельно, он составил еще и свой список.
Стивен был плечистый, крепкий девятнадцатилетний парень с пышной шапкой черных волос, густыми бровями, серьезным взглядом и волевым подбородком. Любому офицеру было видно сразу, что Стивен Уолш – надежный солдат и в любой обстановке будет вести себя подобающим образом. Но в тот момент весь жесткий строй его характера пошатнулся, омытый и затопленный томлением как будто заново осознанного одиночества. На музыку Стивен никогда особого внимания не обращал, даже если приходилось под нее маршировать. Но теперь он весь обратился в слух, впивал в себя этот вальс, который бередил ему душу, к чему-то призывал, чего-то требовал… И чуть ли не вопреки собственной воле он не отлипал от Перл, которая, казалось, не сознавала их тесной близости, – что ж, раз так, он тоже притворился, будто ничего особенного не происходит.
В армию он пошел воевать «за того парня»: подменил собой сынка богатых родителей, в награду получив три сотни долларов. Теперь он о них вспомнил. Лежат себе в банке «Корн Эксчендж» на Лэйт-стрит.
Шермана разбудил его собственный крик. Оказывается, он заснул в кресле. Полностью одетый. При этом кровать расстелена. На коленях плед. Он резко встал и сразу почувствовал озноб. Где, черт подери, он находится? Набросив плед на плечи, подошел к окну и отодвинул портьеру.
Рассвет.
Постоял, подождал.
Медленно, неохотно проступала из мрака Колумбия, вырисовывалась отдельными серыми сгустками. Чуть развиднелось: вот садовая ограда, за ней рядами печи с дымоходами да обгорелые деревья. И вдруг, освещенный первыми ледяными проблесками нового дня, город показался ему не погибшим, а нарождающимся – не город, пока только план его: размечены улицы, заложены кирпичные фундаменты, кое-где уже возведена каменная стена, а вокруг не пепел и груды головешек, а строительные материалы… только кто же их так беспорядочно разбросал?
Вот так наказан был Юг, – произнес он вслух. – Хотя и не я сделал это, но не скрою, меня это радует.
Далеко за полночь он все еще был на ногах, совещался с офицерами штаба и писал приказы, готовясь к кампании в Северной Каролине. Взглянул на часы. Пять утра. Пора раздавать винтовки. Дивизиям авангарда строиться. Обозы запрягать. И в тот же миг он услышал звуки горнов. Выкрики. Удовлетворенно кивнул: жива, жива его армия!
Вот только в доме что-то больно уж тихо. Через час он должен быть в седле и на марше. А это здание потом взорвать. Куда к черту подевался Мозес Браун с завтраком?
Найдя недокуренную сигару, Шерман прикурил. Еще раз прокрутил в голове свой план. Фланг Слокума пройдет западнее Колумбии. Соединимся с ним в Уинсборо. Вместе делаем стойку на Шарлотту, но это только финт, а сами – цап-царап! – берем Рэлей. Получаются клещи: Грант давит Ли с севера, я с юга. И как только Ли бросает редуты, чтобы выйти в поле ко мне – а куда он денется? – Грант тут же берет Ричмонд.
Пыхтя сигарой, Шерман поднял в руках плед, изображая крылья богини победы Ники Самофракийской. Усмехнувшись, сделал по комнате круг почета.
Однако оставались еще проблемы, как нынче говорят, «логистики». Шерман, впрочем, предпочитал называть их трудностями снабжения и транспорта. Ему сообщили, что вместе с армией намеревается двинуться в путь по меньшей мере тысяча черных. Только успел отделаться от одной орды в Джорджии, как – глядь! – уже другая прицепилась. Их уговаривать, объяснять что-либо – как об стену горох! Ну где они собрались поселиться? В какой такой земле обетованной? Да среди них еще и белые попадаются, многие нам помогали и, оставшись здесь, вряд ли выживут. Но мы же армия, а не благотворительное общество!
А еще надо послать с курьером письма министру Сьюарду и «башковитому» Халлеку, которого стараниями Гранта сделали единственным во всей армии – эвона: генерал-аншефом! – да только он не удержался, плавно съехал на генеральный штаб. Сыч пучеглазый! Пусть лучше от меня узнают, чем донесет какой-нибудь прохвост. Ясно же, что это дело рук Хэмптона, генерала конфедератов – ну обидно человеку стало драпать, взял и запалил хлопок! Да ветерок, слава те господи, – вот сами суржики город и сожгли! Хотя, конечно, Шерман понимал: винить во всем неизбежно будут его. Не я устроил им эти Помпеи, – писал он. – Но если надобно сделать из меня врага рода человеческого, я готов нацепить на себя сию личину, буде это послужит к вящему их низвержению и наполнит ужасом их изменнические души. Скоро мы разделаемся с ними, искореним раскол, и конец их будет концом проклятой развязанной ими войны.
Но где же Мозес Браун с моим завтраком?








