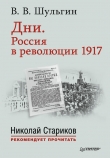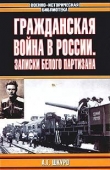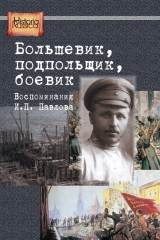
Текст книги "Большевик, подпольщик, боевик. Воспоминания И. П. Павлова"
Автор книги: Е. Бурденков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
На фронтах гражданской войны (1918–1921)
Итак, в середине июля 1918 года мы были перебазированы в Сарапул, где влились во 2-ю армию РККА. В штабе командарма Блохина[105]105
Блохин В.H. – подполковник, добровольно вступил в Красную армию. Член РКП (б). С 18 июля по 3 сентября 1918 г. командующий 2-й армией Восточного фронта.
[Закрыть] Андрей Ермолаев был назначен начальником контрразведки, а я стал его заместителем. Обстановка в Сарапуле напоминала уфимскую образца января 1918 года – после черносотенного погрома обыватели были терроризированы выпущенными на свободу уголовниками. Уездный исполком заседал ежедневно, но ничего путного сделать не мог. Почти в открытую действовала банда «братков» – подонков, одетых в матросскую форму, которые «мобилизовали» городских проституток и ими торговали.
Вот в их-то «казарму» мы с Ермолаевым первым делом и направились. Увидели настоящий вертеп – пьяные «братишки» вместе со своими «подругами» орали похабные песни, на столе самогон, кругом пятиэтажная матерщина. Когда мы вошли, Ермолаев скомандовал: «Смирно!». Все притихли. Сзади кто-то крикнул: «А вам что здесь надо? идите к себе в штаб!». Ермолаев потребовал командира, и когда тот явился, записал его имя и приказал на следующее утро явиться в контрразведку со списком «личного состава». На утро этот «начальник», который, как ни странно, действительно оказался матросом, такой список принес, и в тот же день его ватагу передали одному из наших командиров, который формировал полк для ликвидации ижевского восстания[106]106
Имеется в виду ижевско-воткинское восстание, вспыхнувшее в августе 1918 г. под лозунгом «За Советы без большевиков». Активными участниками восстания стали рабочие ижевских, боткинских и сарапульских заводов. Восстание ликвидировано в ноябре 1918 г. силами двух стрелковых дивизий 2-й армии, Особой Вятской стрелковой дивизии, отряда особого назначения 3-й армии и Волжской флотилии под общим командованием В.А. Антонова-Овсеенко.
[Закрыть]. Те из «братков», кто не пожелал служить в Красной армии, продолжали воровать, но уже втихую. Нас они очень боялись и вскоре исчезли из города. Но самых злостных бандитов все-таки пришлось расстрелять.
Сам Сарапул оказался очень симпатичным городком – уездный, маленький, но вовсе не захолустный, замечательно уютный, весь обсаженный липами; стоит близ слияния Камы и речки Сарапулки. На 20 тысяч жителей в городе было две гимназии, реальное и музыкальное училища, много интеллигентной молодежи, кожевенный завод. Идешь, бывало, по улице и почти из каждого окна слышишь либо пианино, либо скрипку или мандолину, гитару. Горожане встретили нас хорошо, были благодарны за наведенный порядок, звали в гости и с удовольствием принимали. Многие стали работать в штабе, молодежь охотно вступала в Красную армию. При нас местная буржуазия ничем себя не проявляла – поджала хвост. Свое лицо она показала уже после нашего ухода, и лицо это, конечно, было поганым. Вместе с нами в Сарапул переехал и уфимский губком партии, который стал формировать группы подпольщиков для заброски в Уфу. Из моих знакомых в эти группы попали Е. Тарасова, В. Алексакин, К. Мячин. Мы с Фиониным изготовляли им паспорта.
Наш командующий, бывший подполковник Блохин, походил на грузина, вид имел болезненный. Вместе со штабом жил на пароходе, а свой аппарат разместил в гостинице недалеко от Камы – в так называемых «Московских номерах». Жена Блохина, высокая, стройная, красивая грузинка, показывалась на людях редко и исключительно по ночам. Ходила в штанах или в ярком нарядном платье. Охраняли штаб латыши под командой бывшего офицера Хованского. С самого начала ни Блохину, ни Хованскому мы не особенно доверяли и, посовещавшись, решили отправить «ходоков» к Ленину – доложить, что одна из армий Восточного фронта находится в ненадежных руках. Во время этого нашего совещания случился курьез – отряд Хованского нас окружил и попытался арестовать, но сдать оружие (в кармане каждого из нас был револьвер, а у некоторых еще и бомбы) мы наотрез отказались. Пошли объясняться к Блохину – «арестанты», вооруженные лучше, чем конвой. Командующий перед нами извинился, пожурил Хованского, но было видно, что тот действовал с его ведома и согласия. Вероятно, мы им просто чем-то мешали. Вскоре Хованский был арестован ЧК и расстрелян как шпион, а его отряд расформирован. Блохина сняли, и куда он делся – не знаю.
Снабжением армии ведал Ольмерт – беспартийный еврей, очень изобретательный и предприимчивый и, как мы вскоре убедились, неподкупно честный. Но поначалу он тоже доверия не вызывал, и губком предложил нам с Фиониным определиться в его отдел и за ним приглядывать. Должности придумывайте себе сами, сказали нам, но следите за Ольмертом; за снабжение армии перед командующим отвечает он, а перед губкомом – вы. Что поделаешь, губкому виднее, и мы с Иваном Яковлевичем отправились к Ольмерту Услыхав, что мы явились ему «помогать», он ухмыльнулся, но в штат зачислил. Так продолжилась моя работа снабженца, но уже в Красной армии.
Все это время я не терял связи с контрразведкой, благо партийная организация у нас была общая. Кстати, скажу несколько слов о советско-партийной работе сарапульского периода. Еженедельно в клубе железнодорожников проводились партсобрания, на которых, как правило, обсуждался текущий момент и решались внутрипартийные дела: выделяли коммунистов для выполнения разных поручений, в том числе боевых. Кроме того, я, как начальник дружины, участвовал в заседаниях губкома и губернского штаба боевых организаций. В виде партийного задания вел кружок антирелигиозной пропаганды. Горисполком иногда устраивал диспуты с попами, от которых выступал «отец» Андрей, уфимский архиерей. Ученый был поп– богослов, окончил Духовную академию, университет, еще что-то. В диспутах упирал главным образом на бесконечность мироздания, но вопрос о его происхождении всегда ставил его в тупик.
Один раз Ермолаев сообщил мне по секрету о намерении местных эсеров и анархистов взорвать штаб Блохина. В тайне от Хованского мы мобилизовали своих боевиков для охраны штабного парохода и вскоре, действительно, арестовали двух анархистов, рабочих кожевенного завода. Фамилия одного была Воронцов, а другого, кажется, Колчин. Впоследствии Воронцов вступил в партию и мы с ним подружились. На допросе они сообщили, что решили взорвать штаб Блохина, потому что ему не доверяют, и, сделав внушение, Ермолаев их отпустил.
Дело снабжения армии поначалу было организовано так. Бывало, Ольмерт поедет по камским городам, реквизирует под расписку у купцов обувь, одежду мануфактуру, хлеб, сахар, чай, крупу, нагрузит всем этим свой пароход и приведет его в Сарапул. Выгрузит и снова поедет, а я выдаю все это частям, уходящим на фронт. Из этого продовольствия и обмундирования даже Блохин себе ничего не брал, а мы – тем паче. В общем, своего имущества у армии фактически не было – мы даже питались в частной столовой.
Между тем, гражданская война становилась все более ожесточенной. Когда ижевские повстанцы потеснили наши отряды, Блохин испугался и без разрешения Москвы отправился в Вятку. Взял с собой и нас, работников штаба, прицепив к нашему пароходику баржу с красноармейцами и скудным имуществом. В реке Вятке к нам подошел катер, и выскочивший из него человек потребовал предъявить разрешение на проезд. Ольмерт не растерялся (он вообще умел приструнить) и, в свою очередь, строго попросил того же от него самого. Незнакомец оказался проходимцем «из бывших», который грабил проходящие суда, а заодно и всю округу, выдавая себя за начальника красногвардейского кордона. В «резиденции» его банды мы обнаружили целый склад награбленного. Все это мы реквизировали, а бандитов сдали в вятский Особый отдел. Там главаря расстреляли, а его соучастников отправили на фронт. И таких самозванцев и мародеров мы вылавливали и уничтожали на протяжении всей гражданской войны.
В Вятке мы прожили недолго. Блохина прогнали, новым командующим был назначен Василий Иванович Шорин[107]107
Шорин Василий Иванович (1870–1938) – военный и государственный деятель. Участник русско-японской войны. Во время Первой мировой войны командовал батальоном и полком. Полковник с 1916 г. В сентябре 1918 г. в Вятке добровольно вступил в Красную армию и 8 сентября был назначен помощником командующего 2-й армией, а 28 сентября – и командующим. Один из руководителей подавления ижевско-воткинского восстания. С мая 1919 г. командовал Северной группой войск, с июля 1919 г. – Особой группой Южного фронта и Юго-Восточным фронтом, с января 1920 г. – Кавказским фронтом. С мая 1921 г. помощник главкома вооруженных сил Республики по Сибири, член Сибревкома. В 1921 г. руководил подавлением ишимского крестьянского восстания, затем – операцией по уничтожению войск барона Р.Ф. Унгерна фон Штернберга. В январе – ноябре 1922 г. командовал войсками Туркестанского фронта, в 1923–1925 гг. – Ленинградского военного округа. В 1925 г. уволен в запас по возрасту. Репрессирован. В 1956 г. реабилитирован.
[Закрыть], бывший генерал, командир дивизии на русско-германском фронте. Человек он был крутого нрава, но военное дело знал и командовать умел. Начальником его штаба стал Федор Михайлович Афанасьев[108]108
Афанасьев Федор Михайлович (1883–1935) – военный и государственный деятель. Окончил военное училище и Академию Генштаба. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Полковник. С февраля 1918 г. в Красной армии. В июле – сентябре 1919 г. начальник штаба Северной группы войск Восточного фронта, в 1920 г. начальник штаба, исполняющий обязанности командующего Кавказским фронтом. С апреля 1920 г. начальник штаба помощника Главкома вооруженными силами по Сибири. В 1923 г. помощник начальника Военной академии РККА. С 1924 г. в отставке.
[Закрыть], бывший полковник, начальник штаба армии в германскую войну. Оба пошли в РККА добровольно. Членом Военного совета был назначен Гусев[109]109
Гусев Сергей Иванович (настоящее имя Драбкин Яков Давидович) (1874–1933) – военный и государственный деятель. Член РСДРП с 1896 г., большевик. Вел революционную работу в Киеве, Одессе, Петербурге, Москве, неоднократно арестовывался. После Февральской революции секретарь Петроградского Военно-революционного комитета, один из организаторов Красной гвардии. Активный участник октябрьского переворота. В 1918 г. член Реввоенсовета 2-й армии, в 1918–1919 гг. – Восточного фронта. В дальнейшем на военно-политической работе на Юго-Восточном, Кавказском, Юго-Западном, Южном, Туркестанском фронтах. С 1920 г. кандидат в члены ЦК РКП (б).
[Закрыть], крупный партийный работник. Новый штаб армии был сформирован в Вятских Полянах, кажется, в сентябре, одновременно армия получила большое количество продовольствия и обмундирования.
Я очень хотел уехать к товарищам на подпольную работу в Уфу, но Шорин меня не отпустил и назначил заведовать армейской базой, которая размещалась на двух баржах на пристани городка Котельнич недалеко от Вятки. Воинское имущество мы получали из Вятки, а выдавали по телеграфным распоряжениям штаба армии. Жили скудно, питались плохо настолько, что приходилось прикупать рыбу у местных рыбаков. В то время свирепствовала «испанка» – род гриппа, от которого умирало много народу. Заболел и я. Ни врача, ни даже фельдшера в Котельниче не было, и меня положили в отдельной комнате под присмотром брата Павла и нашей уборщицы Маши. Не лечили меня никак, просто я неделю провалялся в постели. Помню, голова болела так, что не то что пошевелиться, глаз поднять не мог. Указания по работе давал лежа. Но в итоге здоровый организм взял свое, и я выздоровел.
Однажды ночью нас разбудила пулеметная стрельба. Решили, что началось очередное восстание или белые подошли к городу. Наутро узнали, что это местная ЧК в ответ на покушение на Ленина расстреляла на берегу несколько десятков заложников. Дорого заплатила буржуазия за это покушение!
В октябре 1918 года базу армии перевели в Вятские Поляны – в бывшие хлебные лабазы. Одновременно я был назначен помощником интенданта армии – все того же Ольмерта. Начальником снабжения стал бывший учитель, а в германскую офицер Суетов, комиссаром – южноуральский большевик-подпольщик Котомкин. Появились новые люди и в штабе армии. Адъютантом Шорина стал Александр Лукич Налимов, с которым мы крепко дружим до сих пор. Его будущая жена Серафима Федоровна работала в нашем штабе машинисткой. Сейчас их замечательная семья живет в Москве.
Штаб армии помещался в каменном двухэтажном доме крупного купца, а наше управление занимало школу. Там же мы и жили. Работали, конечно, день и ночь. Бывало, ночью прибывает на вокзал следующая на фронт часть, которую надо срочно снабдить хлебом и всем необходимым. Идешь в пекарню, выдаешь хлеб, потом мчишься на базу. Глядишь, уже и утро, и надо идти на работу. Ольмерт по-прежнему разъезжал по городам и весям забирать реквизированные комитетами бедноты кулацкий хлеб и разные товары, а учет имущества и снабжение в основном лежали на мне. Я отдыхал, когда отправлялся в командировки. Бывало, заберешься в рубку баркаса и спишь часов 12 – до самой пристани. Эти поездки были далеко небезопасны, в нас частенько стреляли из-за угла, и мы всегда были хорошо вооружены. Не дремала и ЧК, которая каждую ночь расстреливала по нескольку человек. Приговоренного обычно ставили на борт парохода лицом к воде, стреляли ему в затылок, и труп летел за борт.
Приближалась зима. Наши войска понадобилось снабдить валенками. С детства я слышал о кукморских валенках, и вот теперь мне поручили организовать их массовое производство. Мы мобилизовали все мастерские Кукмора, снабдив их сырьем и топливом. Я в первое время ездил туда из Вятских Полян ежедневно, иногда там же и ночевал. В итоге мастерские заработали на полную мощь и валенками мы снабдили не только свою, но и 3-ю армию, и весь Северный фронт. Работу закончили в декабре 1918 года. Интересно, что когда кукморские мастера узнали, что меня посылают в Москву, они сделали для меня особо легкие и теплые бурки, которые я, зная, как живется в столице, решил подарить самому Ленину. Но не довелось.
А дело было так. В Москву мы с группой красноармейцев приехали под новый, 1919-й, год и поселились в казенных комнатах на Тверской. В соседней комнате была какая-то канцелярия, в которой работали молодые девчонки. Москва тогда голодала, горожане получали по осьмушке (50 грамм) суррогатного хлеба в день, а мы привезли пятипудовый мешок белого хлеба, мяса, яиц. Когда девчата прознали про это, они стали атаковать моих красноармейцев, а те, как полагается молодым, стали менять хлеб на «натуру». Тогда я хлеб запер, своим стал выдавать только паек. Девчата, чтобы меня задобрить, подослали ко мне самую красивую. Та явилась с флаконом какой-то сладкой эссенции, а взамен попросила хлеба для больной матери и сестренки. От ее подношения я, конечно, отказался и просто дал белый каравай. Она, бедная, долго смотрела на меня широко открытыми главами, потом заплакала и убежала. После мы с ней стали друзьями, она оказалась девушкой строгой и умной. Очень жалела, когда я собрался домой, и на прощанье сказала: «Я никогда, никогда Вас не забуду! Таких людей нельзя забыть». Не знаю, так ли это, но я, грешный, запомнил только ее красивое лицо.
В Москве по вопросам снабжения армии я несколько раз бывал у Красина. Заходил и в наркомпрод. С наркомом Цурюпой[110]110
Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928) – партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1898 г., большевик. В 1905–1917 гг. работал в Уфе. С февраля 1918 г. нарком продовольствия. В годы Гражданской войны ведал заготовками и распределением продовольствия, действиями продотрядов. Инициатор создания комбедов и продразверстки.
[Закрыть], уфимцем, не общался, зато по подполью был хорошо знаком с его заместителем Николаем Павловичем Брюхановым и с членом коллегии Алексеем Ивановичем Свидерским[111]111
Свидерский Алексей Иванович (1878–1933) – партийный и государственный деятель. Участник революционного движения с 1898 г. В октябре 1899 г. арестован и выслан под надзор полиции в Уфимскую губернию. После Февральской революции один из руководителей губернской организации РСДРП, председатель Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов, активный участник свержения власти Временного правительства в Уфимской губернии. С марта 1918 г. член коллегии Наркомпрода.
[Закрыть]. Брюханов встретил меня бранью, назвал бандитом. Тебе, говорит, не обмундирование надо давать, а расстрелять. Дело в том, что наш Военный совет ввиду крайней нужды реквизировал эшелон с рожью, шедший в голодающую Москву, правда, с обязательством собрать и направить в столицу новую партию хлеба. Рассуждали так: если армию не кормить, она может не выдержать и побежать, а в Москву хлеб пошлем, но позднее. Я и скажи Брюханову: «Сидел бы ты здесь, если армию не кормить». Он поостыл и стал зазывать в гости. Жил он в гостинице Метрополь, приглашал к 7-ми утра или к 2-м часам ночи – по своему рабочему графику. Так они в наркомпроде тогда работали – начинали в 8 утра, а заканчивали глухой ночью. Я, кстати, упомянул и о бурках для Ленина, у которого Брюханов бывал чуть ли не ежедневно. Он ответил: «Иди сам и дари, если тебе жизнь недорога: он тебе такие бурки пропишет! К нему каждый день лезут с подарками, кто с чем, и всех он гонит в шею».
Тогда пошел я к Свидерскому – может, думаю, этот будет посговорчивее. Но и тот отмахнулся, хотя бурки посмотрел. Они действительно были хороши. Я ему сказал: «Как хочешь, но постарайся всучить их Владимиру Ильичу, а только обратно я их не возьму», и ушел. Больше я Алексея Ивановича не видел и не знаю, что он сделал с этими бурками. После я снова пошел к Красину. Тот мне сказал, что обмундирование нам вышлют позднее, и я, не солоно хлебавши, отправился со своими бойцами домой. Правда, обмундирование мы и вправду вскоре получили, так что съездил я не зря.
В конце 1918 года в Москву начали приглашать красных командиров на курсы при Генеральном штабе – подучить военному искусству. Приехали и двое наших – начальник оперативного отдела армии (не помню его фамилии) и комдив Чевырев, старый рабочий-подпольщик[112]112
Чевырев (Чеверёв) Александр Михайлович (1887–1921) – уральский рабочий, большевик, в 1909 г. судился военно-полевым судом за участие в вооруженном восстании. В 1917 г. председатель военной секции уфимского Совета, командир миньярской боевой рабочей дружины, участник боев с атаманом А.И. Дутовым. С сентября 1918 г. командир полка в дивизии В.М. Азина, затем комдив.
[Закрыть]. Чевырева я давно знал и, будучи в Москве, отправился его навестить. Сидим мы у них в общежитии, разговариваем, а Чевырев нет-нет, да пройдется по комнате, позвякивая шпорами. Я отпустил что-то язвительное насчет этих шпор, а он как взовьется: «Ты задел самое больное место! Я такой же подпольщик, как и ты, и понимаю, что к чему, но раз надо носить эти погремушки, так что же я поделаю!». Так распалился, что чуть меня не застрелил – даже схватился за кобуру. Насилу мы его успокоили. Вскоре после моего отъезда из Москвы были отозваны и наши командиры, и Чевырева я снова увидел уже в штабе армии.
В Москве я пробыл всего пару недель, но на фронте за это время многое изменилось. Азин[113]113
Азин Владимир Михайлович (Вольдемар Мартинович) (1895–1920) – военный деятель. С конца 1916 г. вольноопределяющийся, солдат отдельного саперного батальона. В 1917 г. участвовал в создании Красной гвардии, командир отряда латышских стрелков. В июле 1918 г. командовал Вятским батальоном на Восточном фронте, в августе – Арской армейской группой, занявшей Казань. С сентября 1918 г. начальник 2-й Сводной пехотной дивизии, в декабре – 28-й стрелковой дивизии 2-й армии. В феврале 1920 г. попал в плен и был казнен в станице Тихорецкая (ныне Фастовецкая).
[Закрыть] прогнал колчаковцев за Каму, и к моменту моего возвращения наш штаб переехал в только что освобожденный Сарапул. На место куда-то отозванного Гусева в качестве членов Военного совета пришли Афанасьев и Штернберг[114]114
Штернберг Павел Карлович (1865–1920) – ученый, революционер. Окончил физико-математический факультет Московского университета. Член РСДРП с 1905 г., большевик. С 1914 г. профессор-астроном, с 1916 г. директор Московской обсерватории. С 1917 г. член Московского комитета РСДРП (б). В октябре 1917 г. был введен в Центральный штаб Красной гвардии и в московский Военно-революционный комитет. В сентябре 1918 г. – июне 1919 г. член Реввоенсовета 2-й армии, в октябре 1919 г. – январе 1920 г. член Реввоенсовета Восточного фронта.
[Закрыть]. В Сарапуле меня поселили в квартире неких Кокинас. Работы по снабжению армии как всегда было много, но шла она уже более организованно. Осложняло нашу жизнь то, что в аппарате штаба по-прежнему было немало бывших офицеров, среди которых попадались пьяницы, развратники, кокаинисты и даже шпионы. В 1919 году целую группу таких расстреляли, и за некоторыми исключениями аппарат стал настроен вполне советски. А те, кто был с белым налетом, заработал молча и исправно, а в тогдашних условиях большего и не требовалось.
В феврале 1919 года меня командировали в Воткинск инспектировать по части снабжения вновь сформированную дивизию перед ее отправкой на фронт – помнится, 21-ю. Железная дорога была по-прежнему очень плоха, и дивизия сосредоточивалась целый месяц. В общем, моя командировка сильно затянулась. В Воткинске я встретил много офицеров, знакомых еще по германской войне. Командиром 21-й дивизии был генерал, который когда-то командовал нашей 50-й, и даже дивизионный интендант был тот же. Этот подполковник Григорьев обрадовался встрече и сказал: «Мы знали, что Вы где-нибудь на большой работе. Там Вы мне были подчинены, а здесь – я Вам, но мы рады встретить Вас снова». Я выстроил дивизию, выяснил потребности каждого полка в обмундировании, обуви и продовольствии, выдал по акту все, что требовалось, и дивизия отправилась на фронт. Сам вернулся в Сарапул. Вскоре белые снова начали наступать, и эта дивизия, к сожалению, в своей значительной части перешла фронт и сдалась белым. От нее осталась лишь кучка офицеров и солдат.
При переезде штаба армии в Сарапул с вятско-полянских складов взяли имущества и продовольствия только для оперативных нужд Передо мной была поставлена задача до 15 апреля, то есть в месячный срок, перевезти все склады армии в Сергач. Помощников у меня было что кот наплакал – завскладом Лебедев, два бухгалтера (помню фамилию одного – Нигай, он был кореец), кладовщик Балабанов, да кучер с лошадью. В общем, ни людей, ни транспорта – хоть плач. А огромные лабазы в Вятских Полянах продолжали наполняться – один реквизированный овес поступал к нам сотнями подвод. Я начал действовать. Перво-наперво договорился с начальником военных перевозок о регулярной подаче мне порожняка. Во-вторых, добился, чтобы ко мне прикрепили все деревни в радиусе 10 верст от Вятских Полян.
Так у меня появились вагоны и гужевой транспорт. Наконец, подводы, которые привозили нам хлеб из Екатеринбурга, я после разгрузки заставлял трижды съездить на склад и доставить грузы на вокзал. Конечно, крестьяне этим были очень недовольны. Мне часто угрожали, не раз пытались от меня сбежать. Помню, однажды я ехал на последней подводе, а вся колонна пустилась наутек. Я выстрелил в первую подводу и только так остановил беглецов. С испугу этот обоз потом перевез мне дополнительно грузов на два вагона. Попутно с работой по эвакуации базы я снабжал всем необходимым и проходящие на фронт части. В общем, утром я садился в седло и до вечера вылезал из него только раз – чтобы накормить лошадь, поесть самому, да попутно подписать срочные бумаги. С тех пор я езжу, как заправский кавалерист.
В то полуголодное время возникали у меня конфликты и с теми из командиров, которые всеми правдами и неправдами пытались урвать побольше продовольствия и фуража. Один раз приходит ко мне командир саперного батальона и просит сахару, чаю, муки и крупы. Я ему отказал, зная от Ольмерта, что все положенное этот батальон уже получил. Сапер отправился прямо к командарму жаловаться. Шорин взбесился, а раздражался он быстро, и вызвал меня в классный вагон, в котором находился вместе со своим полевым штабом. При моем появлении вскочил с кресла и закричал: «Как Вы смеете срывать боевое задание части! Я Вас сейчас прямо у вагона собственноручно расстреляю!». Я удивился: Шорин так со мной никогда прежде не разговаривал, и все ему объяснил. Стали разбираться. Запросили по телеграфу Ольмерта, тот мои объяснения подтвердил. Тогда Шорин потребовал к аппарату того самого сапера и так его по прямому проводу обматерил (на что был большой мастер и любитель), что телеграфистки вышли и его телеграмму отстучал старший телеграфист.
Той же ночью произошло еще одно происшествие. К нам в Вятские Поляны прибыла дивизия Азина. Сидим мы в его штабе вместе с начштаба Овчинниковым, вдруг слышим по селу стрельбу. Овчинников тут же распорядился разослать пешие и конные патрули, и через час все стихло. Кто и зачем стрелял, мы узнали только через несколько дней. Чекисты сообщили, что это были белые диверсанты, которые хотели вызвать в дивизии панику. Но в 1919 году наши части уже не паниковали. Тем более у Азина.
Наутро я уехал в Казань. Склады я эвакуировал вовремя. Скоро в Вятские Поляны вошли белые.
В Казань, где располагался штаб нашей армии, я приехал под 1 мая 1919 года. Пролетарский праздник там отмечали широко, на большой площади были собраны войска, рабочие, трудящиеся. По всему городу проходили митинги, на некоторых выступил и я. Нас, большевиков, здесь поддерживал в основном русский пролетариат. Рабочие-татары по безграмотности в своей массе к политике были равнодушны. Как и многие другие крупные города в то время, Казань была наводнена купцами, дворянами, торговцами, бывшими офицерами и прочей сволочью, которая, как только могла, вредила советской власти. Кто-то из «бывших» поджег прекрасный казанский Оперный театр. Горел он так, что напоминал кипящий котел. До него не долетали струи из брандспойтов – вода испарялась на лету, и театр сгорел дотла. Другими словами, у здешней ЧК было много работы, и мы ей всячески помогали. Я, например, вплоть до 1920 года был ее внештатным сотрудником.
Настроение солдат тоже было неважное, и не без причин. Политически они были развиты плохо, во многих вопросах не разбирались. К тому же белые тогда зажали советскую республику в кольцо: с востока они дошли до Вятки и Казани, с юга – почти до Орла, на севере взяли Архангельск. Трудно было воевать без хлеба Украины и Сибири, без железа и угля Донбасса, без нефти Кавказа. Хотя положение было очень тяжелым, внутренне все мы были уверены в победе, ибо правда была на нашей стороне, а это – главное.
В РККА были тогда большие проблемы не только со снабжением, но с боевой выучкой и особенно с дисциплиной. Приведу пример из собственного опыта. Как-то члена Военного совета нашей армии Штернберга (он был ученый, профессор астрономии) и меня направили в одну свежепополненную часть, которую предполагали скоро отправить на фронт. Нам следовало проверить ее боевую готовность и состояние снабжения. Приезжаем в часть, входим в казарму, никто, даже дежурный и дневальный, не обращают на нас никакого внимания – все заняты своими делами. Многие красноармейцы лежали на нарах в обнимку с женщинами, вероятно, с приехавшими их навестить женами. И тут же, в казарме, у всех на глазах занимались тем, что полагается в таких случаях делать мужчине и женщине после разлуки. С некоторыми красноармейцами Штернберг попытался поговорить, но ему отвечали односложно и неохотно. Наконец, явился командир части, но на его «Смирно!» снова никто не отреагировал. И такая часть была направлена на фронт! Можно себе представить, как она воевала.
Дисциплину наши командиры подтягивали по-разному. Когда в дивизии Азина в одном из полков (Елабужском) выбросили плакат «Долой братоубийственную войну!», он вывел этот полк из боя, разоружил, построил и начал собственноручно расстреливать каждого десятого. После пятого расстрелянного таким образом остальные закричали: «Хватит, будем воевать!». Тогда Азии скомандовал «В ружье!» и снова послал полк в окопы, пополнив убыль коммунистами. Потом этот полк стал у него одним из самых боевых. Точно так же Азин как-то «убедил» крестьян доставить на передовую патроны. Мы в штабе о его «художествах» знали, но сделать ничего не могли.
Он вообще был сорвиголова. Однажды сидел в своем штабном вагоне и пил со штабными чай. Ему докладывают, что привели семерых пленных колчаковских офицеров. Азин встает и выходит, говоря: «Продолжайте, я сейчас». С улицы раздается семь выстрелов, Азин возвращается и как ни в чем ни бывало продолжает чаевничать. Он ненавидел белых офицеров, считал их предателями и, несмотря на строгое предписание направлять их в штаб армии, всегда собственноручно расстреливал. Пленным же солдатам предлагал перейти на сторону советской власти, и если те отказывались, отпускал на все четыре стороны. Презирал трусов, гнал их от себя либо расстреливал, но людей храбрых, находчивых обожал. Очень любил Чевырева, другого комдива нашей армии, как человека смелого, быстрого в решениях и талантливого командира. Азин недолюбливал финансовый контроль и денежную отчетность, инспекторов РКП[115]115
Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин, РКИ) осуществляла государственный контролв. Создана в 1920 г., расформирована в 1934 г.
[Закрыть] близко к себе не подпускал, говорил: «Вот разобьем Колчака, тогда и начнем деньги считать, а теперь воевать надо». Понятно, что с такими командирами вся повседневная, будничная организационная работа легла на плечи коммунистов. Им, впрочем, тоже часто приходилось вынимать наган – в армию наряду с людьми преданными проникали и враги.
В мае 1919 года вместе с комиссаром армии Борисом Шапошниковым я ездил в Сергач проверять состояние перевезенных туда из Вятских Полян армейских складов. Все оказалось в порядке, мы все пересчитали, на выдержку перевесили хлеб. Часть зерна уже размололи на муку. Ездил я и на эту мельницу, стоявшую на реке Пьяной. Несмотря на название, речка оказалась очень рыбной и, говорят, полна рыбы по сей день. Ежедневно питаясь рыбой, наши представители на этой мельнице, Новоселов и Сизых, даже поправились. Шапошников, как не хозяйственник, в этой работе участия не принимал, пропадал в сергачском горкоме и только время от времени лениво выслушивал мои доклады. Между прочим, в Сергаче я обнаружил большие запасы чая, сахару, мануфактуры, в которых армия остро нуждалась. Все это было бесхозным – владельцы-купцы давно разбежались. С разрешения штаба фронта, часть найденного мы отправили в свою армию, а прочее по акту оставили местным властям для снабжения населения.
Долго пожить в Казани мне не удалось. Наши войска перешли в наступление, Азин с ходу занял Ижевск, а Чевырев – Сарапул. Стремительно отступая, белые бросили много вооружения, боеприпасов и всякого имущества. Командующий Шорин послал меня поставить все это на учет и взять под охрану. В Сарапул я приехал вместе с помощниками – инспекторами Баженовым и Семенюком, каждый из нас собирался остановиться на своей прежней квартире. Дом, где раньше жил Баженов, был от вокзала первым и мы, грязные и голодные после теплушки, пошли вместе с ним. Было это 6 июля 1919 года. Тепло, сели мы на полянке возле дома, а Баженов пошел в дом узнать обстановку. Выходит, говорит: хозяева ушли с белыми, в доме живет семья квартирантов, приглашают остановиться у них. Семенюк отказался и пошел к себе, а мы вместе с Баженовым зашли в дом, в отведенную нам комнату. Раскланялись с квартирантами – пожилой женщиной с энергичным лицом и двумя ее дочерями. Умылись, сидим, обсуждаем план работы. Тут одна из девушек пригласила нас к столу, но мы, смутившись, от обеда отказались. Второй раз, и уже намного строже («Что еще не идете обедать, заставляете просить себя! Идите без разговоров!»), нас пригласила мать. На кухне за столом мы увидели ее, молодого человека и двух девушек, блондинку и худую как палку шатенку, которых звали Серафима (она была старшей) и Ирина. Рассказываю об этом так подробно, потому что Сима вскоре стала моей женой.
После «семейного» обеда мы навестили командира полка, от которого узнали, что ввиду продолжающихся обстрелов города белыми, работать нам можно только по ночам, да и имущества в Сарапуле они оставили сравнительно мало – намного меньше, чем в Ижевске. Зная повадку Азина все трофеи забирать себе, мы с Семенюком решили немедленно отправиться в Ижевск, а Баженова оставили в Сарапуле. Утром следующего дня, пока ждали на дворе лошадей, поболтали с хозяйскими дочерями. На вопрос Баженова о замужестве блондинка Сима сообщила, что ее «никакой дурак замуж не возьмет». Я, признаться, был удивлен такой самокритике, тем более, что Сима была очень симпатичной, даже красивой, развитой и прекрасно выглядела. Я спросил: «А если бы такой дурак нашелся, Вы пошли бы за него?». Она ответила: «За дурака – нет, не пошла бы». Тут подали лошадей, и на прощанье я ей сказал: «Не унывайте, найдется и умный жених, но при этом надо быть и самой умной». Она рассмеялась и лукаво ответила: «Постараюсь быть умной».
Отправились. 50 верст до Ижевска ехали целый день – в окрестных лесах еще бродило много белых, и приходилось двигаться с осторожностью. Все время в пути держали наготове наганы, но обошлось, и поздним вечером мы были в Ижевске. Комендант поселил нас в поповской семье (сам поп сбежал с белыми), говоря, что с перепугу попадья будет кормить до отвала. Так и вышло. Попадья страшно нас боялась и отменно угощала. На ночь все семейство запиралось в своей комнате – делай, что хочешь. Только узнав, что мы не «азинцы», она немного осмелела, но все равно разговаривала неохотно и с опаской косилась на наши наганы. Явно боялась ареста – но за что их было арестовывать? Сама она не политик, а дети маленькие.
Наутро мы явились к Азину. Меня он знал и, выслушав, зачем приехали, кисло улыбнулся и сказал: «Учитывай скорее, а то мои хлопцы живо все заберут». Выделил нам красноармейцев, и мы начали работать. Брошенного белыми имущества, действительно, оказалось очень много, особенно зимней одежды – целые склады валенок, телогреек, ватных шаровар. Все это мы с Семенюком в три дня учли, склады опечатали и отправились назад в Сарапул. Дома первой я встретил Симу, поздоровался с ней, назвав по имени, и она вся просияла. После она рассказывала, что загадала: «Если вспомнит мое имя, значит – "да"», но что это за «да», толком сама не понимала. Вскоре мы с ней подружились, вечерами подолгу говорили. Она окончила гимназию, много читала, я тоже неплохо знал классическую литературу. Сближала нас и революционная тема – ее братья были революционерами, ссыльные часто гостили в семье, и все это перекликалось с моим собственным жизненным опытом. Отец их был лесничим, мать – учительницей, оба дети крепостных. Их старшая дочь, коммунистка, была в Красной армии, сын работал в Сарапуле уездным агрономом, другая сестра – медсестрой в госпитале. Словом – интеллигентная, трудовая семья[116]116
Главой семейства, о котором идет речь, был Николай Филиппович Сосунов (1861 1922) – дворянин, статский советник, до 1917 г. смотритель казенных лесов в Вологодской губернии. Его жена – Ольга Николаевна Сосунова (в девичестве Теплоухова, 1869–1957) – учительница, дочь инженера, племянница «отца русского лесоведения» А.Е. Теплоухова, сына крепостного графов Строгановых. В семье Сосуновых было восемь детей – четыре сына и четыре дочери. Двое из сыновей – Константин (1893–1918) и Алексей (1895–1914) – погибли на фронтах Первой мировой войны (Алексей, профессиональный художник, ушел воевать добровольцем). Агроном, которого упоминает мемуарист, – это Николай Николаевич Сосунов (1897–1944), погиб в лагере. Старший сын Григорий Николаевич Сосунов (1891– около 1937) – журналист, писатель и поэт (литературные псевдонимы «Г. Вельский», «Лейтенант Грис»), в студенческие годы, как член партии социалистов-революционеров, бывал в ссылке, в годы Гражданской войны активный участник белого движения, также погиб в сталинском лагере. Упомянутую старшую дочь Сосуновых, члена коммунистической партии, звали Марией (р. 1889), медсестрой в санитарном поезде в годы Гражданской войны работала дочь Анна (р. 1899). Летом 1919 г. в Сарапуле И.П. Павлов познакомился с Ольгой Николаевной Сосуновой и ее младшими дочерями – Серафимой (1901–1974) и Ириной (1903–1992).
[Закрыть]. Сама Сима работала в уездном продовольственном комитете, а ее отец – в лесном отделе.
Смущало меня другое. Мне было 29 лет, и я прошел большой и сложный жизненный путь. Сима же была совсем юной 18-летней девочкой. В общем, я опасался, что для нее уже стар. Забавно, но в меня была влюблена и младшая Ира – черноглазый 16-летний бесенок. Как я потом от нее же и узнал, она тайком бегала в мою комнату нюхать подушку – я любил хороший одеколон и пользовался им при бритье. Каждый день я находил у себя на столе тарелку крупной клубники, посыпанной сахаром и с клубничными листьями по краям. Было красиво и вкусно. Откуда она бралась, мне Сима не говорила и уже после призналась, что они ее делали вместе с младшей сестрой. В общем, я сдружился с этой семьей.