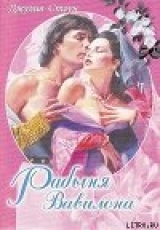
Текст книги "Рабыня Вавилона"
Автор книги: Джулия Стоун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
Глава 33. ЗАТМЕНИЕ
Миновала ночь. Прошло утро. Солнце стояло высоко в белом небе. Душно было и тревожно, ветер дул из пустыни. Проснувшись, еще не открывая глаз, принцесса Шаммурукин ощутила запах его кожи. Он принадлежал другому миру, за пределами дворца, широкому, бегущему все к горизонту и горизонту, где бежевый, оранжевый, красный воздух, где фиолетовый свет очерчивает четкие границы, в тени мир меняет масть, пылит конница, идут пешие воины, втягиваясь в долину между скал, в стеклянном воздухе плывут орлы.
Принцесса приподнялась, осторожно выбралась из-под руки спящего Авель-Мардука. Яркий солнечный свет заливал спальню, совсем лишая предметы теней. Все лампы были потушены. На столе сверкали бликами свежие фрукты, серебряный сосуд с вином наполнен до краев. Он не проснулся, но Шаммурукин показалось, что ресницы его дрогнули.
Все, что о нем говорят, не может быть правдой. Она знает его лучше других, знает даже его кровь на вкус. Авель-Мардук подобен льву. Кто сравнится с ним? Под его рукой Вавилон еще более усилится. Принцесса стала на ложе в полный рост – вся раскрытая, нагая, с широкими бедрами, тяжелой грудью в узорах татуировки. Темные волосы с ранними прядями седины спускались до колен. С улыбкой любовалась она своим мужем.
Он схватил ее за щиколотку, открыл глаза.
– Я хочу пить, – смеясь, сказала она и попыталась вырваться.
Прищурившись, он глядел на нее снизу вверх, голую, податливую, будущую царицу. Ресницы рассеивали свет, очертания ее фигуры размывались – большое, прекрасное тело. Она снова засмеялась. Он ударил ее под колено, Шаммурукин рухнула на него, как срубленный кедр, и он принял ее в объятия.
После, оставляя ее, смятую, со следами укусов на груди, он сказал:
– Ты отличаешься от других женщин тем, что не отнимаешь силу, а даешь.
Шаммурукин лежала на животе, подперев кулаком подбородок, и широко ему улыбнулась, обнажая крупные острые клыки. Блестящие миндалины глаз истекали слезами.
В роскошной колеснице, запряженной шестеркой лошадей, в окружении конных гвардейцев Авель-Мардук ехал по широким улицам Старого города. Вавилон был как настороженный волк, – знал, чего ожидать.
Идин с тревогой посматривал на принца. Лицо Авель-Мардука было суровым, он ни разу не взглянул на друга. Астролог сообщил точное время начала затмения. Принц решил покинуть дворец, быть с народом, дабы никто впредь не смог обвинить его в трусости.
Толпы людей бежали к Эсагиле. Завидев кортеж властителя, падали ниц. До затмения оставалось совсем мало времени. Ворота храма были наглухо закрыты. Из-за стен доносилось заунывное пение. Несметная толпа кипела, осаждая храм, заполняла собой центральные кварталы.
Кортеж остановился. Идин, натянув поводья, склонился к уху принца.
– Прикажешь отпереть ворота, господин?
– Нет, я останусь с моим народом. Жрецы не ждут меня, – ответил Авель-Мардук.
Идин побледнел.
– Господин, посмотри, что творится вокруг. Как только солнце исчезнет с неба, они набросятся на тебя. В храме будет безопаснее.
– Народ должен знать, что он не брошен. Затмение продлится несколько мгновений.
– За это время они успеют убить тебя. Смотри, страх ослепил их. Они не видят ничего, кроме страха.
Внезапно на землю упала тень, пронеслась фиолетовым крылом над городом, обрубая квартал за кварталом. Толпа дохнула жаром, отхлынула от стен храма. Черный диск наползал на солнце, мерк свет. Оцепенение прошло, где-то в утробе гигантской толпы зарождался вопль.
– Освободить мечи! – закричал Идин гвардейцам. – Командующий в опасности!
Гвардейцы, растерянные, бледные, сомкнули кольцо вокруг колесницы. Шум нарастал, крик, вой неслись со всех сторон. Солнце стало похоже на растущую луну, сумерки сгущались. В толпе началась паника. Люди пытались влезть на стены храма, срывались вниз. Тех, кто в давке не удержался на ногах, затаптывали насмерть.
Тьма накрыла великий город. Не стало ни дворцов, ни храмов, ни торговых путей. В небе висел черный диск в огненном ореоле. Люди в суеверном ужасе бросались на землю, волны безумия накатывали одна за другой. В толпе проповедовали конец мира, знаком которого явилось затмение. И кто-то, наконец, закричал:
– Вот он, демон! Убейте его! Не быть ему царем, он несет Вавилону несчастье. Убейте, убейте, убейте!!!
– Отпереть ворота! – во все горло закричал Идин. – Именем правителя Вавилона!
Песнопения за храмовыми стенами были ответом командующему конницей. Гвардейцы ринулись вперед, рассекая толпу. Ударили в ворота. Ужас гнал людей; гнев толпы сосредоточился на колеснице наследника. Люди были готовы душить, рвать зубами, терзать. Толпа вышла из повиновения, превратилась в абсолютное зло, многоголового монстра, вырвавшегося на свободу. Гвардейцы защищали принца, хлынула кровь.
– Ломайте ворота! – кричал Идин. Теплая, сладкая кровь заливала его лицо – камень, пущенный из пращи, рассек кожу на лбу: – Гвардейцы, защищайте принца!
Авель-Мардук стоял в колеснице с обнаженным мечом в руке. Кони испуганно ржали и рвали упряжь. Толпа кипела, как смола в котле. Принц не мог поверить, что все это происходит на самом деле.
– Убейте Авель-Мардука! Убейте демона! – кричали отовсюду.
В какой-то момент он увидел, что на другом краю площади разыгрывается такая же кровавая драма. Там, по-видимому, наводил порядок Син-иддинам со своей легкой фалангой.
Сумрак постепенно разжижался, как кровь в реке. Темнела душа принца, сердце запекалось черной злобой. Ворота храма раскрылись сами. На орущую, залитую кровью площадь вышли жрецы, неся штандарты с изображением Мардука и старших богов. Изваяние дракона покачивалось на плечах служителей. Первые лучи солнца упали на его позолоченные рога. Покаянные псалмы смолкли, как только изуродованная колесница предстала взорам жрецов. Площадь была усеяна телами убитых и живых, боящихся глядеть на новый день.
Авель-Мардук был ранен. С омерзением глядел он вокруг и не верил глазам своим. И тогда Варад-Шамаш, новый верховный жрец Эсагилы, первым упал ничком на землю. Как снопы колосьев полегли вслед за ним и другие служители. Один золоторогий дракон стоял перед принцем. Многие из гвардейцев погибли. Идин был убит.
Авель-Мардук приказал положить его тело на колесницу и сам правил. Солдаты расчищали дорогу. Сиял день, снова ветер летел из пустыни, солнце накаляло камни города. На площади перед храмом поднимался плач.
Лошади шли медленно. Слезы высыхали на лице принца соляными дорожками. Он не смотрел на Идина, знал, что, не вынесет его мертвого лица. Но друг был еще рядом, последние мгновения. Гигантский комплекс Южного дворца встал перед ним.
– Слишком высокую цену приходится платить, – сказал как-то Авель-Мардук.
– Да, но это цена за право принадлежать к царскому роду, – отозвался Идин. – Знаешь, я бы так не смог. Слишком большая ответственность. Но, может быть, тебя это утешит…
– Что?
– Никто ни в чем не виноват.
Когда это было? Была зима, шли дожди, тучи ползли по наклонному скату серого неба, отшлифованного до глади, до звона в сердце. Тонкие шторы трепетали от ветра, в комнату с открытой террасы летели брызги – мелкий бисер брызг, разбивающихся о мраморные скульптуры. Краснел огонь светильников, обгорелый папирус лежал в чаше. Идин обернул к нему гладко выбритое лицо – светились глаза, и губы были точно выпиты женщиной. Идин повторил:
– Никто и ни в чем.
Лил дождь. Земля пьянела. Он целовал Авель-Мардука, его друг, его любовник – если бы только Авель-Мардук пожелал.
Но сейчас был только свет. Бесконечный день. Соль и кровь, точно мед, точно черная, жирная земля. Дворцовые ворота раскрыли зев, монументальные башни дышали жаром. Авель-Мардук стал другим. Идин был мертв.
Они стояли на террасе и глядели на черное, опоясанное огнем солнце. Казалось, даже упавшая ночь не испугала их. Иштар-умми заглядывала ему в лицо.
Адапа что-то отвечал, рассеянно улыбаясь. Но думал он совсем о другом.
– Мы прощаемся, – сказала Иштар-умми. – Скоро все умрут, и мы тоже. Вот знамение богов.
– Ты будешь жить долго, никогда не старея. Затмение скоро кончится, будет день.
– Обними меня, – попросила Иштар-умми, – так, как если бы ты меня любил. Я бы согласилась теперь умереть с тобой, тогда ни с кем не пришлось бы тебя делить.
– Я хочу, чтобы ты была счастлива, – сказал Адапа.
– Спасибо. Но это делу не поможет. Все равно, спасибо.
Было что-то неестественное в том, как они стояли, обнявшись, у самых перил, точно над пропастью. Иштар-умми больше не плакала, она притихла, затаилась. Запоминала кожей, чуткими пальцами его тепло, его запах, быструю линию профиля – как красиво сбегает линия от губ к подбородку и, ниже, к шее – облик его совершенен.
Иштар-умми вспомнила дни перед свадьбой. Это была другая, счастливая пора, ибо само ожидание счастья в какой-то мере им является. Она ждала Адапу, полюбила с первого взгляда.
– Жаль, что ничего не вышло.
– Жаль. Ты прости меня, если сможешь, – сказал Адапа.
– Спасибо за нежное прощание. Тебе это не нужно, я знаю. Это нужно мне. На твоего отца смотреть страшно.
– Он зол, – Адапа пожал плечами.
– Может быть, вы еще помиритесь?
– Вряд ли, – Адапа покачал головой. – Он не простит того, что я поступил, как хотел.
Стало светлее. Воздух был сер, как пепел; во всем чувствовался вкус пепла, время остановилось, сталкиваясь с самим собой, пошло вспять. День свалился на землю внезапно. Иштар-умми выскользнула из объятий Адапы.
Глава 34. ПРЕКРАСНЫЙ И ЖЕСТОКИЙ ГОРОД
Был ранний вечер, воздух дрожал над землей, рыбацкие лодки с уловом подходили к пристани, другие собирались отчалить, рябь Евфрата вспыхивала в поперечных золотисто-оранжевых лучах солнца, когда Ламассатум открыла глаза. Был именно тот ранний вечерний час, когда все возможно: и возрождение, и обдуманное, окончательное, ничем не оправданное самоубийство.
Все, кто находился в этом странном месте, были лишь тенями – вечер принадлежал ей. Ламассатум обвела взглядом комнату, много-много раз во сне она видела ее. Старуха сидела у стены, перебирала крупу. Ламассатум ее знала. Знала она так же и то, что старуха больна и одинока, лечит заговорами, что дочь ее торгует собой и очень медленно умирает от постыдной болезни, что с ней самой что-то случилось.
Она очень хорошо помнила лодку, въевшийся' навек запах рыбы. Потом лодка часто ей снилась. По неписаным законам сновидений лодка представлялась то дорогой, то унылым мулом с воспаленными глазами, то башмачком ребенка, но Ламассатум точно знала – это она. Лунная ночь и тихий плеск воды… и эта комната, где-то на полпути к смерти.
Ламассатум вновь взглянула на старуху. Та, положив руки на согнутые колени, глядела на нее.
– Чего ты хочешь? – проскрипела старуха.
Голос этот Ламассатум слышала много раз. Там, в пеленах бреда, он был иным, он был как блеск на прибрежных камнях. Ламассатум облизнула губы.
Вода была теплая, внутри кружка пахла плесенью. Ламассатум все вспомнила: как стояла над кружащейся водой, как погружалась в ее темную глубину. Вот только не знала, что делать теперь.
– Давно я здесь? – прошептала она.
– Восемь дней, – ответила старуха и вздохнула. – Ах, Ламассатум, Ламассатум.
– Откуда знаешь мое имя?
– Река подсказала.
– А что еще сказала река?
– Любовь и беда рядом ходят. Живи, мотылек, рано еще, рано…
– Не говори мне о любви.
– Язык заставить замолчать всегда легче, чем сердце.
– Ты – колдунья?
– Я – старая женщина, а это само по себе немало.
– Я все помню. Ничего не скрывай от меня, хорошо? У меня был ребенок.
– Был. А теперь не будет.
– Как это?
– Известно, как.
Старуха занялась крупой. Потрясенная, Ламассатум не знала, что сказать, медленно и осторожно, как по чужому ландшафту, бродила холодными пальцами по плоскому животу.
– Мне, наверное, пора уходить, – сказала, наконец, Ламассатум.
Старуха не ответила.
– Мне, правда, заплатить тебе нечем. Разве что вот, браслет…
Ламассатум поразилась, с какой легкостью она предложила браслет старухе. Неужели это конец, неужели она готова забыть, уже забыла, и только какие-то куски, осколки, хлам… Не может быть! Она закрыла глаза. Вот перед мысленным взором Адапа. «О, Адапа, моя любовь, моя награда за все, за все! Я не одна в этом мире, никогда не буду одинока, ты – со мной». Ламассатум открыла глаза и приподнялась на локтях, хотела сказать что-то, слезы душили ее. Старуха покачала головой.
– Зачем мне твой браслет? За тебя мне заплатили. Да еще как! Год будем жить с моей дочкой.
– Как заплатили? Кто?
Живо представила Нингирсу, старого, похотливого, хитрого лиса – полную противоположность Адапы. О, боги, нет, только не он!
– Твой спаситель.
– Какой спаситель? Как его имя?
– Известно, какой, не сама же ты выплыла. А имя не спрашивала, на что мне.
– Мне уходить пора, бабушка, спрятаться. Я ведь от господина своего сбежала.
Старуха вытаращила глаза.
– Ну и дела. На рабыню ты не похожа.
– Я наложницей его была.
– А сбежала зачем?
– Не люблю его.
Старуха только охнула.
– Стемнеет скоро, – сказала она. – Тогда уходи. Дочка моя проведет тебя берегом, потом к каналу, а там до предместий рукой подать. У тебя, наверное, клеймо?
– Нету. Он не хотел.
Дверь лачуги отодвинулась, брызнул розовый свет Мужчина, темный его силуэт, показался в проеме и отступил. Ламассатум закрыла лицо ладонью. Крупная, но изящная кисть руки, алая от закатного солнца. Она сама виновата. Она во всех мужчинах искала Адапу и неизменно теряла возлюбленного в них.
– Кто это? Кто там? Кто там, у двери? – повторила она и не могла встать, не могла посмотреть, не могла убедиться, что это не он.
Старуха наклонилась к ней, влажно, дымно зашептала в самое ухо:
– Он тебя из реки вынул. Не бойся.
– Что ему нужно?
– На тебя посмотреть пришел.
Она слышала его тихие, осторожные шаги. Косой солнечный луч забежал вперед, деля хижину на две неравные части. Он присел на корточки, невесомая его тень легла на одеяло. Знакомое молчание, запах сандала, слишком явственный, чтобы быть обманом. Столько звоночков, намеков, инициалов чуда: Ламассатум взглянула на него.
Адапа сидел перед ней, сцепив пальцы в замок. Он был бледен, темные, глаза остановились на ней с неизъяснимым выражением нежности – так может смотреть мужчина, который любит. Он был без шапки, волосы волной лежали на плечах, на лбу появились длинные поперечные морщины, которых раньше не было. Это был новый Адапа, повзрослевший, сильный, и она вмиг узнала его и поверила уже до конца.
Они молча глядели друг на друга. Пыль плясала в лучах, множество звуков, которым не знаешь объяснения, летели с улицы.
– Мне все время казалось, что ты рядом, я слышала тебя, – сказала Ламассатум.
– Я приходил, – отозвался Адапа.
– А теперь ты уйдешь, оставишь меня?
– Никогда, – он покачал головой. – Буду с тобой, если захочешь.
– Захочу ли я! – воскликнула Ламассатум, всплеснув руками. – Захочу ли я, беги! Я люблю тебя, маловер, люблю так, что жизнь мне без тебя не жизнь.
Он глядел на нее, тихо улыбаясь. Ламассатум улыбалась в ответ. Адапа потер рассеянно щеки, подбородок, выбритый с утра, но теперь шершавый, как точильный камень. «Какая она худенькая, какие глаза – черные, в золотом ореоле, как вчерашнее солнце. Как я жил почти два месяца, не видя ее? И мог потерять навсегда. Но она жива, хвала богам».
– Говорят, чудес не бывает, – сказал Адапа.
– Что?
Он покачал головой.
– А твоя жена? Какая она? Ты счастлив? Ты снова пойдешь к ней? Оставишь меня…
– Ламассатум, – спокойно проговорил Адапа. – У меня больше нет жены, и не может быть никого, кроме тебя.
– Но твой отец не простит.
– Я говорил с ним. Прощать меня или нет – его дело. Но ему придется принять все, как есть. Я долго играл по его правилам, был послушным сыном. И что из этого вышло? Одни несчастья.
– Ты отпустил жену? – в глазах Ламассатум отразились страх и надежда.
– Иштар-умми умная девушка. А время залечит.
– Вот ведь как у вас славно получилось, – сказала старуха, которая все это время была здесь и о которой они позабыли. – Все-таки иногда богам надоедает пакостить, и они ведут влюбленных по одной тропе.
Она поднялась с пола и пошла вон из хижины, задвинув поплотнее дверь. Они услыхали ее веселый возглас – старуха приветствовала кого-то. Мир отгородился ширмой, отодвинулся.
Он обнял ее, они целовались долго, с открытыми глазами.
– Что теперь будет, Адапа? Я сбежала от моего господина, от Нингирсу. Он не простит. Пойдем к твоему отцу?
– Нет, он не захочет нас видеть. Сильных врагов мы нажили, – осмелившись любить. Мы поедем в Ниппур. Там есть высшая храмовая школа, которая ничуть не хуже вавилонской. Средства на жизнь у меня найдутся. Купим застроенный домовый участок у ворот, никто не будет нам мешать. Я сделаю тебя своей супругой.
– Ты не можешь жениться на чужой рабыне.
Адапа прижал ее к себе.
– Бедная, что тебе довелось пережить! Не знаешь, что ты теперь моя. Я купил, тебя у жирного Нингирсу уже в те дни, когда ты лежала здесь без памяти. Он принял деньги, а наутро объявил мне, что ты сбежала. Каков плут! Но слава бессмертным богам, что существуют такие мошенники! Ламассатум, ты – моя, по закону, купчий документ у меня есть. Ничего не бойся.
Она, наконец, счастливо рассмеялась.
– Ты проведешь в этой хижине еще одну ночь, – продолжал Адапа. – Утром я приду за тобой, мы покинем Вавилон навсегда.
– Не уходи! – Ламассатум схватила его за руку. – Что я без тебя? Кто я? Останься до утра, и пойдем вместе, куда захочешь. Я – твоя тень. Не могу без тебя.
– Еще не все дела завершены, и ты слаба. Ложись, поспи.'Уже темнеет, ночи весной короткие. Ты не досмотришь первого сна, а я уже буду здесь.
Они прощались на пологом берегу, на косе, вдававшейся в реку. На западе горело небо, но солнца уже не было, лишь его расплавленный край вздрагивал в небе. Река была в огне. Пристань чернела, расслоившись на две, плыла, как гуффа, в сонных водах. Они не смотрели в ту сторону, в мыслях они уже были далеко отсюда, по дороге в Ниппур.
– Уйдем из этого города, заживем по-новому, милая, ты забудешь слезы, никогда не вспомнишь. Прощай, любимая, до завтра. Скоро снимут настил с моста, мне нужно успеть на тот берег, – сказал Адапа.
Ламассатум кивнула, стараясь не плакать. И все то время, пока он шел по берегу, быстро удаляясь в сгустившихся сумерках, она молилась шепотом, просила у богов выдержки и мужества, чтобы не закричать, не броситься следом.
В большом тронном зале горели сотни светильников. И даже ниша в задней стене, где на возвышении стоял трон, была освещена. Царь не любил этого, но сегодня приказал зажечь лампы. Навуходоносор изменился, исхудал, желтая кожа на щеках обвисла. Он был молчалив и очень болен. Но все еще оставался царем. И это не давало ему права стать слабым, раскрыться перед другими, оголить свою немощь. Навуходоносор был спокоен и суров в продолжение суда, длящегося уже третий час. Царь почти не обращал внимания на судей, на принца, который, чтобы скрыть волнение, прохаживался перед троном.
– Вот о чем ты толкуешь, – спокойно возразил Навуходоносор. – Да, твой предшественник возвел меня на трон, но честью быть правителем Вавилона я обязан своему отцу, Набопаласару. А ведь и ты, жрец, клялся служить опорой царской власти, уважать правящую династию. А что это означает? В первую очередь – признавать законного наследника трона.
– Оставь свои нечестивые речи, – отозвался Варад-Син. – Если заговор существовал, значит, на то была воля богов.
– Легко быть безответственным, имея за спиной такую поддержку. Будь у меня время, я, быть может, тоже оставил управление государством и занялся богами. Ты высоко взлетел, верховный жрец Эсагилы, но крылья твои сломаю я.
– Ты волен делать все, что пожелаешь, но ты всегда был милостив.
– Да, это так, жрецы купались в моей милости, как в водах благодатного Евфрата. И о тебе я знаю больше, чем ты думаешь. Прощал… Но жертвой интриг мог пасть Авель-Мардук и больше – Вавилон! С тебя, как с главного из заговорщиков, спрошу по всей строгости.
Навуходоносор поднял правую руку, костистым кулаком погрозил потолку.
Авель-Мардук, скрестив на груди руки, стоял на ступенях. Ненавистью горели его черные глаза. Варад-Син вытер рукавом лоб, он понял – это конец. Нинурте вчера перерезали горло, и всю ночь в окровавленном платье он стоял перед ним и смеялся.
На пыльной дороге к Ниппуру выросла крепость с обвалившимися башнями. Полосатые шатры кочевников раскинулись на равнине, в тени крепостных стен отдыхали караваны. Адапа остановил мулов, спрыгнул с повозки. В белом платье, в таком же белом прозрачном покрывале, наполняющемся знойным ветром, на свернутых коврах сидела Ламассатум. Лицо девушки было полностью скрыто. Случайный собеседник мог увидеть лишь глаза, и глаза эти лучились счастьем.
– Почему мы остановились? – спросила она.
– Вблизи таких крепостей всегда есть источники воды. Посмотри, сколько здесь народу. Колодец, по-моему, там. – Адапа взял большой кувшин. – Принесу воды. К тому же, нужно напоить мулов, придется занять очередь.
– Адапа, подожди! – воскликнула Ламассатум, удерживая его за рукав. – Постой. Стоит тебе уйти на минуту, и я боюсь, что ты не вернешься, я останусь одна, никогда тебя не найду.
Он щурился на солнце. Адапа стоял против ветра, и ветер засыпал его песком. Поставил на землю кувшин и осторожно, как дорогую алебастровую статуэтку, обнял Ламассатум, сухими губами расцеловал ее глаза. Дрожащими пальцами она гладила его лицо. Мимо проплыла легкая двухколесная повозка, напоминающая колесницу. Женщина в красном платье обернулась, долгим взглядом поглядела на девушку в белом.
– Уту-ан, останови, пожалуйста, – попросила она.
Юноша натянул поводья, кони, всхрапывая, стали.
– Что случилось? – сказал он, обернувшись. – Ты не хотела останавливаться здесь. К тому же, кони не выносят ослов и верблюдов.
– Подожди, милый, – отозвалась Анту-умми. – Взгляни туда. Вон там молодая пара, девушка в повозке, видишь?
– Ты их знаешь?
– Нет, – она покачала головой. – Эти люди мне незнакомы. Они вместе недавно и… они страдали.
– Почему ты так решила?
– Я это вижу, милый. Они очень друг друга любят.
– Так, как мы?
Анту-умми весело, белозубо рассмеялась.
– Уту-ан, любить так, как мы, никто не способен! Тебя это успокоило?
– Мне это нравится, – он тоже улыбнулся, накрыл ладонью ее руку.
– Эй! – закричала Анту-умми.
Адапа и Ламассатум обернулись.
– Пусть милость богов снизойдет на вас. Куда вы едете?
– В Ниппур, – ответил Адапа. – Нас никто там не ждет, да нам никто и не нужен.
– А мы оттуда. Купили там участок в десять cap[6]6
Сар – мера площади в Месопотамии, равная 35, 3 кв. м.
[Закрыть]. Возвращаемся в Борсиппу.
– Неблизкий путь.
– Мы несколько дней отдохнем в Вавилоне, а уж тогда в дорогу.
– А мы никогда не вернемся в Вавилон! – воскликнула Ламассатум.
– Что ж, если суждено нам жить в Ниппуре, может быть, встретимся. Прощайте!
Анту-умми помахала рукой, и красивый юноша тронул поводья.
– Ах, Вавилон, – вздохнула жрица. – Прекрасный и жестокий город.






