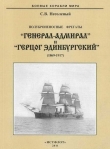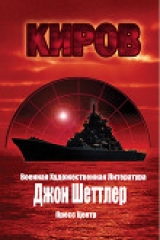
Текст книги "Киров (ЛП)"
Автор книги: Джон Шеттлер
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Часть десятая Горнило судьбы
«Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно»
– Федор Михайлович Достоевский
Глава 28
7 августа 1941 года
Крейсер «Августа» и корабли его сопровождения шли максимально возможным ходом, вдвое быстрее, чем степенные пятнадцать узлов, на которых они двигались ранее. Позади него медленно полз старый линкор «Арканзас». Два других крейсера и быстроходные эсминцы 7-й эскадры держались с «Августой». Президент спешил, и «Арканзасу» придется догонять их.
Сообщения поступали по всем каналам обмена, от разведки британского Адмиралтейства, от их Флота Метрополии, координировавшего визит премьер-министра, от Оперативной Группы 16, медленно отходящей к Сент-Джонсу на Ньюфаундленде с выжившими из ОГ-1. Капитан «Миссисипи» Джеральд Райт был вынужден бороться с желанием развернуться. Увидев обломки «Уоспа» и «Винсеннеса», он хотел немедленно направиться на север, чтобы разобраться с немецким рейдером, но возобладали более холодные головы.
Адмирал Кинг отдал ему прямой приказ отходить. Кроме того, тот также связался с базой ВМФ на Лонг-Айленде и приказал осиротевшим ударным эскадрильям с «Уоспа» перебазироваться на аэродромы вблизи Шип-Харбор на Ньюфаундленде. Это место быстро превращалось в один из самых активных военных объектов на Восточном побережье. Там уже бросили якоря более двадцати американских военных кораблей, и еще больше направлялись туда. Англичане располагали сопоставимыми силами. Они находились всего в дне пути. Боевые соединения стремились как можно быстрее доставить своих высокопоставленных пассажиров на секретную конференцию, а затем быстро выйти в море, чтобы выследить немецкий корабль. «Летающие лодки» PBY «Каталина» 7-го патрульного авиакрыла и «Маринеры» 71-й и 72-й эскадрилий действовали с Ньюфаундленда, осторожно следя за севером.
Адмирал Эрнест Кинг был шестидесятитрехлетним командующим Атлантическим флотом. Ему были ближе прозвища «Король» или просто «Рей», которые он получил, служа капитаном линкора во время Первой Мировой. Он даже видел бой, будучи наблюдателем на нескольких кораблях Королевского флота в то время. Жизненный опыт сделал его несколько подозрительным и настороженным по отношению к британцами, явно считавшим себя хозяевами Атлантического океана, а все другие корабли находящимися там с их позволения. Тем не менее, хотя Соединенные Штаты были могущественной морской державой, они еще не были готовы реально взять в свои руки Атлантику, как это делали британцы в течение многих десятилетий. Новые базы, арендованные у Великобритании в обмен на пятьдесят старых американских эсминцев были для США лучшим средством для того, чтобы продемонстрировать свою власть, и Арджентия была одной их них.
После Великой войны, Кинг некоторое время барахтался в делах подводного флота, а также на должностях, связанных с военно-морской авиацией, получив свои квалификационные «крылья» в 1927 году. В июне 1930 он был назначен командиром «Леди Лекс» – авианосца «Лексингтон». Он оставался самоуверенным человеком, несколько угрюмым и вспыльчивым, склонным к едкому соперничеству с другими обладателями больших погонов, многие из которых сильно его не любили, и, в конечном итоге оказался почти на кладбищенской должности в Комитете по общим вопросам Военно-морского флота, сборища седых старцев, погрязших в политике и дискуссиях по программам кораблестроения. Одним из немногих его союзников был адмирал Гарольд Старк, главнокомандующим военно-морским флотом, который счел, что он будет в большей степени на своем месте на должности командующего Атлантическим флотом. На эту должность он был, как некоторые говорили «помазан» в конце 1940 года.
Рузвельт однажды описал его как «человека, который каждое утро брился паяльной лампой» за его нрав и склонность молниеносно и легко выходить из себя. Как и генерал Паттон, когда что-то случалось, он неделикатно высказывался относительно «послали же сукиных детей». Он сам был одним из таковых. Его первой мыслью, когда он узнал о потоплении «Уоспа» было приказать капитану «Миссисипи» Райту немедленно найти немцев и пооткручивать им головы. Но старый друг и начальник адмирал Старк посоветовал ему проявить осторожность.
– Англичане говорят, что рейдер способен развить тридцать узлов или больше, – сказал он. – «Миссисипи» развивает не более двадцати трех, и то, если повезет. Эта задача для быстроходных крейсеров – а на одном из них находится президент, так что мы должны благополучно доставить его до пункта назначения.
Кинг неохотно согласился, отдав приказ 16-й оперативной группе отступить, но «старый сукин сын» не был рад и был полон решимости поведать об этом всем вокруг. Ранее он дал капитанам эсминцев приказ действовать агрессивно при столкновении с немецкими подводными лодками, а также составил множество планов на случай столкновения с немецкими надводными рейдерами. Он даже разрабатывал планы на случай столкновения с «Графом Цеппелином», заключив, что этот корабль будет адекватной целью для крейсеров и эсминцев в случае, если им когда-либо доведется столкнуться с ним в море.
Хотя он и относился к британской разведке с определенным подозрением, узнав, что, по мнению Королевского флота, именно этот немецкий авианосец они преследовали, он решил перехватить его первым. Он отправил вперед быстроходные эсминцы 7-й эскадры, приказав им заправиться так быстро, как только возможно и занять позицию, прикрывающую оконечность Ньюфаундленда. И приказал капитану «Миссисипи» Райту занять позицию в непосредственной близости за ними, пока не подойдет достаточно кораблей, чтобы создать адекватную группировку и начать поисковую операцию всерьез.
– Единственное, что меня сейчас волнует, – сказал он, – это чтобы мы перехватили урода раньше, чем это сделают бриты! Если они потопят этот корабль первыми, то будут кукарекать о том, как спасли американский флот ближайшие лет сто. А это меня не устраивает. Они пришли к нам с протянутой рукой, и я бы хотел заполучить на этом деле небольшой трофей для американского флота. Тогда мы сможем заняться реальной проблемой – чертовыми японцами. Если Рузвельт сумеет заставить Конгресс объявить войну Германии, то Тохо и его самурайское братство встанут в строй рядом с Гитлером. Вот где будет реальная работа для нашего флота, а не возить гарнизоны в Исландию и водить за ручку конвои.
* * *
На борту «Кирова» другой «сукин сын» также был зол. Карпов имел напряженный разговор с адмиралом, и вышел из лазарета недовольным и совершенно нерадостным. Вольский непоколебимо стоял на то, что никакие ядерные боеголовки не могли устанавливаться на ракеты без его прямого и однозначного приказа. Карпов пытался спорить, взывал к адмиралу, пытаясь заставить его увидеть логику ситуации, но тот уперся в стенку вместе с Золкиным и отказался слушать. Мало того, он приказал не вступать в дальнейшие столкновения и даже зашел так далеко, чтобы угрожать удалить его с мостика, если он продолжит настаивать, что было оскорбительно, в особенности в присутствии доктора. Все, что ему удалось выторговать у адмирала, это разрешение привести системы вооружения в готовность в случае надобности. Вольский был непреклонен.
Карпов вернулся в свою каюту, раздумывая над этим некоторое время и сокрушаясь, что не мог просто отобрать у адмирала командирский ключ и отдать его Орлову, как он надеялся. На доктора также надежды не было: Золкин определенно был на стороне адмирала, поддерживая его аргументы при любом удобном случае. Он даже зашел настолько далеко, чтобы предположить, что капитан испытывал сильное переутомление, что Карпов решительно опроверг.
Он сидел на койке, и нервное напряжение не давало ему возможности заснуть, в чем он очень нуждался. Взбучка от адмирала пробудила его старые страхи и сомнения. Ему было совершенно ясно, что недолгое командование, которым он наслаждался, заканчивалось, и вскоре Вольский снова будет нависать над ним на мостике. Напряжение последних часов было тяжело вынести, несмотря на всю решимость сделать то, что он полагал должным. Если бы он мог поспать несколько часов, пока Орлов нес вахту, это могло бы помочь ему прочистить голову.
От беспокойства и расстройства он взял книгу и лег на койку. Это были его любимые «Записки из подполья» Достоевского, которую он ранее цитировал на мостике Федорову[104]104
Вообще-то, тогда он цитировал «Преступление и наказание»
[Закрыть]. Он открыл книгу, перелистывая страницы, и его взгляд задержался на закладке, которую он сделал много лет назад, когда в последний раз читал ее всерьез.
Достоевский писал о несправедливости жизни и жестокости судьбы, сравнивая человека с домовой мышью, жаждущей немного мести.
«Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l'homme de la nature et de la verite[105]105
l'homme de la nature et de la verite– «человек в его истинной природе» (франц.). – Слова из «Исповеди» Жан-Жака Руссо (1712–1778): «Я хочу показать своим собратьям человека в его истинной природе – и этим человеком буду я».
[Закрыть]. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l'homme de la nature et de la verite, потому что l'homme de la nature et de la verite, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит, наконец, до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастная мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая то роковая бурда, какая то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений… Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку».
Он прервался с посеревшим лицом. Сейчас он спрятался в свою мышиную нору. Он знал, что хотел сделать, он знал, что должен был сделать, и, тем не менее, это было именно то, о чем говорил Достоевский. Он долго обдумывал все эти вопросы, причины и сомнения, ту же «роковую бурду», пугавшую мышь, сидевшую внутри у каждого человека. Ему было стыдно за себя, за то, что он не мог быть сильнее, чем он был. Что значили все его планы, бахвальство и попустительство, если он был не человеком, а всего лишь запутавшейся мышью? Его усталый взгляд снова лег на хорошо знакомый текст, словно ругавший его со страниц, которые он читал уже много раз.
«Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие… Пожалуй, и мстить начнет, но как нибудь урывками, мелочами, из за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется».
Это было о нем, подумал Карпов. Он забивался в мышиную нору и выскальзывал под покровом темноты, чтобы стащить у одного сыр, у другого хлеб. И, конечно, тщательно избегал всех мышеловок, уклоняясь от всего, что могло прищемить ему хвост, в особенности после «Газпрома». Он крался по большому продуваемому старому дому, в который превратилась его страна за сорок лет и все время приносил кому-то боль и страдания. И все это привело его лишь к изводящему ощущению изоляции и сомнения, вплоть до того последнего ужасающего момента, когда Вольский осадил его прямо перед доктором! Теперь он понял, что все эти годы был не человеком, а мышью. Когда дело потребовало найти в себе волю выступить против такого человека, как Вольский, он снова забился в мышиную нору, читая книгу.
Он перелистнул страницу, остановившись на моменте, где персонаж описывал свою неспособность осуществить месть своему сослуживцу и сопернику.
«Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят; физической храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости недоставало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала маркера, до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося, с воротником из сала, – не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным… Но я то, я, – смотрел на него со злобою и ненавистью, и так продолжалось… несколько лет-с! Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я, потихоньку, начал разузнавать об этом офицере… Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на двухвершковом каком нибудь расстоянии, не хватило духу».
Эти слова словно обожгли его, опалили и устыдили. Он, наконец, понял, о каком «офицере» писал Достоевский, человеке, стоявшем на последних ступенях служебной лестницы над ним, человеке, которого нужно свалить оттуда, чтобы добиться своего и занять свое законное место, место, заслуженно по праву своего ума и таланта. Североморска больше не было, а вместе с ним не стало и никого, кто мог бы привлечь его к ответственности. Судьба избавила его от этого, и поэтому он должен был пойти к адмиралу, чтобы привлечь его на свою сторону, чтобы сделать то, что было необходимо, а если этого не удастся, отодвинуть его в сторону. Но именно он сам и отошел в сторону. Он, Владимир Иванович Карпов, капитан первого ранга. Он ощущал себя бесполезным, потерянным и униженным. Униженным собственным страхом и некомпетентностью, и единственное, что он мог сделать, это обратить это ощущение в ненависть.
В ненависть не к Вольскому, не к «Папе Вольскому», родному отцу для всего экипажа, а к Адмиралу. Он не был лучше него, по крайней мере, Карпов в это верил. Это был просто человек в форме, только и всего, и убери с этой формы все звезды и полосы на манжетах, его не станет. Вольский стал для него всем, всем тем старым вонючим продуваемым домом, в котором он жил сорок лет замученной мышью. «Я сорок лет слышал тебя через трещину в полу…»
Там, в пустом и полутемном лазарете он, наконец, встретился с больным стариком и потерпел поражение, не от человека, а от формы, которую тот носил, от всех этих звезд и полос на рукавах. От формы, которая была не более чем бессмысленным пережитком страны и системы, которых более не существовало! Адмирал даже пригрозил отстранить его, отнять у него все, чего он добился и выстрадал за долгие годы существования в качестве мыши, те несколько звезд, которые он заработал сам. Что ему было нужно? У него было мало своих?
Карпов сидел некоторое время, пока привычное самодовольство не окутало его теплой пеленой, успокаивая его беспокойный ум. Это была вонючая пелена, он знал это, но привык к ней за все эти годы. Люди привыкали ко всему со времен, и он, к своему стыду, привык и к этому.
Он сидел здесь, в момент, который мог изменить всю его жизнь, и не только его – жизни всех на борту корабля и жизни многих поколений, о который Федоров так беспокоился, и все же не мог решиться. Это была последняя страшная правда, открывшаяся ему, пока он сидел в собственной норе в зловонии собственного стыда. Ему казалось, что он потерпел полный крах, который нельзя было исправить никаким образом, что он был не человеком, а мелкой подлой мышью, что это его судьба, и ее нельзя было исправить. Он не мог стать человеком, не сейчас, ни когда-либо, потому что к конечном итоге не представлял себе, что значит быть настоящим человеком. Он не мог выйти из своей темной норы на свет, который четко откроет его жалкое состояние, и поэтому он не решался. Он не видел ничего, кроме собственной тени, темного пятна на покрытой серой краской палубе. Тень вытягивалась перед ним, когда он шел по длинным пустым коридорам, и это была словно тень человека, которым он никогда не станет.
Он сжал кулаки и смог остановить эти мысли. Он все еще мог сделать то, что нужно. Он все еще мог успеть сделать все прежде, чем Вольский вернется и снова отберет у него корабль. Но затем сомнения и страхи вернулись хорошо поставленным хором. Да, он может сделать это, но что будет потом? Что дальше? Какими глазами будет смотреть на него весь остальной экипаж, все эти мыши, собравшиеся в свой kollectiv? В их глазах будет осуждение, попытка давить на него собственными представлениями о плохом и хорошем, правильном и неправильном, справедливости и несправедливости. Чем больше он думал об этом, тем более это ощущение сковывало его, пока в один момент он не ощутил, как откуда-то из самой глубины души лавовым потоком начинают пробиваться давно сдерживаемые гнев и ярость. Он перелистнул засаленную страницу, и взгляд упал на единственный ответ, который Достоевский предложил на подобную дилемму. «…Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно…».
Карпов закрыл книгу и закрыл глаза. Кто я, спросил он себя? Мышь в норе или человек? Жил ли я вообще? Он внезапно решил для себя все вопросы плохого и хорошего, не понимая, что в этот момент лишился того, на что надеялся – человек в нем умер. На его месте возникло что-то, что могло действовать, самовольно, решительно, безжалостно эффективно, но это был не человек. У этого существа не было никаких моральных ориентиров, лишь бегство от боли и долго сдерживаемая ярость. Единственное, что в нем осталось, это потаенный внутренний гнев, который медленно разгорался, угрожая поглотить его. Он принял это за прилив сил, необходимый человеку, чтобы решиться на что-то, но был не в силах понять, насколько этот порыв был далек от этого.
Капитан резко сел, а затем встал с койки. Он поднялся на нетвердые ноги и попытался успокоиться, глядя на свое лицо в зеркале над умывальником. Он инстинктивно пригладил тонкие волосы, а затем открыл шкафчик над раковиной и достал оттуда небольшую фляжку. Мало что могло принести такое облегчение, как ушедшее ощущение собственной неполноценности. Он сделал глоток водки для храбрости и поставил фляжку обратно. Затем он надел на голову Ushanka и поправил ее, просто потому, что так ему захотелось, а затем резко одернул китель, как это часто делал адмирал.
Пришло время вылезти из норы, подумал он. У него были дела, которые должны были быть сделаны, так что он решил провести еще несколько проверок прежде, чем отдохнуть. Сначала он направиться к ракетному бункеру под палубой и поговорит с этим идиотом, главным старшиной Мартыновым. Затем следовало проведать Трояка… Да, Трояк был крайне важен. Затем следовало зайти в инженерную часть и немного покрутиться там. Последняя остановка на обратном пути на мостик будет последней, или, вернее, первой на пути, который начнется, если он решиться. Он понятия не имел, что случиться после этого. Никто не осмеливался делать что-то, подобное тому, что замыслил он.
Федоров будет мучиться и беспокоится о том, что будет весь остаток жизни. Федоров думал о том, что правильно, а что неправильно, и был парализован, как он в один момент в прошлом. На что он был годен? На то, чтобы израсходовать все силы на то, чтобы закрыться своими старыми книгами по истории и защитить отдаленное будущее, которое они никогда не увидят? Каким же дураком он был! Федоров тоже был мышью, забившейся в нору.
А что же Орлов? Орлов понимал, что будет, возможно, больше, чем любой другой человек на этом корабле. Он понимал это инстинктивно, рефлекторно. Он просто слишком хорошо понимал, что значит жить с зубной болью, и знал, какое облегчение наступает, когда она проходит.
Глава 29
– И проконтролируйте, чтобы все «Москит-2» были дважды проверены и все использованные пусковые снаряжены новыми ракетами, старшина Мартынов, – приказал Карпов.
– Все пусковые будут готовы в течение часа, капитан.
– Да уж, постарайтесь, – капитан понизил голос и подался к старшине, чтобы никто из членов экипажа в погрузочной зоне не мог слышать, что он говорил. – А что касается пяти специальных боевых частей, убедитесь, что все они готовы.
– Пяти, капитан? Но мы приняли только три.
– Да, конечно. Три. Я думал о другом. Учитывая характер операции, наилучшим выбором мне представляется MOS-III. Ракета номер десять была проверена дважды? – Карпов полагал, что боеголовки совместимы с каждым из трех типов ударных ракет, которыми был вооружен корабль. MOS-III представляли собой высокоскоростные гиперзвуковые ракеты, размещенные в трех вертикальных пусковых установках по три ячейки каждая. Десятая ракета находилась в отдельной пусковой установке с контрольными пломбами и дополнительной защитой. Он хотел быть уверен, что боеголовка находилась на ней, а не в ядерном погребе[106]106
Никакого ядерного погреба на крейсерах проекта 1144 нет – как уже было сказано, современные корабли снаряжаются ракетами на базах, то же касается и боевых частей. Элементарно потому, что и для того и для другого нужен кран и место, а на борту кораблей с этим напряженка
[Закрыть].
Старшина был один из немногих на корабле, не считая адмирала Вольского, кто имел сведения о ядерном арсенале. Точное количество и мощность боевых частей хранились в запечатанном конверте в сейфе, который мог быть открыт только одновременно ключами капитана и адмирала. Однако старшина должен был обеспечивать хранение самих боеголовок, и потому также располагал этими сведениями, под присягу никогда и ни с кем не говорить о них. В нормальных обстоятельствах он не стал бы обсуждать эти вопросы даже с Карповым, но капитан определенно знал, о чем говорил. Он занервничал.
– Прошу прощения, капитан. Ракета номер десять?
– Верно, – сказал Карпов твердым хорошо поставленным голосом.
– Но мне необходимо разрешение от…
– От командира корабля – он перед вами, Мартынов. Вы не слышали? – Быстро оборвал его Карпов. – Адмирал болен. Он доставлен в лазарет и его состояние вызывает вопросы. Так что выньте пробки из ушей и слушайте. Я принял полное командование кораблем, Орлов назначен моим старшим помощником. Мне следует приказать ему подтвердить приказ? Он не будет рад. Просто сделайте то, что вам сказано, старшина. Соблюдайте все процедуры и правила техники безопасности. Убедитесь, что система управления запуском настроена на требование вставки командного ключа. Однако, учитывая обстоятельства, а именно то, что адмирал не в состоянии исполнять свои обязанности, у нас нет времени на тонкости правил мирного времени. Установите систему на положение один.
– Я понимаю, товарищ капитан, но он установлен на положение два, и мне потребуется надлежащее разрешение, чтобы произвести перенастройку. – В норме требовались оба ключа, чтобы включить командный модуль, посредством которого можно было ввести код активации боеголовки.
Карпов снова ощутил, что закипает, но сдержался.
– И время уже не мирное, Мартынов. Это война, или вы думали, что мы просто выпустим несколько ракет и они от нас отстанут?
Карпов просто похлопал его по плечу.
– Это прямой приказ. Не беспокойтесь. Все под мою и только мою ответственность. Закончите все до 18.00 или нам всем не поздоровится. То же самое касается П-900. Подготовьте ракету номер десять. – Пусковые установки ракет П-900 или SS-N-27 «Клуб» или «Сиззер» по классификации НАТО располагались на носу, впереди батареи «Москит-2»[107]107
Ракеты «Калибр» применяются из пусковых установок УКСК, имеющих восемь ячеек, так что их количество должно быть кратным восьми. Кроме того, П-900 – это противокорабельная модификация 3М-54, тогда как модификация для ударов по наземным целям – 3М-14
[Закрыть]. В отличие от гиперзвуковых высотных MOS-III это были дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям, хотя на терминальном участке они переходили на малую высоту и скорость Мах 3.
Карпов снова похлопал старшину по плечу и спешно удалился, не желая давать тому увиливать. Он знал, что у него оставалась также боеголовка для ракеты «Москит-2», но он решил приберечь ее на некоторое время. Всегда было важно иметь запас.
Три боеголовки, подумал он. Всего три. Этот дуболом Мартынов наилучшим образом выполнит его приказ. Все сводилось к тому, что им было нужно больше огневой мощи, а ракеты должны были быть установлены и готовы к пуску. Он понимал, что только что пересек очень опасную черту. Если адмирал Вольский пронюхает об этом, он без сомнения отстранит его от командования и отдаст под трибунал. Тем не менее, то же самое наставление, которое он дал Мартынову, укрепило и его. Это была война. Момент был решающим. Он должен был делать то, что было необходимо, несмотря на приказы Вольского. Если время покажет, что он был неправ, он столкнется с последствиями, но не сдастся без боя.
Он вылез из норы, и уже был не мышью, а чем-то большим – крысой, пробравшейся в недра корабля и принявшейся грызть проводку. Да, он грыз проводку… Он выиграл битву внутри самого себя, по крайней мере, он в это верил. Теперь он должен был победить Вольского. Затем он вступит в бой с британцами и американцами, и закроет этот вопрос навсегда.
С этой мыслью он направился к кубрику морской пехоты за сержантом Трояком и его людьми. Стук его ботинок по палубе придавал ему уверенности, вызывая в уме картину того, как он встретиться в сопровождении почетного с Рузвельтом и Черчиллем. Пока же следовало прощупать твердокаменного сержанта и проверить, как тот отреагирует в случае реального кризиса на корабле.
– Добрый день, сержант.
– Капитан, – Трояк вытянулся по стойке смирно, как и двое его бойцов.
– Вольно. Я просто хотел поблагодарить вас за ваши действия на Ян-Майене. Информация, которую вы заполучили, оказалась очень полезной.
Трояк не нуждался в комплиментах, но кивнул и поблагодарил капитана из вежливости. Операция была простой разведкой – быстро пришли и ушли. Не о чем было говорить.
– Ситуация сложилась несколько запутанная, – сказал Карпов. – Некоторые офицеры могут иметь трудности с пониманием того, что случилось, и нужно найти способ решить проблемы с ними. Они могут реагировать непредвиденным образом на боевую обстановку. Я верю, что вы и ваши люди всегда останутся дисциплинированными и ясно мыслящими. Это поможет нам в ближайшие дни держаться на ровном киле.
Трояк слушал его с каменным выражением лица. Сибиряк был сильным и грубо отесанным человеком, никогда не выражавшим никаких собственных соображений. Мыль о том, что его подчиненные способны проявить расхлябанность не представлялась ему возможным. «Киров» был военным кораблем, а он был главой воинов. Это было все.
– Я думаю, вы меня понимаете, – надавил Карпов.
– Капитан, десантная группа готова к бою и каждый боец готов к исполнению своего долга.
– Благодарю, сержант. Имейте в виду, что я могу нуждаться в вас. Нам предстоят трудные дни и трудный выбор. Кто-то может спасовать перед боем, но вы и я найдем свой путь. Верно? – Капитан искоса посмотрел на него, затем морпехи отдали ему честь и он удалился.
Трояк нашел последнюю реплику странной. Вы и я? В какой-то мере его передернуло от мысли, что Карпов считал себя человеком из того же теста, что и морская пехота. Он позволил себе саркастически улыбнуться, а затем вернулся к чистке с смазке своего автомата.
Карпову оставалась последняя остановка. Он проверил все, что имело значение, все свое оружие в надвигающемся сражении. Оставалась только одно. Он обещал Орлову, что решит проблему с Вольским, и встреча в помещении технического обслуживания под предлогом проверки перенастройки ракет была идеальным прикрытием. Пока он был там, он захватил кусачки и несколько навесных замков. Затем, когда он незаметно прошел к лазарету, его сердце вдруг забилось чаще оттого, что он понял, что ему делать. Пришло время перегрызть последний провод…
Он знал, что это был край пропасти. Приказ, который он отдал Мартынову, мог быть отменен и объяснен. Он мог снова стать мышью и уползти через трещину в полу, чтобы оказаться в своей безопасной норке. Или не мог? Что-то изменилось. Он стал чем-то большим, чем-то более темным, и каждый следующий шаг давался ему все легче. Никто не мог убедить его не делать этого, никакая причина, никакой внутренний голос.
Он слышал голоса адмирала и Золкина внутри, когда спокойно вставлял дужку замка в прорезь в запорном механизме люка, блокируя его с внешней стороны. Руки задрожали, но он заставил себя сохранить спокойствие. Замок тихо щелкнул. Он взял кусачки и потянулся к толстому серому кабелю внутренней системы связи, и когда они щелкнули, перерезая провод, что-то словно щелкнуло в его голове. Вольский был последним остатком власти, которую имели те старые люди в темно-синих пальто, той старой системы, оставшейся в Североморске. Однако этот же звук означал и то, что он сломал последнее звено. Дело сделано. Он перегрыз последний провод. Он твердо встал на свой путь, к добру или к беде.
Он глубоко вздохнул и вслушался, но голоса по другую сторону двери продолжали спокойный разговор. Вольский и врач были заперты в лазарете, и капитан пошел прочь, стараясь идти как можно тише и радуясь, что никто из членов экипажа не видел его в этом коридоре.
Вскоре он вернулся на мостик за два часа до конца вахты Орлова. Он поманил начальника оперативной части рукой в инструктажную, закрыв за собой люк, чтобы поговорить наедине. Теснота помещения помогла ему успокоиться, словно он оказался в тихой темной норе.
– Вольский очнулся, – сказал он, тяжело дыша. Он ощутил холодный пот на лбу, даже в холоде мостика. – Доктор сидит с ним, словно наседка, и, похоже, он идет на поправку. У нас не так много времени, Орлов.
– Что вы хотите сказать?
– Вы понимаете, что я хочу сказать. Вольский не был рад узнать, что мы атаковали американцев. Он становиться мягок и нерешителен. Он говорил о том, что следует направить корабль в открытый океан. Он не видит открывшейся перед нами возможности.
– Возможно, – сказал Орлов. – Но что делаете вы, капитан? Вы ведете нас на юг прямо в гущу событий. Если бы мы повернули на восток, мы бы избежали столкновения с американцами.
– Что? Уже спелись с Федоровым? Пытаетесь меня растрогать? А, Орлов?
– Вы меня не так поняли. Мы нанесли им тяжелый урон, и теперь они на нас злы. Вы понимаете, какими будут последствия.
– Теперь говорите как Вольский. – Карпов не был счастлив это слышать. Он сложил руки на груди, а затем погрозил начоперу пальцем. – Подумайте, Орлов. Мелких воров вешают, да? Но крупные уходят. – Он имел в виду старую русскую пословицу, значившую примерно «укради три копейки, и тебя повесят, укради пятьдесят и тебя похвалят».
Капитан знал, что не оставалось места ни для каких полумер. Они атаковали как британский, так и американский флоты. Они не встретят никакого дружественного корабля в мире, ни сейчас, ни когда-либо. Он знал, что несет полную ответственность за выбор, который сделал в разгар боя, но не мог сказать, мог ли он поступить иначе. Англичане атаковали его своими кораблями и самолетами, полные решимости обнаружить и уничтожить «Киров». Капитан понимал, что поступил так, как поступил бы любой подготовленный морской офицер в подобных обстоятельствах – он оборонялся, используя все мастерство и все средства, имевшиеся в его распоряжении. Он изо всех сил постарался вцепиться в этот образ себя, используя весь свой немалый ум, чтобы оправдать свои действия, вне зависимости от того, насколько порочной была эта логика и сколько vranyo тонко вплелось в его рассуждения.