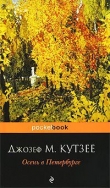Текст книги "Мистер Фо"
Автор книги: Джон Максвелл Кутзее
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
До сих пор я воспринимала Пятницу как тень и обращала на него внимания не больше, чем уделяют в Бразилии домашнему рабу. Но теперь я не могла воспринимать его иначе, чем с ужасом, какой питают по отношению к людям увечным. И мне не было утешением то, что его увечье запрятано за губами (как прячутся под одеждой и другие увечья) и что внешне он похож на любого другого чернокожего. Наоборот, сама тайна этой ущербности заставляла меня теряться в его присутствии. Я не могла говорить, когда он находился рядом, потому что постоянно думала о том, как легки и проворны движения моего языка. Я рисовала в своем воображении щипцы, сжимающие его язык, нож, вонзающийся в него, и я содрогалась при мысли, что так все и было на самом деле .Я скрытно наблюдала за ним во время еды, и с отвращением слышала его негромкое покашливание, когда он прочищал глотку, и смотрела, как он, точно рыба, жует пищу передними зубами. Я вздрагивала, когда он подходил близко ко мне, и задерживала дыхание, чтобы не чувствовать его запаха. Когда он отворачивался, я вытирала посуду, к которой он прикасался. Я стыдилась себя, но на время совсем потеряла власть над своими поступками. И жалела, что Крузо рассказал мне эту историю.
На следующий день после нашего разговора, когда Крузо вернулся со своих террас, я разгуливала в сандалиях. Но если я ожидала благодарности за труды, от которых его избавила, то я ошибалась.
– Немного терпения, и у вас была бы гораздо лучшая обувь, – сказал он.
Вероятно, он был прав, потому что мои сандалии были очень уж неуклюжи. И все же я не могла оставить его слова без ответа.
– Терпение превратило меня в пленницу, – парировала я.
На что он сердито повернулся кругом, схватил шкуры, из которых я выкроила свои сандалии, и со всей силой вышвырнул их за ограду.
Видя, что его гнев остынет не скоро, я побрела по тропинке к берегу и шла до тех пор, пока она не вывела к тому месту, где берег покрыт выброшенными волной водорослями, гниющими на солнце, и где при каждом моем шаге выпрыгивали тучи песчаных блох. Я остановилась, успокоившись. Он злой человек, сказала я себе, да и откуда ему быть другим? После многих лет уединенного и беспрекословного владычества в его королевство вторгается женщина и ставит перед ним новые проблемы. Я дала себе клятву держать язык за зубами. Меня могла ожидать гораздо худшая судьба, чем быть заброшенной на остров, которым правит мой соплеменник, причем ему хватило сообразительности выплыть на берег с ножом за поясом и чернокожим рабом в придачу. Я могла с тем же успехом оказаться в полном одиночестве на острове, изобилующем львами и змеями, или на острове, где никогда не бывает дождей, или на острове, где живет какой-нибудь обезумевший от одиночества иностранец, голый, одичавший, питающийся сырым мясом.
Преисполненная раскаяния, я вернулась к Крузо, попросила прощения за то, что без спросу взяла шкуры, и с благодарностью принялась за еду, которую оставил мне Пятница. Когда в этот вечер я легла спать, я чувствовала, как подо мной качается земля. Я уговаривала себя, что это лишь непрошеное воспоминание о качке на корабле. Но это было не так: качался сам остров в своем плавании по океанским просторам. Я подумала: это знак, знак того, что я становлюсь островитянкой. Я начинаю забывать, что значит жить на материке. Я вытянула руки и положила ладони на землю. Да, качание продолжалось, раскачивание острова в его океанском ночном скитании, несущем куда-то вдаль весь его груз: чаек и воробьев, обезьян и блох, и людей, бесчувственных в это мгновение, – всех, кроме меня одной. Я заснула, улыбаясь. Мне кажется, что я улыбнулась впервые с тех пор, как отправилась в плавание к Новому Свету.
Говорят, что Британия тоже остров, громадный остров. Но ведь это лишь географическое понятие. Земля Британии тверда под нашими ногами, чего никогда нельзя было сказать об острове Крузо.
Теперь, когда у меня появилась обувь, я принялась ежедневно бродить по кромке моря и заходила настолько далеко, насколько хватало сил. Я говорила себе, что высматриваю парус. Однако слишком часто мои глаза так неотрывно приникали к горизонту что я, убаюканная порывами ветра, ревом волн и скрипом песка под ногами, как бы засыпала на ходу. Я нашла расщелину в скалах, откуда могла смотреть на море, укрывшись от ветра. Со временем я стала думать об этом месте как своем личном убежище, единственном месте на чужом острове, которое принадлежит мне одной, хотя на самом деле остров принадлежал Крузо не больше, чем королю Португалии, или тому же Пятнице, или африканским людоедам.
Я могла бы рассказать о нашей жизни на острове подробнее, гораздо подробнее: как мы день и ночь поддерживали огонь, как мы добывали соль, как, не имея мыла, мылись золой. Однажды я спросила Крузо, не знает ли он» как сделать некое подобие свечи или лампы, чтобы нам не нужно было с наступлением темноты ложиться, словно дикарям. Крузо ответил мне такими словами:
– Что легче, научиться видеть в темноте или же убить кита и вытопить его жир для свечки?
Я могла бы ответить ему разными колкостями, но, вспомнив свою клятву, попридержала язык. Простое объяснение было в том, что Крузо не желал на своем острове никаких перемен.
Я провела на острове около месяца, когда однажды утром Крузо вернулся с террас и пожаловался на плохое самочувствие. Видя, что он дрожит, я уложила его в постель и тепло укрыла.
– Ко мне вернулась старая лихорадка, – сказал он. – Ее не лечат, она пройдет сама по себе.
Двенадцать дней и ночей я ходила за ним, я держала его изо всех сил, когда он бился в судорогах, рыдал, молотил кулаками и кричал по-португальски, обращаясь к теням, которые виделись ему во тьме. Однажды ночью, когда в течение долгих часов он стонал и дрожал, а руки его были холодны как лед, я легла рядом с ним, крепко обхватив его руками, чтобы согреть, боясь, что иначе он умрет. В моих объятиях он наконец заснул, и я забылась с ним рядом, хотя и тяжелым сном.
Все это время Пятница не предпринял даже попытки помочь мне, он сторонился хижины, точно мы оба заразились чумой. На рассвете он уходил со своим копьем; возвращаясь, он складывал добычу возле печки, потрошил и чистил ее от чешуи и затем уходил в дальний конец сада, где засыпал, свернувшись наподобие кота, или бесконечно выводил на маленькой тростниковой дудочке мотив из шести нот, всегда один и тот же. Этот мотив, который, кажется, никогда ему не надоедал, стал в конце концов настолько действовать мне на нервы, что однажды я подошла и выбила дудку у него из рук и обругала бы его, не важно, понял бы он или нет, если бы не боялась разбудить Крузо. Пятница вскочил на ноги, глаза его расширились от удивления, потому что никогда раньше я не теряла с ним терпения, да и вообще обращала на него мало внимания.
Затем Крузо начал поправляться. В глазах его пропал лихорадочный блеск, линии его лица смягчились, прекратился бред, и он спал теперь спокойным сном. К нему вернулся аппетит. Вскоре он уже без посторонней помощи ходил от хижины до сада и давал приказания Пятнице.
Я была счастлива снова видеть его здоровым. В Бразилии мне приходилось видеть, как лихорадка уносит и более молодых людей, а ведь были такие ночь и день, когда я была убеждена, что Крузо умирает, и меня ужасала перспектива остаться на острове одной в обществе Пятницы. Я полагаю, что Крузо спасли здоровая жизнь и простая пища, а вовсе не мое врачебное искусство.
Вскоре после этого разразился ужаснейший шторм, завывал ветер и дождь лил как из ведра. Порывом ветра сорвало часть кровли нашей хижины, и огонь, который мы так бережно хранили, залило водой. Мы передвинули постель в последний угол, остававшийся еще сухим, но даже пол скоро превратился в жидкую грязь.
Я думала, что Пятница будет трепетать перед разбушевавшейся стихией (такого шторма мне еще не приходилось переживать, и я жалела бедных моряков, застигнутых им в открытом море). Но нет. Пятница сидел под навесом, положив голову на колени, и спал, как ребенок.
Через две ночи и один день дождь прекратился, и мы вышли наружу, чтобы расправить затекшие спины. Сад был практически уничтожен, водой промыло ложбинку, глубина которой доходила мне до пояса. Пляж был покрыт водорослями, выброшенными крутыми волнами. Снова пошел дождь, и мы третью ночь кряду прятались от него в нашем жалком убежище, голодные, озябшие, не в состоянии развести огонь.
В эту ночь Крузо, который, как мне казалось, совсем поправился, пожаловался на жар; скинув с себя одежду, он тяжело дышал. Затем он начал метаться, ворочаться с боку на бок, точно ему трудно было дышать, и я опасалась, что кровать рухнет под ним. Я что было силы держала его за плечи, пытаясь успокоить, но он отшвырнул меня в сторону. Страшные судороги пробегали по его телу, потом он словно окаменел и в бреду повторял слова, в которых я не находила смысла. Разбуженный шумом, Пятница взял дудку и принялся наигрывать свою проклятую мелодию, и все это – дождь и ветер, крики Крузо и музыка Пятницы – воспринималось мною как безумие. Но я по-прежнему держала Крузо за плечи, утешая его, и наконец он успокоился. Пятница тоже замолк, и даже дождь стал постепенно стихать. Я легла рядом с Крузо, чтобы согреть его своим телом; вскоре он перестал дрожать, и мы оба заснули.
Я проснулась от яркого дневного света, кругом стояла непривычная тишина, шторм наконец-то израсходовал свои силы. Чья-то рука шарила по моему телу. Я была словно в дурмане, и мне показалось, что я все еще на борту корабля, в постели португальского капитана. Однако, когда я повернулась, я увидела всклокоченные волосы Крузо и его густую бороду, которую он никогда не подстригал, его желтые глаза, и я поняла, что все это правда, я на необитаемом острове вместе с человеком по имени Крузо, хотя и англичанином, но для меня таким же чужим, как какой-нибудь лапландец. Я отбросила его руку и попыталась встать, но он меня удержал. Конечно, я могла бы высвободиться, потому что была сейчас сильнее его. Но я подумала: пятнадцать лет он не знал женщины, так почему же не уступить его желанию? Я перестала сопротивляться. Когда я вышла из хижины, Пятницы поблизости не было видно, и я была этому рада. Я немного прошлась и села, пытаясь собраться с мыслями. На кустах вокруг меня сидели воробьи, они забавно вскидывали головки, не испытывая никакого страха, потому что с начала времен люди не причиняли им вреда. Нужно ли мне сожалеть о том, что произошло между мною и Крузо? Было бы лучше, если бы мы по-прежнему жили точно брат и сестра, или хозяин и гостья, или хозяин и служанка, если так можно было определить наши взаимоотношения. Случай привел меня на его остров, случай швырнул меня в его объятия. Разве в мире случая существуют такие понятия, как лучше или хуже? Мы уступаем домогательствам незнакомца или отдаемся на волю волн; в мгновение ока мы расслабляемся, теряем бдительность и погружаемся в сон; проснувшись, обнаруживаем, что ход жизни изменился. Что же такое эти мгновения ока, противостоять которым может лишь вечное, нечеловеческое бодрствование? Быть может, это те самые трещинки и щели, через которые в нашу жизнь вторгается другой голос, другие голоса? По какому праву мы затыкаем уши, чтобы их не слышать? Вопросы роились в моей голове и не находили ответа.
Однажды я прогуливалась в северной части острова, на утесе, и выследила внизу Пятницу, который тащил на спине бревно или брус не меньшей длины, чем он сам. Пока я наблюдала, он прошел по выступу скалы, уходившей в море прямо под обрывом, спустил свое бревно на воду – а в этом месте было очень глубоко – и поплыл, стоя на нем. Я часто смотрела, как Пятница ловит рыбу; он стоял на камнях, ожидая, когда под ним проплывет рыба, и тогда проворно поражал ее своим копьем. Как он собирался делать это, стоя на своем неуклюжем суденышке, оставалось неясным. Но Пятница вовсе не собирался ловить рыбу. Отплыв на сотню ярдов от выступа скалы в самую гущу водорослей, он опустил руку в мешок, что висел у него на шее, достал оттуда пригоршню белых чешуек и принялся швырять их в воду. Сначала я подумала, что то была приманка для рыбы, но нет, когда он разбросал весь запас чешуек, он развернул свою посудину и направил ее назад, к скалистому берегу, к которому и пристал не без труда из-за волн.
Снедаемая желанием выяснить, что именно он кидает в воду, я дождалась вечера, когда он отправился наполнять водой наши сосуды. Я пошарила под его матрацем и обнаружила маленький мешок с затягивающейся тесемкой, и, вывернув его, нашла маленькие белые лепестки и почки ежевики, которая как раз в это время цвела на острове. Отсюда я заключила, что он приносил жертву богу волн, чтобы тот в изобилии посылал нам рыбу, или же совершал какой-нибудь подобный языческий обряд.
На следующий день море стало еще спокойнее, и я пошла по маршруту Пятницы, по скалистому выступу, уходящему в море, пока не достигла его края. Вода была холодна и темна: меня охватила дрожь, когда я представила себя брошенной в эту глубину и пытающейся выплыть, на бревне или без него, среди обвивающих меня щупалец водорослей, где, без сомнения, затаились сепии, ожидающие, когда добыча заплывет к ним на растерзание. Не было видно и следа от лепестков Пятницы.
До сих пор я обращала на Пятницу столь же ничтожное внимание, какое уделяла бы собаке или иной бессловесной твари, – а на самом деле еще меньшее, потому что ужас перед увечьем заставлял меня изгонять его из моих мыслей и уходить, когда он приближался. Это бросание лепестков было для меня первым знаком того, что под его унылой и непривлекательной внешностью пряталась – назовите это как угодно – дух или душа.
– Где затонул корабль, на котором плыли вы с Пятницей? – спросила я Крузо.
Он указал мне участок берега, куда я еще не заходила.
– Если бы мы сумели нырнуть к его обломкам, даже теперь, после стольких лет, – сказала я, – мы могли бы раздобыть столь нужные для нас инструменты. Например, пилу или топор, ведь у нас нет ни того, ни другого. Мы могли бы высвободить и поднять деревянные брусья. Неужели никак нельзя обследовать эти обломки? Не мог бы Пятница доплыть туда или добраться на бревне, а затем нырнуть, обвязавшись для безопасности веревкой вокруг пояса?
– Корабль лежит на дне океана, разрушенный волнами и покрытый песком, – ответил Крузо. – Предметы, которые уцелели от морской соли и морских червей, не стоят усилий, нужных, чтобы вытащить их из воды. У нас есть крыша над головами, сделанная без пилы и топора. Мы спим, мы едим, мы живы. Нам не нужны инструменты.
Он говорил так, словно инструменты были варварским изобретением. Но я была уверена, что, если бы мне удалось выплыть на берег с пилой, привязанной к лодыжке, он с радостью взял бы ее и нашел ей применение.
Но позвольте мне рассказать о террасах Крузо.
Террасы покрывали большую часть склона холма в восточной стороне острова, где они лучше всего были защищены от ветра. Когда я здесь появилась, было уже двенадцать этажей террас, каждая шириной в двадцать шагов, поддерживаемая каменной стенкой в ярд толщиной и в самом высоком месте не выше человеческой головы. На каждой террасе земля была выровнена и расчищена; камни, из которых складывалась стена, выкапывали из земли или приносили откуда-нибудь по одному. Я спросила Крузо, сколько камней пошло на стены. Сотня тысяч или больше, ответил он. Тяжкий труд, заметила я. А про себя подумала: разве голая земля, выжженная солнцем и поддерживаемая каменными стенами, лучше гальки или кустарника и птичьих стай?
– Вы собираетесь расчистить весь остров от зарослей и покрыть его террасами?– спросила я.
– На это потребовался бы труд многих людей в течение многих жизней, – ответил он; я поняла, что он предпочел воспринять мой вопрос буквально.
– И что вы будете сажать, когда придет для этого время? – спросила я.
– Земледелие – не для нас, – сказал он. – Нам нечего сажать, в этом наша беда.
И посмотрел на меня с таким сожалением и одновременно с достоинством, что я едва не прикусила язык.
– Сажать будут те, кто придет после нас и у кого хватит дальновидности захватить с собой семена. Я же просто расчищаю для них землю. Расчистка земли и таскание камней – это, конечно, малая радость, но все лучше, чем безделье. – И затем с необычайной серьезностью продолжал: – Я прошу вас помнить, что не всякий изгнанник является изгнанником в душе.
Я долго размышляла над этими словами, но они так и остались для меня непостижимыми. Когда я бродила по террасам и смотрела на этого человека, уже не молодого, в поте лица под палящим солнцем вырывающего громадные камни из земли или терпеливо подрезающего траву, год за годом ожидая, когда к острову причалит некий спаситель – жертва кораблекрушения с мешком семян в лодке, я думала, что это очень глупое занятие. Мне казалось, что он с таким же успехом мог искать золото или рыть могилы сначала для себя, а потом для Пятницы, а затем, если бы такая мысль пришла ему в голову, для всех, кого высадят с кораблей в грядущей истории острова, в том числе и для меня.
Время шло, нагоняя все большую тоску. Когда я исчерпала свои вопросы к Крузо относительно террас, о лодке, которую он не хотел строить, о дневнике, который он не хотел вести, об инструментах, которые он не хотел извлечь из обломков корабля, о языке Пятницы, говорить стало не о чем, разве что о погоде. Крузо ничего не рассказывал о своей жизни торговца и плантатора до кораблекрушения. Его не интересовало, как я очутилась в Баия и что я там делала. Когда я начинала говорить об Англии и обо всем, что собираюсь увидеть и сделать, когда дождусь спасения, он, казалось, меня не слышал. Создавалось впечатление, что он хотел, чтобы его собственная история начиналась с его прибытия на остров, моя – с моего прибытия и чтобы кончились они вместе здесь же, на острове. Да и не нужно, чтобы Крузо спасся, размышляла я про себя; ведь мир ждет от искателей приключений рассказов более содержательных, чем повесть о том, сколько камней, откуда и куда они перетаскали за пятнадцать лет; спасенный Крузо оказался бы для мира страшным разочарованием, Крузо на своем острове гораздо привлекательнее, чем истинный Крузо, угрюмый и замкнутый во враждебной ему Англии.
Я проводила дни в прогулках по скалам или вдоль берега или же просто спала. Я не предлагала Крузо своей помощи в его труде на террасах, поскольку считала это глупым занятием. Я сделала себе шапочку с тесемками, чтобы можно было завязать их над ушами; я носила ее, а иногда затыкала уши, чтобы не слышать вой ветра. Так я стала глуха, как Пятница был нем; но какое это имело значение на острове, где никто не говорил? Юбочка, в которой я приплыла на берег, превратилась в рванье. Кожа моя стала коричневой, как у индианки. Я была в расцвете лет, и вот что на меня обрушилось. Я не плакала, но вдруг иногда обнаруживала, что сижу на голой земле, закрыв ладонями глаза, раскачиваюсь взад и вперед, тихо постанываю про себя, теряя представление о том, где я нахожусь. Когда Пятница ставил передо мною еду, я брала ее грязными пальцами и глотала, как собака. Я сидела на корточках в саду, не обращая внимания, видит ли кто-нибудь меня. И все время смотрела на горизонт. Не важно, кто приплывет – испанец, житель Московии или людоед, – лишь бы он вызволил меня отсюда.
Это было для меня самое тяжкое время, время отчаяния и летаргии; я была такой же обузой для Крузо, как и он для меня, когда его трепала лихорадка.
Затем постепенно я совладала с собой и стала снова заниматься немногими практическими делами. Хотя сердце мое к Крузо не потеплело, я была благодарна ему за то, что он терпел мои настроения и не гнал меня.
Крузо не искал больше интимного сближения со мной. Напротив, он держался от меня на расстоянии, словно между нами ничего не произошло. Меня это не огорчало. Хотя признаюсь, если бы я была убеждена в том, что мне суждено провести остаток своих дней на острове, я снова предложила бы ему себя, домогалась бы его, сделала бы все необходимое, чтобы зачать и выносить ребенка, потому что мрачная тишина, которой он обволок наши жизни, свела бы меня с ума, не говоря уже о перспективе провести последние свои годы наедине с Пятницей.
Однажды я спросила Крузо, существуют ли на его острове законы и если да, то какие они, или же он предпочитает следовать своим внутренним побуждениям, веря, что сердце само поведет его по пути справедливости.
– Законы создаются с одной только целью, – ответил он мне, – держать нас в узде, когда наши желания становятся неумеренными. А пока мы умеренны, в законах нет нужды.
– У меня есть желание спастись отсюда, которое я вправе назвать неумеренным, – сказала я. – Оно жжет меня денно и нощно, ни о чем другом я не в состоянии думать.
Я не хочу слышать о вашем желании, – сказал Крузо. – Оно касается иных сфер и не касается острова, оно ничем не связано с нашей жизнью. На острове нет иного закона, кроме работы ради пропитания, что является заповедью. – И с этими словами он удалился.
Ответ этот меня не удовлетворил. Если я была всего лишь третьим ртом, который надо кормить и от которого нет проку в труде на террасах, то что же удерживало Крузо, почему он не связал мне руки и ноги и не швырнул со скалы в море? Что удерживало Пятницу все эти годы, почему он не ударил своего хозяина, когда тот спал, камнем по голове, тем самым положив конец рабству и вступив в царство праздности? И что удерживало Крузо, почему он не привязывал Пятницу на ночь к столбу, как собаку, чтобы спать спокойно, или почему он не ослепил Пятницу, как поступают в Бразилии с осликами? Мне казалось, что на острове может иметь место все что угодно, любые виды тирании и жестокости, хотя и в миниатюре; и если, вопреки возможному, мы живем в мире друг с другом, то это определенно доказывает, что нами правят неведомые законы или что мы все это время следовали побуждениям наших сердец и что наши сердца вели нас по верному пути.
– Как вы наказываете Пятницу, если для этого есть повод? – спросила я однажды.
– Нет никакой необходимости наказывать Пятницу, – ответил Крузо. – Он живет со мной много лет. Он не знал другого хозяина. Он подчиняется мне во всем.
– И все же Пятница остался без языка, – сами собой вырвались у меня слова.
– Пятница потерял язык до того, как он стал моим, – сказал Крузо, с вызовом посмотрев мне прямо в глаза. Я промолчала. Но подумала: каждый из нас ежедневно подвергается наказанию. Этот остров – наше наказание, этот остров и общество друг друга до конца наших дней.
Мои суждения о Крузо не всегда были такими резкими. Однажды вечером, увидев его стоящим на краю обрыва на фоне ярко-красного заходящего солнца и глядящим в море, с посохом в руке и в громадной, конической формы шапке, я подумала: фигура подлинно королевская, он настоящий король своего острова. Я вспомнила пору печали, которую пережила, когда не находила себе места, предаваясь горестным рыданиям. Если я познала тогда горе, то насколько же глубже должно было быть горе Крузо в его первые дни на острове? Разве не справедливо считать его героем, преодолевшим невзгоды дикой природы и сразившим чудовище одиночества, вышедшим из этой схватки окрепшим?
Я когда-то полагала, видя эту фигуру на фоне вечернего неба, что Крузо, как и я, обшаривает глазами горизонт в поисках паруса. Но я ошибалась. Его прогулку на край обрыва можно было объяснить скорее стремлением забыться в созерцании бескрайних морских и небесных просторов. Пятница никогда не нарушал этого ритуального уединения; когда я однажды случайно приблизилась к Крузо, он обрушился на меня сердито и несколько дней после этого мы с ним не разговаривали. Для меня море и небо оставались морем и небом, бесполезными и унылыми. Мой темперамент не допускал любви к подобной пустоте.
Я должна рассказать о смерти Крузо и нашем избавлении.
Однажды утром, чуть больше года после того, как я стала островитянкой, Пятница принес своего хозяина с террас ослабевшего и теряющего сознание. Я сразу поняла, что на него снова обрушилась лихорадка. В ужасе я раздела его, уложила в постель и готова была отдать все силы его исцелению, пожалев, что ничего не знаю о банках и кровопускании.
На этот раз Крузо не метался, не кричал, не выдирался из рук. Он лежал бледный, как бесплотный дух, с широко раскрытыми глазами, холодный пот выступал у него на теле, губы временами шевелились, но слов я не могла различить. Я подумала: он умирает, а я не в силах его спасти.
На следующий день, точно в ответ на пристальный взгляд Крузо, устремленный в морские просторы, возле острова бросил якорь торговый корабль «Джон Хобарт», направлявшийся с грузом хлопка и индиго в Бристоль; на берег высадилась команда. Я ничего не знала об этом, пока Пятница не вбежал в хижину и, схватив свои копья для ловли рыбы, помчался стремглав на скалы, где жили обезьяны. Тогда я вышла и увидела внизу корабль, матросов, спускающих на воду шлюпку, и издала крик радости, рухнув на колени.
Первое представление о вторжении незнакомцев в его королевство Крузо получил, когда три матроса переложили его с постели на носилки и понесли вниз по тропе, ведущей к берегу; но даже тогда он, вероятно, видел все это как во сне. Но когда он оказался на борту «Хобарта», когда в ноздри ему ударил запах дегтя и он услышал поскрипывание деревянной обшивки, он пришел в себя и с таким отчаянием попытался высвободиться, что лишь нескольким сильным мужчинам удалось его усмирить и отнести вниз.
– На острове есть еще один человек, – сказала я капитану корабля. – Это чернокожий раб по имени Пятница, он спрятался на скалах с северной стороны острова. Никакие ваши слова не убедят его сдаться, потому что он не понимает слов и обделен даром речи. Поймать его будет нелегко. И все же я умоляю вас снова послать своих людей на берег; ведь Пятница – раб и дитя, и наш долг позаботиться о нем, а не бросить, обрекая на одиночество, худшее, нежели смерть.
Моя мольба о Пятнице была услышана. Новая группа под водительством третьего помощника спустилась на берег с приказом не причинять этому несчастному созданию вреда и сделать все, чтобы доставить его на борт. Я вызвалась пойти вместе с ними, но капитан Смит мне не разрешил.
Я сидела с капитаном в его каюте, съела тарелку солонины и кусок бисквита, и то и другое показалось мне необыкновенно вкусным после года рыбной пищи, выпила стакан мадеры и рассказала ему мою историю, как только что рассказала ее вам, и он выслушал меня очень внимательно.
– Все это вы должны поверить бумаге и предложить книготорговцам, – настаивал он. – Никогда еще, насколько мне известно, не было в нашей
стране женщины, высаженной на необитаемый остров. Это вызовет огромный интерес.
Я печально покачала головой.
– Мой рассказ отлично помогает коротать время, – ответила я. – Однако то немногое, что я знаю о сочинении книг, говорит мне, что все очарование исчезнет, когда он вот так прямо ляжет на бумагу. При письме всякая живость куда-то пропадает, ее может поддержать искусство, которым я не владею.
– Не могу ничего сказать вам относительно искусства, поскольку я всего лишь моряк, – сказал капитан Смит, – но могу поручиться, что книготорговцы найдут человека, который приведет ваше рассказ в порядок, и этот человек добавит кое-где несколько ярких мазков.
– Я не позволю никакой лжи, – сказала я.
Капитан улыбнулся.
– За них я не поручусь, – сказал он. – Их ремесло – торговля книгами, а не правдой.
– Лучше я буду автором моей собственной истории, чем допущу ложь о себе самой, – настаивала я. – Если уж я не могу выступить в качестве автора и поручиться за истинность рассказа, то какой во всем этом толк? С таким же успехом я могла бы все это выдумать, лежа в уютной постели в Чичестере.
В этот момент нас позвали на палубу. Группа, которая высадилась на берег, возвращалась, и, к своей радости, я увидела среди матросов черную фигуру Пятницы.
– Пятница! Пятница! – звала я, когда лодка причалила к нашему борту, и улыбалась, показывая, что все хорошо, что матросы – друзья нам, а не враги.
Но, взойдя на борт. Пятница избегал встречаться со мною глазами. С опущенными плечами и поникшей головой он ждал решения своей участи.
– Нельзя ли отвести Пятницу к его хозяину? – попросила я капитана. – Когда он увидит, что за мистером Крузо хороший уход, он, пожалуй, поймет, что никто не замышляет против него зла.
Итак, пока поднимались паруса и корабль разворачивался, я провела Пятницу вниз, в каюту, лежал Крузо.
– Вот твой хозяин, Пятница, – сказала я. – Он спит, ему дали снотворное. Ты видишь, вокруг нас добрые люди. Они привезут нас в Англию, на родину твоего хозяина, и там ты станешь свободным человеком. Ты увидишь, что в Англии жизнь гораздо
лучше, чем на острове.
Я, конечно, знала, что Пятница не понимает слов. Но я еще раньше убедилась, что он чувствует интонацию, различает доброту в человеческом голосе, когда говорящий искренен. Поэтому я все говорила и говорила, взяв его за руку, чтобы успокоить; я подвела его к постели хозяина, заставила стоять на коленях, пока на нас обоих не снизошел покой и сопровождавший нас моряк начал позевывать и беспокойно переминаться с ноги на ноту.
Было решено, что я буду спать в каюте Крузо. Что касается Пятницы, то я умолила, чтобы его не помещали с матросами.
– Он скорее будет спать на полу у ног своего хозяина, чем на самой мягкой постели во всем христианском мире, – сказала я.
Пятнице разрешили лечь в нескольких шагах от двери каюты Крузо; он едва ли даже пошевельнулся за все время нашего плавания, разве только когда я приходила, чтобы отвести его к постели хозяина. Всякий раз, когда я с ним разговаривала, я не забывала улыбаться и касаться его руки, обращалась с ним, как с испуганным жеребенком. Дело в том, что я чувствовала: корабль и моряки пробудили в нем мрачные воспоминания о том времени, когда он был продан в рабство в Новый Свет.
Все время плавания к нам относились с величайшим вниманием. Дважды в день приходил корабельный врач, который облегчал страдания Крузо кровопусканием. Но, разговаривая со мной наедине, он только качал головой.
– Ваш муж тяжело болен, – говорил он. – Боюсь, что мы пришли слишком поздно.
(Я должна рассказать, что капитан Смит предложил, чтобы я назвала Крузо моим мужем и говорила всем, что мы вместе потерпели крушение, дабы облегчить мою жизнь и на борту, и в Англии, когда мы ступим на берег. Если история о Баия и мятежниках всплывет наружу, сказал он, то будет не так уж легко понять, что я за женщина. Я засмеялась, услышав это, – в самом деле, что я за женщина? – но последовала его совету, а потому на борту для всех я была миссис Крузо.