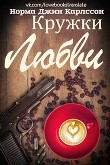Текст книги "Семейная хроника Уопшотов"
Автор книги: Джон Чивер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
27
Лиэндер так никогда и не мог понять, отчего Теофилес Гейтс не пожелал дать ему взаймы денег на починку носа "Топаза" и охотно дал взаймы Саре столько, сколько она хотела, на превращение старого баркаса в плавучий магазин подарков. Но произошло именно так. На следующий день после своего видения Сара пошла в банк, а еще через день явились плотники и приступили к ремонту пристани. Стали приезжать торговцы – по трое-четверо в день, – и Сара начала закупать товары для "Топаза", тратя деньги, по ее собственным словам, как пьяный матрос. Ее радость или восторг были неподдельными, хотя трудно было объяснить, почему она приходила в такое восхищение от сотни китайских собачек с нарисованными на их спинах цветами и с лапами такой формы, чтобы в них можно было всунуть сигарету. Пожалуй, к ее восторгу примешивалось нечто от мстительности, и он представлял собой скрытый способ выразить ее взгляды на независимость и святость женщин. Никогда не чувствовала она себя такой счастливой. Она велела написать красками объявления: ПОСЕТИТЕ ПАРОХОД "ТОПАЗ", ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАВУЧИЙ МАГАЗИН ПОДАРКОВ В НОВОЙ АНГЛИИ – и вывесила их на всех дорогах, ведущих в поселок. Она собиралась открыть "Топаз" торжественным чаепитием и продажей итальянской керамики. Сотни приглашений были отпечатаны и разосланы по почте.
Лиэндер старался всем досадить. Он выпускал газы в гостиной и мочился на яблоню на глазах у катавшихся в лодках по реке и у коммивояжеров, привозивших образцы итальянской керамики. Он жаловался, что быстро стареет, и в подтверждение ссылался на то, как громко трещат его кости, когда он нагибается поднять витку с ковра. Капризные слезы начинали течь из его глаз, стоило ему услышать по радио передачу о скачках. Он еще продолжал каждое утро бриться и принимать ванну, но теперь от него больше, чем когда-либо, пахло Нептуном и волосы клочьями торчали у него из ушей и ноздрей, так как он забывал их стричь. Его галстуки были запачканы едой и пеплом сигарет; однако, когда ночные ветры будили его и он, лежа в постели, представлял себе в темноте их направление по компасу, он все еще помнил, что значит быть молодым и сильным. Введенный в заблуждение этим током холодного воздуха, он садился в постели и с жаром предавался воспоминаниям о кораблях, поездах и пышногрудых женщинах или о какой-нибудь картине – мокрая мостовая, покрытая желтыми листьями вяза, которая символизировала воздаяние и силу. "Я взойду на гору, – думал он. Я убью тигра! Я раздавлю каблуком змею?" Не с рассветом свежий ветер стихал. Лиэндер ощущал боль в почке. Он больше не мог уснуть и, кашляя, медленно волочился сквозь еще один день. Сыновья ему не писали.
Накануне открытия на "Топазе" магазина подарков Лиэндер навестил Гонору. Они сидели у нее в гостиной.
– Хочешь немного виски? – спросила Гонора.
– Да, с удовольствием, – сказал Лиэндер.
– Виски нет, – сказала Гонора. – Съешь печенье.
Лиэндер взглянул на тарелку с печеньем и увидал, что оно покрыто муравьями.
– Боюсь, в твое печенье забрались муравьи, Гонора, – сказал он.
– Не говори чепухи! – возмутилась Гонора. – Я знаю, у вас на ферме есть муравьи, но в этом доме муравьев никогда не было.
Она взяла печенье и съела его вместе с муравьями.
– Ты зайдешь к Саре на чай? – спросил Лиэндер.
– У меня нет времени ходить по магазинам подарков, – ответила Гонора. Я беру уроки музыки.
– А я думал, что ты берешь уроки рисования, – сказал Лиэндер.
– Рисования! – презрительно воскликнула Гонора. – Я еще весной перестала заниматься рисованием. У Хаммеров были денежные затруднения, и я купила у них рояль, а теперь миссис Хаммер два раза в неделю ходит ко мне и дает уроки. Это очень легко.
– Может быть, это у нас в роду, – сказал Лиэндер. – Помнишь Джустину?
– Какую Джустину? – спросила Гонора.
– Джустину Молзуорт, – сказал Лиэндер.
– Ну конечно, я помню Джустину. Почему бы мне ее не помнить?
– Я хотел сказать, что она играла на рояле в магазине стандартных цен.
– Ну, я не собираюсь играть на рояле в магазине стандартных цен, сказала Гонора. – Наслаждайся прохладным ветерком.
– Ладно, – сказал Лиэндер. (Никакого ветра не было.)
– Сядь на другой стул, – сказала она.
– Спасибо, мне вполне удобно и здесь, – ответил Лиэндер.
– Сядь на другой стул, – настаивала Гонора. – Этот я недавно заново обила. Впрочем, – сказала она, когда Лиэндер послушно пересел с одного стула на другой, – отсюда ты не сможешь смотреть в окно, так что, пожалуй, там, где ты сидел раньше, тебе было лучше.
Лиэндер улыбнулся, вспомнив, что и в прежние времена, когда Гонора была молодой, от разговора с ней он чувствовал себя так, словно его били дубинкой по голове. Интересно, почему она вела себя таким образом. Лоренцо в своем дневнике однажды написал, что при встрече с чертом надо разрезать его на две части и пройти между ними. Эти слова вполне объясняли образ действий Гоноры, хотя иногда Лиэндеру казалось, что это страх перед смертью заставлял ее двигаться по жизни, пятясь. Возможно, что, избегая таких вещей, как любовь, невоздержанность и спокойствие духа, которые благодаря своей силе бросают нам в лицо доказательства нашей смертности, она открыла тайну бодрой старости.
– Не сделаешь ли ты мне одолжения, Гонора? – спросил Лиэндер.
– Я не пойду к Саре на чай, если ты это имеешь в виду, – сказала она. Я говорила тебе, что у меня урок музыки.
– Нет, не это, – сказал Лиэндер. – Совсем другое. Когда я умру, пусть над моей могилой произнесут монолог Просперо.
– Что это за монолог? – спросила Гонора.
– "Теперь забавы наши окончены, – начал Лиэндер, вставая со стула. Как я уже сказал, ты духов видел здесь моих покорных; они теперь исчезли в высоте и в воздухе чистейшем утонули. – Он декламировал, и его манера декламации копировала отчасти актеров, игравших шекспировских героев в дни его юности, отчасти напыщенные, монотонные репортажи о схватках профессиональных боксеров и отчасти интонации кондукторов исчезнувших конок и трамваев, выкликавших, подобно заклинаниям, названия остановок на их пути. Его голос стремительно повышался, и он пояснял стихи очень выразительными жестами. – Когда-нибудь, поверь, настанет время, когда все эти чудные виденья, и храмы, и роскошные дворцы, и тучами увенчанные башни, и самый наш великий шар земной со всем, что в нем находится поныне, исчезнет все, следа не оставляя. – Он уронил руки. Голос его упал до шепота. – Из вещества того же, как и сон, мы созданы. И жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена" [У.Шекспир, "Буря", акт IV, сц. 1].
Затем он попрощался с Гонорой и ушел.
Назавтра рано утром Лиэндер увидел, что в этот день на ферме для него не будет ни приюта, ни покоя. Суматоха, связанная с большим приемом для дам, которая еще усилится из-за продажи итальянской керамики, была неизбежна. Он решил навестить своего друга Граймса, жившего в доме для престарелых в Уэст-Чиллуме. Он много лет собирался предпринять это путешествие. После завтрака он пошел в Сент-Ботолфс и сел там на автобус, идущий в Уэст-Чиллум. По ту сторону Чиллума водитель сказал ему, что они приехали к богадельне, и Лиэндер вышел. С дороги здание показалось ему похожим на частную школу в Новой Англии. Участок был обнесен гранитной стеной, утыканной острыми осколками камней, чтобы через нее не перелезали бродяги. Вдоль подъездной аллеи стояли тенистые вязы; здания, к которым она вела, были сложены из красного кирпича, и их архитектура, какой бы она ни была задумана при строительстве, теперь казалась очень мрачной. По сторонам от аллеи Лиэндер увидел стариков, рывших канавы. Он вошел в главное здание и направился в контору, где какая-то женщина спросила, что ему надо.
– Я хочу повидать мистера Граймса.
– В будние дни посетителей не пускают, – сказала женщина.
– Я специально приехал из Сент-Ботолфса.
– Он в северной спальне. Никому не говорите, что я разрешила вам войти. Подымитесь по этой лестнице.
Лиэндер прошел через холл и поднялся по широкой деревянной лестнице. Спальня представляла собой большую комнату с двумя рядами железных кроватей, стоявших по обе стороны центрального прохода. На некоторых кроватях – таких было меньше половины – лежали старики. Лиэндер узнал своего старого друга и подошел к кровати, на которой тот лежал.
– Граймс, – сказал он.
– Кто это? – Старик открыл глаза.
– Лиэндер. Лиэндер Уопшот.
– О, Лиэндер! – воскликнул Граймс, и слезы потекли по его щекам. Лиэндер, старина!. Вы первый из друзей, навестивший меня с прошлого рождества. – Он обнял Лиэндера. – Вы не представляете себе, что значит для меня увидеть лицо друга. Вы не представляете себе, что это значит.
– Я решил нанести вам небольшой визит, – сказал Лиэндер. – Я уже давно собирался приехать. Кто-то сказал мне, что у вас здесь есть бильярд, и я подумал, что можно приехать и немного поиграть с вами на бильярде.
– У нас есть бильярд, – сказал Граймс. – Идемте-идемте, я покажу вам бильярд. – Он взял Лиэндера за руку и повел его из спальни. – У нас много всяких развлечений, – возбужденно продолжал он. – На рождество нам прислали кучу патефонных пластинок. У нас есть огороды. Мы много бываем на свежем воздухе и занимаемся физическим трудом. Мы работаем на огородах. Хотите посмотреть огороды?
– Как вам угодно, Граймс, – неохотно сказал Лиэндер. У него не было никакого желания осматривать огороды или еще что-либо в богадельне. Если бы он мог где-нибудь спокойно посидеть и поговорить с Граймсом, то был бы вполне вознагражден за проделанное путешествие.
– Мы сами выращиваем для себя все овощи, – рассказывал Граймс. – У нас свежие овощи прямо с огорода. Сперва я покажу вам огороды. Потом мы немного поиграем на бильярде. Бильярдный стол не в очень хорошем состоянии. Я покажу вам огороды. Идемте. Идемте.
Через боковую дверь они вышли из главного здания и направились к огородам. Они напоминали Лиэндеру строгие, унылые коммерческие огороды, которые он видел в исправительных колониях для малолетних преступников.
– Смотрите, – сказал Граймс. – Горох. Морковь. Спекла. Шпинат. Скоро поспеет кукуруза. Мы продаем кукурузу. Может быть, мы выращиваем ту кукурузу, которую вы едите у себя за столом, Лиэндер. – Он привел Лиэндера на поле, где росла кукуруза, только что начавшая выбрасывать шелковистые метелки. – Теперь нам надо вести себя осторожно, – прошептал он.
Они прошли полем до края участка, вскарабкались на каменную стену, на которой была надпись: "Не перелезать", и вошли в низкорослый лесок. Через минуту они очутились на поляне, где в глинистой почве был вырыт неглубокий ров.
– Видите? – прошептал Граймс. – Видите? Не все знают об этом. Это "земля горшечника для погребения странников" [цитата из Евангелия]. Здесь нас хоронят. В прошлом месяце двое заболели. Чарли Доббс и Генри Фосс. Они оба умерли в одну ночь. Я догадывался, что с ними сделают, но хотел удостовериться. В то утро я пришел сюда и спрятался в лесу. И вот около десяти часов явился толстяк с ручной тележкой. В ней лежали Чарли Доббс в Генри Фосс. Совершенно голые. Один на другом. Лицом вниз. Они не любили друг друга, Лиэндер. Они даже никогда не разговаривали. Но он похоронил их вместе. О, я не в силах был смотреть. Я не в силах был видеть это. С тех пор я не могу прийти в себя. Если я умру ночью, они свалят меня голого в яму вместе с кем-нибудь, кого я никогда не знал. Вернитесь к себе и расскажите им, Лиэндер. Расскажите об этом в газетах. Вы всегда умели хорошо говорить. Вернитесь к себе и расскажите им...
– Да, да, – сказал Лиэндер.
Он шел обратно по лесу, стремясь очутиться подальше от поляны и от своего истеричного друга. Они вскарабкались на каменную стену и зашагали по участку, где росла кукуруза. Граймс схватил Лиэндера за руку.
– Вернитесь к себе и расскажите им, расскажите им в газетах. Спасите меня, Лиэндер. Спасите меня...
– Хорошо, я сделаю это, Граймс, хорошо, я сделаю это.
Идя рядом, старики шли назад через огород, и перед главным зданием Лиэндер попрощался с Граймсом. Затем он пошел по подъездной аллее, делая над собой усилие, чтобы создать впечатление, будто он не торопится. Очутившись за воротами, он вздохнул с облегчением. Прошло много времени, прежде чем подошел автобус, и, когда он появился, Лиэндер крикнул:
– Эй, эй! Остановитесь, остановитесь, посадите меня!
Он не мог помочь Граймсу; он не мог даже – он это понял, когда, приближаясь в автобусе к Сент-Ботолфсу, увидел объявление: ПОСЕТИТЕ ПАРОХОД "ТОПАЗ", ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАВУЧИЙ МАГАЗИН ПОДАРКОВ В НОВОЙ АНГЛИИ, помочь самому себе. Он надеялся, что званый чай уже окончился, но, подойдя к ферме, увидел на лужайке и по сторонам дороги множество автомобилей. Сделав большой крюк, он обогнул дом, вошел в него с черного хода и поднялся к себе в комнату. Было уже поздно, и из окна он видел "Топаз" мерцание свечей – и слышал голоса дам, пивших чая. От этого зрелища у него возникло ощущение, что его сделали посмешищем, что его ошибки и несчастья были вынесены на потеху публике. Тут он вспомнил о своем отце с нежностью и со страхом, словно всю жизнь боялся кончить так, как кончил Аарон. Он догадывался, что дамы разговаривают о нем, и стоило ему подойти к окну, как он услышал:
– Он среди бела дня налетел на скалу Гал, – говорила миссис Гейтс, идя по дорожке к пристани. – Теофилес думает, что он был пьян.
Что за хрупкое создание – человек! При всей его изворотливости и самомнении, как легко может какой-то шепот испепелить его душу. Вкус квасцов в кожице винограда, запах моря, тепло весеннего солнца, горечь и сладость ягод, песчинка на зубах – все, что он подразумевал под понятием "жизнь", казалось, было отнято у него. Где ясные сумерки его старости? Лиэндеру хотелось вырвать свои глаза. Глядя на огни свечей на своем судне – он привел его к пристани сквозь штормы и бури, – он почувствовал себя призрачным и бессильным. Потом он открыл ящик стола и вытащил из-под засохшей розы и завитка волос заряженный револьвер. Он подошел к окну. Дневной свет догорал, как зарево над промышленным городом, и над крышей сарая Лиэндер увидел вечернюю звезду, прекрасную и круглую, как человеческая слеза. Он выстрелил из револьвера в окно и упал ничком на пол.
Он недооценил гул дамских голосов и звон чашек, в на "Топазе" никто не услышал выстрела. Услышала только Лулу, которая пришла в кухню за кипятком. Она поднялась по черной лестнице, пробежала по коридору к его комнате и, открыв дверь, громко вскрикнула. Услышав ее голос, Лиэндер встал на колени.
– Ах, Лулу, Пулу, я не вам хотел досадить. Нет, не вас я имел в виду. Я не хотел вас испугать.
– С вами ничего не случилось, Лиэндер? Вы но ушиблись?
– Я дурак, – сказал Лиэндер.
– О, бедный Лиэндер, – сказала Лулу, помогая ему встать. – Бедняжка! Я уговаривала ее не делать этого. Сколько раз говорила ей в кухне, что это будет для вас обидой, но она не желала меня слушать.
– Я хочу только, чтобы меня уважали, – сказал Лиэндер.
– Бедняжка. Бедняжка вы.
– Никому не говорите, что вы видели, – попросил Лиэндер.
– Ладно.
– Обещайте мне.
– Обещаю.
– Поклянитесь, что никому не расскажете, что вы видели.
– Клянусь.
– Поклянитесь на Библии. Я сейчас разыщу Библию. Где моя Библия? Где моя старая Библия? – Он стал лихорадочно искать, беря и кладя назад книги и бумаги, торопливо выдвигая ящики, заглядывая на книжные полки и в сундуки, но найти Библию не мог. Американский флажок был засунут за зеркало над его письменным столом. Он схватил его и протянул Лулу.
– Поклянитесь на флаге, Лулу, поклянитесь на американском флаге, что вы никому не расскажете, что вы видели.
– Клянусь.
– Я хочу только, чтобы меня уважали.
28
Хотя управление Островом 93 находилось наполовину в руках военных властей, а наполовину гражданских, все же военные власти, ведавшие транспортом, связью и снабжением, часто оказывались сильнее гражданских. Поэтому как-то ранним вечером Каверли вызвали в военный отдел связи и вручили копию каблограммы, посланной Лулу Брекенридж: "ВАШ ОТЕЦ УМИРАЕТ".
– Сожалею, дружище, – сказал офицер. – Попробуйте обратиться к начальнику связи, но не думаю, чтобы он мог что-либо сделать для вас. Вы зачислены на девять месяцев.
Каверли бросил каблограмму в корзину для бумаг и вышел из канцелярии.
Дело происходило после ужина, отхожие места были подожжены, и дым поднимался над кокосовыми пальмами. Через двадцать минут начнется фильм. Отойдя на некоторое расстояние, Каверли заплакал. Он сел у дороги. Свет начал меркнуть, на здешних островах он быстро угасал; приближался час, когда вступает в свои права примитивная домашняя жизнь в поселении мужчин без женщин: стирка, писание писем и всякие незамысловатые работы, с помощью которых мужчины сохраняют известное благоразумие и достоинство. Никто не обращал внимания на Каверли, так как не было ничего необычного в том, что человек сидит на обочине дороги, а что он плачет, никто не мог видеть. Он хотел повидать Лиэндера и плакал от мысли, что все его планы кончились бессмысленным существованием на тропическом острове, где сейчас начнут показывать фильм, тогда как отец умирает в Сент-Ботолфсе. Никогда больше он не увидит Лиэндера. Затем он решил сделать попытку все же попасть домой; он вытер слезы и направился в транспортный отдел. Сидевший там молодой офицер, несмотря на штатский костюм Каверли, был, по-видимому, недоволен, что тот не отдал ему честь.
– Мне необходимо срочно вылететь, – сказал Каверли.
– Какова причина срочности?
Каверли обратил внимание, что правая щека офицера подергивалась тиком.
– Мой отец умирает.
– Вы можете это чем-нибудь подтвердить?
– В отделе связи есть каблограмма.
– Кем вы работаете? – спросил офицер.
– Я программист, – ответил Каверли.
– Что ж, вы можете получить освобождение от работы на неделю. Однако я уверен, что срочно улететь вам не удастся. Майор в клубе, но я знаю: он ничем вам не поможет. Почему бы вам не поговорить со священником?
– Я пойду к священнику, – сказал Каверли.
Уже было темно, киносеанс начался, и мириады звезд висели в бархатной темноте. Церковь находилась в четверти мили от штаба, и когда Каверли пришел туда, он увидел над дверью синий керосиновый фонарь, а за ним большой плакат с надписью: "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ". Здание представляло собой хороший образчик человеческой изобретательности. Из стволов бамбука связали помост и устроили над ним крышу из пальмовых циновок, придав всему сооружению очертания обычной деревенской церкви. Был даже шпиль, сделанный из пальмовых циновок, и все имело явно неприветливый вид. Стены у входа и внутри помещения были заклеены плакатами "Добро пожаловать", а на столе около двери лежали канцелярские принадлежности, которые можно было брать бесплатно, старые журналы и приглашение отдохнуть, развлечься и помолиться.
Священник, старший лейтенант по фамилии Линдстром, был в церкви и писал письмо. Лицо у него было глуповатое и некрасивое, а на носу сидели очки военного образца в стальной оправе. Он принадлежал к числу людей, предназначенных для укромных уголков земли – маленьких городов с их простодушием, фанатизмом и злобными сплетнями, – и, казалось, в нетронутом виде принес с собой на коралловый остров запах белья, вывешенного для просушки мартовским утром, и фарисейскую черствую набожность, с которой он благодарит бога после воскресного обеда за банку лососевых консервов и бутылку лимонада. Он предложил Каверли сесть и спросил, не нужны ли ему канцелярские принадлежности; Каверли сказал, что пришел за помощью.
– Ваше лицо мне незнакомо, – сказал Линдстром, – так что вы, должно быть, не принадлежите к числу моих прихожан. Я никогда не забываю лиц. Не понимаю, почему люди не приходят сюда на богослужение. По-моему, у меня одна из самых лучших церквей в западной части Тихого океана, а в прошлое воскресенье на обедне присутствовало всего пять человек. Я пытаюсь выяснить, не удастся ли мне заполучить сюда из штаб-квартиры фотографа, чтобы он сделал здесь снимок. Я думаю, надо поместить фотографию этой церкви в журнале "Лайф". Я пользуюсь ею вместе с отцом О'Лиари, но он не очень-то помог мне, когда надо было в ней поработать. Ему как будто все равно, где молятся его люди. Он сейчас в офицерском собрании играет в покер. Не мое дело, как он проводит время, но не думаю, чтобы христианскому священнослужителю пристало играть в карты. Я никогда не держал в руках игральных карт. Конечно, это не мое дело, но я не одобряю также тех способов, какими он пользуется, чтобы собирать свою паству. В прошлое воскресенье у него было здесь двадцать восемь человек. Я сосчитал. Но знаете, как он этого достиг? В прошлую субботу солдатам выдавали виски; он явился, стал силком вытаскивать людей из очереди, заставляя пойти на исповедь. Кто не исповедовался, тот не получал виски. Каждый может заполнить церковь, если будет так поступать. Я раскладываю канцелярские принадлежности и журналы, я сам нарисовал плакаты с приветствием, и всякий раз, как жена присылает мне домашнее печенье – жена печет овсяное печенье, она могла бы нажить целое состояние, если бы захотела открыть пекарню, так вот, когда жена присылает мне печенье, я выкладываю его здесь на блюдо, но дальше этого я не иду.
– Мне нужно срочно улететь, – сказал Каверли. – Мне нужно домой. Мой отец умирает.
– О, я вам сочувствую, мой мальчик, – сказал Линдстром. – Искренне сочувствую. Но я не могу помочь вам срочно вылететь. Не понимаю, почему они посылают ко мне. Не понимаю, почему они это делают. Вы бы сходили к майору. В прошлом месяце одному человеку дали возможность срочно вылететь. Так по крайней мере я слышал. Пойдите к майору, а я помолюсь за вас.
Майор играл в покер и пил виски в офицерском клубе и неохотно встал из-за карточного стола, но он был добродушным, сентиментальным пьяницей, и, когда Каверли сказал, что его отец умирает, он обнял его за плечи, повел в транспортный отдел и вызвал из кино писаря, чтобы заготовить приказы.
Каверли вылетел до зари на старой, выкрашенной масляной краской "Дакоте-4" с изображением купающейся красавицы на фюзеляже. Он спал на полу. На Оаху они прибыли в насыщенных электричеством жарких летних сумерках, когда молнии полыхали в горах. На следующий вечер в одиннадцать часов он вылетел в Сан-Франциско. Пассажиры играли в кости, в самолете без теплоизоляции было холодна, и Каверли сидел в откидном кресле, завернувшись в плед. Гул моторов напомнил ему о "Топазе", и он заснул. Когда он проснулся, небо было розовое, и стюард, раздавая апельсины, говорил, что ощущает запах ветра с земли. Приблизившись к берегу, они увидели в просвете между плотными облаками сожженные летним солнцем холмы Сан-Франциско. Отметившись в военной комендатуре, Каверли через несколько часов уже летел на бомбардировщике в Вашингтон, а оттуда выехал поездом в Сент-Ботолфс. Утром на станции он нанял такси до фермы и тогда впервые увидел на вязе у шоссе объявление: ПОСЕТИТЕ ПАРОХОД "ТОПАЗ". ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАВУЧИЙ МАГАЗИН ПОДАРКОВ В НОВОЙ АНГЛИИ. Он выскочил из машины, оглянувшись, заметил отца, который искал на лугу у реки четырехлистный клевер, и побежал к нему.
– О, я знал, что ты приедешь, Каверли, – сказал Лиэндер. – Я знал, что или ты, или Мозес должны приехать. – И он обнял сына и положил голову ему на плечо.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
29
В начале века в Соединенных Штатах было больше замков, чем во всей Веселой Англии, когда ею правил славный король Артур. Попреки жены привели Мозеса в одно из последних сохранившихся сооружений такого рода – большая часть их была превращена в музеи, куплена религиозными общинами или уничтожена. Это поместье называлось "Светлый приют" и принадлежало Джустине Уопшот Молзуорт Скаддон, старой родственнице из Сент-Ботолфса, которая вышла замуж за миллионера, разбогатевшего на магазинах стандартных цен. Мозес встретил ее на танцевальном вечере, куда пошел со своим сослуживцем по Кредитно-финансовому товариществу, и она познакомила его со своей приемной дочерью Мелисой. С первого же взгляда Мелиса показалась Мозесу самой желанной а красивой женщиной. Он начал ухаживать за ней и, когда они стали любовниками, сделал ей предложение. Насколько он знал, это внезапное решение не мешало ему оставаться наследником Гоноры. Мелиса согласилась выйти за него замуж, если он будет жить в "Светлом приюте". Он не возражал. Поместье – каким бы оно ни было – даст им кров на лето, а осенью, он был в этом уверен, можно будет убедить ее переехать в город. И вот как-то дождливым днем он сел в поезд, идущий в "Светлый приют", и стал мечтать о том, как будет любить Мелису Скаддон и женится на ней.
Консервативные вкусы и склонность к расчетливости, выработавшиеся у Мозеса в Сент-Ботолфсе, совпадали, как выяснилось, со вкусами и склонностями нью-йоркских банковских дельцов, и под серовато-коричневым плащом на нем был один из тех костюмов странного серовато-желтого цвета, какие носили в его родном портовом городке. Когда он выехал, было уже почти темно; зрелище северных трущоб, мимо которых шел поезд, и завеса дождя, то скрывавшая, то вновь открывавшая дым и грязь города, привели Мозеса в мрачное и сварливое настроение. Поезд шел вдоль берега реки; сидя у окна, обращенного в противоположную от реки сторону, он рассматривал пейзаж, который множеством своих странностей мог бы подготовить его к "Светлому приюту", если бы он нуждался в такой подготовке. Все здания были не тем, для чего их предназначали или чем им предстояло в конце концов стать. В доме, построенном для того, чтобы увековечить фамильную гордость, помещалось теперь похоронное бюро; дом, построенный для того, чтобы увековечить гордость богатством, превратился в третьеразрядную гостиницу; монахини-урсулинки жили в замке, предназначенном для того, чтобы увековечить гордость скупостью, но Мозесу казалось, что, несмотря на отклонение от первоначальной цели, повсюду видна печать человеческой нежности и изобретательности. Поезд был пригородный, и старые вагоны шли поскрипывая от станции до станции, хотя на некотором расстоянии от города остановки стали редкими, и Мозес время от времени видел из окна суетящиеся семьи, которые ждут на платформе поезд, чтобы куда-то ехать или кого-нибудь встретить, и которым бледный свет фонарей, дождь и собственные их позы придают такой вид, словно они собрались вместе ради печального и спешного дела. Когда поезд прибыл в "Светлый приют", в вагоне оставалось всего два пассажира, а вышел там только один Мозес.
Дождь усилился, стемнело, и Мозес вошел в зал ожидания, на минуту привлекший его внимание, так как на стене в дубовой раме висела большая фотография того замка, куда он направлялся. Над многочисленными башнями "Светлого приюта" развевались флаги, контрфорсы густо заросли плющом, в все это казалось ему вовсе не смешным, когда он вспоминал, зачем туда едет. Джустина, видимо, приложила руку к украшению зала ожидания, так как на полу там лежал ковер. Стены из шпунтовых досок были выкрашены под красное дерево, а трубы, которые должны были обогревать помещение зимой, изящно тянулись по две рядом вверх и, извиваясь змеями, исчезали в отверстиях потолка. Скамейки вдоль стой через равные промежутки разделялись изящными витками гнутого дерева, которые служили пассажирам подлокотниками в не давали соприкасаться теплым ляжкам незнакомых между собой людей. Выйдя из зала ожидания, Мозес увидел у обочины тротуара только одну машину.
– Я довезу вас до ворот, – сказал водитель. – До дома я довезти не могу, а высажу у ворот.
Когда Мозес вышел из такси, он обнаружил, что ворота были чугунные, с цепью и висячим замком. Слева была небольшая калитка; он вошел в нее и под сильным дождем зашагал к освещенным окнам здания, бывшего по его предположению, домиком привратника. Мужчина средних лет появился в дверях – он что-то ел – и как будто обрадовался, когда Мозес назвал себя.
– Я есть Джакомо, – сказал он. – Я есть Джакомо. Ви пойти со мной.
Мозес пошел за ним в старый гараж, пропитанный той особой сыростью холодного бетона, что так быстро пробирает до костей. Там в ярком свете стоял старый "роллс-ройс" с окошками в форме полумесяца в задней части кузова, как в уборной на Западной ферме. Мозес сел впереди, а Джакомо принялся между тем качать бензопомпу, и ему понадобилось некоторое время, чтобы завести мотор.
– Она почти мертвое, – сказал Джакомо. – Она нехорошо ездить ночью.
Затем, пятясь задом, как военный корабль, они выехали на дождь. "Дворника" на ветровом стекле не было, или Джакомо не пользовался им, и они ехали без фар по извилистой дороге. Вдруг Мозес увидел огни "Светлого приюта". Казалось, их были сотни – так много, что они освещали дорогу и подняли его настроение. Мозес поблагодарил Джакомо и потащил сквозь дождь свой чемодан под защиту большого портика, арочного и ребристого, как портик собора. Единственный звонок представлял собой сооружение из сварочной стали в виде листьев и роз, такое причудливое и ветхое, что Мозес побоялся, как бы оно не свалилось ему на голову, если он дотронется до него, и постучал в дверь кулаком. Горничная впустила его, он вошел в нечто вроде ротонды, и в это мгновение из другой двери появилась Мелиса. Он поставил на пол чемодан, вылил дождевую воду из полей шляпы и заключил в объятия свою возлюбленную.
Костюм у него был мокрый и издавал какой-то кислый запах.
– Я думаю, тебе надо бы переодеться, – сказала Мелиса, – но остается мало времени.
В ее взгляде, одновременно тревожном и радостном, он увидел нерешительность человека, который, присоединяя одну часть своей жизни к другой, смутно ощущает, что они могут прийти в столкновение, вызвав необходимость выбора или расставания. Он почувствовал ее нерешительность, когда она взяла его за руку и повела по мраморному полу, на котором их шаги звонко стучали по черно-белым квадратам. Это было не похоже на Мозеса, но истины ради надо сказать, что он не смотрел ни влево, откуда слышался шум фонтана, ни вправо, откуда доносился из оранжереи запах жирной земли. Подобно тете Гоноре, он понимал, что делать вид, будто ты родился и вырос в том окружении, в каком ты сейчас находишься, было свидетельством незаурядного характера.
В какой-то степени он был прав, не поддаваясь любопытству, так как "Светлый приют" построили именно для того, чтобы производить впечатление на посетителей. Никто не считал, сколько в нем комнат, – вернее, никто, кроме одной бесцеремонной и тщеславной родственницы, которая как-то посвятила этому делу часть дождливого дня, полагая, что роскошь можно выразить в цифрах. Она насчитала девяносто две, но никто не знал, включила ли она людские, ванные и странные, не имевшие никакого назначения комнаты, некоторые без окон, возникшие в результате многочисленных пристроек, так как дом разрастался, отражая своенравный и эксцентричный склад ума Джустины. Купив большой зал виллы Пескере в Милане, она послала каблограмму архитектору и велела присоединить его к малой библиотеке. Она не стала бы покупать этот зал, если бы знала, что неделю спустя ей предложат гостиную из замка Ла Мюэт; она написала архитектору и попросила присоединить ее к малой столовой, одновременно известив его о покупке четырех мраморных фонтанов, олицетворявших четыре времени года. Затем архитектор сообщил Джустине, что фонтаны прибыли, и, так как места для них в доме не нашлось, запросил ее, одобряет ли она его план пристроить к миланскому залу зимний сад. В ответной каблограмме она одобрила его предложение и в тот же день купила небольшую часовню, которую можно было присоединить к комнате с фресками, подаренной ей ко дню рождения мистером Скаддоном. Частенько говорили, что Джустина купила столько комнат, что не знала, как их использовать, но она использовала все. Она не относилась к числу тех коллекционеров, чьи приобретения гниют в кладовых. Во время того же путешествия ей удалось купить мраморный пол и несколько колонн в Винченцо, но самым внушительным добавлением к "Светлому приюту" из всех, какие ей удалось отыскать в это и в последующие путешествия, были каменные плиты и балки из большого зала Виндзорского дворца. В этот-то покинувший родину зал Мелиса и вела сейчас Мозеса.