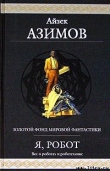Текст книги "Все новые сказки"
Автор книги: Джоди Линн Пиколт
Соавторы: Чак Паланик,Нил Гейман,Диана Уинн Джонс,Джоанн Харрис,Майкл Джон Муркок,Джеффри Дивер,Джозеф Хиллстром Кинг,Питер Страуб,Джеффри Форд,Майкл Маршалл
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Кэт Ховард
Моя жизнь в литературе
Перевод Светланы Силаковой [77]77
«A Life in Fictions» by Kat Howard. Copyright © 2010 by Kat Howard.
[Закрыть]
Он опять поместил меня в рассказ.
Я ему сказала: «Больше так не делай!» – мы ведь расстались. Кстати, из-за этого и расстались, хотя были и другие причины. Поймите меня правильно: быть музой писателя не так уж плохо, но если становишься музой в самом буквальном смысле…
Когда это случилось в первый раз, я была польщена. Тем более что реальная жизнь меня не баловала, понимаете? Глупо было бы по ней скучать. И вдруг какая-то сила перебросила меня в другую жизнь – в мир, сочиненный специально для меня, в мир, где я была для него светом в окошке, недостижимой мечтой. Здорово, правда?
В реальность я вернулась, когда он закончил рассказ. Я немедленно затащила его в постель и оттрахала до изнеможения. Между прочим, до этого момента между нами ничего не было. И он сказал: «Это был лучший секс в моей жизни!»
Я спросила, проваливался ли кто-нибудь в другие его рассказы раньше.
– Да вроде нет, насколько мне известно. Естественно, я списываю персонажей со своих знакомых, бывает. Понемножку отщипываю от их жизни и биографии. У кого-то жест, у кого-то – любимое словечко, или необычный оттенок глаз, или походку. Все мы, писатели, подворовываем по мелочам.
– Но ко мне ты применил какой-то новый метод? Как тебе это удалось?
– Наверное, разгадка в том, что я в тебя влюбился. Только о тебе и думал. И когда описывал Мару, ты не выходила у меня из головы. Ни на секунду.
Я провалилась в рассказ не с самого начала и понятия не имела, что происходило в той его части, где не было Мары. Готовый рассказ вызвал у меня странные чувства – то дежавю, то глубокое изумление.
Потом, вдохновившись моей сексуальностью в реальном мире (хочется верить, что именно поэтому), он поместил меня в эротическую новеллу. Правда, его героиня Эли была намного более гибкой, чем я, – и в физическом смысле, и в плане сексуальной ориентации.
Новелла мне страшно понравилась, но как-то ночью я попробовала проделать в постели то, что Эли находила занятным, а он, увы, счел непристойным извращением. Отныне если он и вписывал меня в сцены секса, то исключительно орального.
Ох уж эти мужчины! Даже талантливые писатели подвержены шаблонным предрассудкам!
А точнее, талантливые писатели подвержены шаблонным предрассудкам еще больше, чем все остальные.
Когда он в следующий раз поместил меня в свою книгу, я потеряла работу. Понимаете, он вздумал написать роман, и когда описывал Нору, я буквально пропадала из моей собственной жизни, едва он брался за перо. Исчезала на несколько дней подряд, а если дело у него спорилось, даже на несколько недель.
Он говорил, что не знает, что со мной происходит в эти промежутки. Заглядывал ко мне домой – проверить, все ли в порядке, полить цветы. Если не забывал, конечно. Если не погружался в работу так глубоко, что переставал замечать что-либо вокруг.
В эти периоды я не выхожу у него из головы, уверял он. Мол, все его мысли – обо мне. Можно подумать, это меня утешало.
Процесс ускорился. Едва он приступал к работе, я проваливалась в рассказ и застревала там, пока он не ставил точку.
Чем больше времени я проводила в его произведениях, тем реже бывала в реальном мире. Стала забывать, каково жить взаправду, каково быть человеком из плоти и крови. Забывать, какая я на самом деле.
Когда он трудился плодотворно, меня окутывало уютное теплое ощущение: кто-то знает, что со мной происходит, кто-то все за меня решает, а если я иду по проволоке, подстилает мне соломки. Окружающий мир был словно соткан из тюля: все размытое, ажурное, в розовой дымке.
Я могла пускаться в авантюры, не беспокоясь о последствиях. Как-никак, он всегда думает и заботится обо мне.
Но однажды… Внезапно ударил мороз, и все вокруг оледенело. Я обнаружила себя в холодном белом зале, среди статуй людей, с которыми только что беседовала.
Я кидалась то к одному собеседнику, то к другому, пыталась разговорить их – без толку. Обошла зал еще раз в поисках выхода – тоже без толку. Белые стены, пол, потолок – ни дверей, ни окон, ни щелочки. Хотя зал был просторный, я боками ощутила давление стен.
Я шарахнулась в центр, присела на пол по-турецки. Стала ждать. Знаете ли вы, каково это, когда в голове пусто? Когда между предыдущей и следующей мыслью зияет пропасть, когда вместо идей – только бессмысленный шум, когда ничего не приходит на ум? Припоминаете такое по собственному опыту?
А теперь вообразите, что эта внутренняя опустошенность затягивается на целую вечность. Избавиться от нее невозможно, потому что ты не знаешь – не то, чтобы не помнишь, но не знаешь – о чем думала до того, как голова опустела. Тебе непонятно, как расшевелить мозги снова. Сплошная пустота. Тишина. Белизна.
Времени тоже не существует. Как узнать, сколько ты уже высидела в этом бескрайнем, вызывающем клаустрофобию белом зале? А ты сидишь и сохнешь, все больше съеживаешься.
Я так и не смогла вычислить, как долго там прождала. Но внезапно оказалась в какой-то незнакомой комнате – вернулась в реальность. И увидела его.
Вокруг его глаз появились морщинки, в волосах проступила седина. Творческий кризис, разъяснил он мне. Он насильно принуждал себя работать, браться за другие замыслы, но ничего не помогало. Наконец, вот только сегодня утром, он окончательно поставил крест на романе. Решил, что ничего уже не исправишь.
Я спросила, пытался ли он вернуть меня в реальность, когда зашел в тупик.
Нет. Как-то не сообразил этим заняться. Руки не дошли.
Тогда-то я с ним и порвала.
Я обнаружила, что за время моего отсутствия он снискал признание. Литературные критики осыпали его похвалами. Превозносили за глубокие и реалистичные женские образы.
В одном интервью он сказал, что Мара – его единственная возлюбленная, заплутавшая в джунглях жизни. Журналистка сочла, что это очень романтично.
А я сочла, что журналистка – идиотка. Пусть сама попробует потеряться и посмотрит, много ли в том романтики.
Некоторые черты характера так ко мне и не вернулись. Или скрылись под напластованиями: я же была для него разными женщинами! Конечно, все эти женщины были мной, но не реальной, а той, какой он меня навоображал: гипертрофировал, искажал, перевирал.
Я включала радио погромче и не сразу вспоминала, что мне-то цыганский панк не нравится – это музыкальные вкусы Эли. Однажды я на две недели забросила свою любимую булочную – возомнила, будто у меня аллергия на злаки, как у Фионы.
Три месяца я не сомневалась, что мое имя – Мара.
Иногда я жила вполне обычной жизнью. Но все равно чувствовала, что он выдирает из меня какие-то мелкие детали для своих произведений. Я лишалась то любимых духов, то воспоминаний о временах, когда мое сердце впервые разбилось от несчастной любви. Частички моего «я» бесследно пропадали – точно их затягивало болото. Иногда возвращались – когда он ставил точку в рассказе. Но чаще нет.
Я напоминала: «Ты обещал больше про меня не писать!» Он уверял: «Но я же нечаянно!» Подумаешь, какие-то обрывки, с миру по нитке. Он постарается действовать осторожнее. Но вообще-то это лестно, когда о тебе пишут.
Затем из моей жизни пропала целая неделя. От рассказа я была в восторге, а Имоджен – великолепный образ. Как бы мне хотелось стать такой, как она… Но все восхищение померкло, когда я осознала правду: он снова похитил меня у меня самой. Я просто исчезла. Канула не знаю куда. И еще больше позабыла о своей личности: разве зеленый – мой любимый цвет?
Я включила компьютер, забарабанила по клавишам. Записывала все, что смогла о себе вспомнить. Перечитала файл – провалы на месте событий, о которых я не могла не помнить. Другие события двоятся перед мысленным взором, припоминаются в нескольких вариантах.
Меня бросило в жар. Я сорвала с себя одежду и всмотрелась в свое тело: оно-то уж наверно настоящее, не такая выдумка, как моя душа? Допустим, вот только откуда этот шрам на коленке – упала с велосипеда в двенадцать лет или поранилась о камень на пляже в семнадцать? Такая ли у меня манера махать рукой на прощанье? Разрыдалась бы я от чувств, которые испытываю в эту самую минуту?
От такого любой бы разрыдался, рассудила я.
Я попыталась написать себя заново. Перетряхивала коробки с поблекшими засушенными цветами, расправляла смятые билеты в театр, корпела над школьными фотоальбомами. Обзванивала друзей, чтобы поиграть в «А помнишь?».
Если, конечно, удавалось вспомнить, о чем следует спросить. Если я вообще представляла себе, с кем говорю.
Ничего не вышло. То ли у него особый талант, то ли такова моя несчастливая звезда: он-то может переносить меня в свои произведения, а я вот не умею примерить к себе его чары.
Хуже того, в моей жизни появлялись все новые провалы. Я перевоплощалась. Я снова и снова менялась. Однажды проснулась с белыми волосами. Не седыми от старости, а платиново-белыми в стиле рок-звезды или эльфийской королевы.
Перекрасилась ли я обратно в свой цвет? Не-а.
Его рассказы издали отдельной книгой. Его включали в списки лучших писателей, номинировали на авторитетные литературные премии.
Я забыла, какой кофе люблю – черный или с молоком.
Он позвонил, попросил о встрече. Сказал, что до сих пор меня любит, что соскучился по моей коже, моему голосу, запаху моего тела. «Я тоже по всему этому соскучилась», – подумала я. И сказала, что приду.
Он сказал, что узнал меня не сразу. Дескать, что-то переменилось.
– Ума не приложу, что, – отозвалась я.
Он сделал заказ для нас обоих. Я не перечила. Не сомневалась: он знает, что мне больше понравится.
– Тут у меня один замысел появился… – начал объяснять он.
Возможно, самый лучший в его жизни, такого больше не будет. От энергии этого сюжета покалывает пальцы – явственное ощущение, что по тебе бежит электрический ток. Фразы уже звучат в голове, просятся на бумагу.
Он принес черновой вариант, чтобы я взглянула, составила мнение. Подпихнул ко мне по столу тонкую папку.
Я спросила себя – спросила вслух – отчего на сей раз он просит у меня разрешения. Ну-у-у… Это масштабная вещь. Эпопея. Он сам не знает, как долго придется над ней работать. А после того, что случилось в прошлый раз, когда я… В общем, он решил сначала спросить.
Его любезность произвела на меня впечатление.
Я побарабанила пальцами по папке. Раскрывать ее не стала.
Официант предупредительно поставил бокал с мартини справа от моей тарелки. Забавно. Мне-то казалось, что я мартини не люблю. Это Мэделайн его любит. Но я сделала глоток и зажмурилась от удовольствия.
Я согласилась.
На еще одну вещь, на этот шедевр – я же вижу, как светятся у него глаза. Но я ставлю одно условие.
Все что угодно, сказал он. Проси, что хочешь.
– Когда допишешь свою эпопею, оставь меня в ней.
– Я предполагал, что ты об этом попросишь, – сказал он.
Я подивилась, что он не знал этого наперед. Он кивнул. Договоренность достигнута.
Мы ужинали, лениво болтая о том о сем. Иногда он смотрел рассеянно, и я как будто воочию видела, как в его голове возникают хитросплетения сюжета.
Интересно, каким именем он назовет меня теперь? Я едва не спросила, но тут же сказала себе: «Дело десятое». Стоп… я ведь уже не знаю моего собственного имени. Вроде знаю, но нетвердо. Грейс, верно? Вроде похоже. Грейс.
Пока мы ждали чек, он начал писать на обложке папки. Я наблюдала.
«Первым делом Рейф влюбился в ее голос: провалился в бездну этого голоса, когда она представилась: “Меня зовут…”».
Джонатан Кэрролл
Пусть прошлое начнется
Перевод Светланы Силаковой [78]78
«Let the Past Begin» by Jonathan Carroll. Copyright © 2010 by Jonathan Carroll.
[Закрыть]
Эймон Рейли, красавец и неряха, был знаком, казалось, со всеми людьми на свете. Включая официанток. Едва он входил в зал, официантки расцветали и начинали с ним отчаянно кокетничать. Я наблюдал это несколько раз в самых разных ресторанах – в заведениях, где никто из нашей компании прежде не бывал. Спрашивал: «Она что, твоя знакомая?» – а он неизменно отвечал: «Не-а».
У Эймона душа была нараспашку. Это всех пленяло. Его обожали, даже когда он вел себя несносно, а случалось это частенько. Ездил он на старом полуразвалившемся «Мерседесе», заросшем грязью изнутри и снаружи. Если подвозил тебя, то вначале сгребал вещи с переднего сиденья и не глядя швырял на заднее. Вещи попадались самые неожиданные: металлическая рогулька лозоходца, упаковка памперсов (Эймон был холост), xisteraдля игры в джай-алай [79]79
Джай-алай – разновидность баскской игры в мяч (другое название – пелота); популярна в США и Латинской Америке; xistera – корзинка, в которую игроки ловят мяч. Прим. перев.
[Закрыть], а однажды – измятое фото кинозвезды с автографом, указывающим на весьма близкие отношения. Писал Эймон печатными буквами и так аккуратно, что текст казался машинописным. Ежедневно вел подробный дневник, который не читала ни одна живая душа, хотя тетрадь он таскал с собой повсюду. Его личная жизнь была вечной катастрофой: мы дивились, отчего ни одна женщина не остается с ним надолго.
Когда-то у него случился краткий, недели на две, роман с моей любимой, Авой. Однажды я собрался с духом и спросил, отчего она с ним порвала. Ава ответила обтекаемо:
– Не сошлись характерами.
– И?
– Никаких «и». Некоторые люди просто друг дружке не подходят в определенных конфигурациях. Бывает, дружить с человеком хорошо, но если дружба переходит в любовь, получается неудачное химическое соединение… ядовитое, допустим… или… в общем, не то, что надо. Для меня Эймон – приятный собеседник, но неподходящий возлюбленный, как оказалось.
– А в чем причина?
Ава сощурилась. Обычно это значит: тема закрыта, Ава больше не желает ее обсуждать. Но на сей раз вышло по-другому.
– Присядь.
– Что?
– Присядь. Я расскажу тебе одну историю. Рассказ будет долгим.
Я повиновался. Если Ава велит тебе что-то сделать, ты молча слушаешься, потому что… в общем, потому что она – Ава. Она любит сладости, внешнеполитические доклады, правду, опасные командировки и все удивительное. Необязательно в том порядке, в каком я перечислил. Она репортер, ее посылают в самые опасные точки планеты: Спинкай-Рагзай [80]80
Спинкай-Рагзай – городок на северо-западе Пакистана, в одном из районов, населенных пуштунскими племенами; в 2008 году пакистанская армия провела там операцию против боевиков Талибана.
[Закрыть], Пакистан, Сьерра-Леоне. Ее можно увидеть в новостях по телевизору: Ава стоит, ее волосы развеваются, потому что на дальнем плане взлетает военный вертолет, оставляя ее и немногочисленную съемочную группу на каком-то блокпосте или в руинах деревни, прошлой ночью разоренной мятежниками. Ава бесстрашна, непоколебимо уверена в себе и нетерпелива. А еще она беременна – потому и сидит теперь дома. Мы почти не сомневаемся, что ребенок мой, но есть некоторая вероятность, что он от Эймона.
Я знаю Аву Малколм двенадцать лет и люблю ее примерно одиннадцать. Все эти одиннадцать лет она ничуть мной не интересовалась, если не считать редких полночных звонков из невообразимых географических точек – Угадугу, Алеппо [81]81
Угадугу – столица Буркина-Фасо (бывш. Верхняя Вольта), расположена в междуречье Черной и Белой Вольты; Алеппо (Халеб) – крупнейший город в Сирии, один из самых древних постоянно населенных городов мира.
[Закрыть]. Связь непременно была плохая – сплошной треск. Пока не появились спутниковые телефоны, почти каждый раз беседа прерывалась на полуслове: казалось, линия утомилась от нашей болтовни и хочет спать.
Позднее Ава призналась, что первое время считала меня геем. Но однажды, вернувшись из очередной командировки на край света, она обнаружила, что я живу с Джен Шлик. Так Ава прозрела.
Бедняжка Джен: ей со мной ничего не светило. Я всегда полагал, что мой удел – любить Аву на расстоянии, быть признательным за то, что она вообще уделяет мне время, преклоняться перед ее отвагой и талантами… а ее необыкновенная жизнь пойдет своим чередом.
И тут Аву ранили. По горькой иронии судьбы, отнюдь не в какой-нибудь страшной дыре, где в тени 130° по Фаренгейту, а повстанцы за неимением танков передвигаются на лошадях. Нет, это случилось в минимаркете, в четырех кварталах от ее нью-йоркской квартиры. Попытка купить бутылку красного вина и пакет сырных палочек «Чиз-Дудлз» совпала с попыткой кретина по кличке Мокрохвост впервые в жизни совершить ограбление с использованием огнестрельного оружия, которое, как он потом уверял, выстрелило случайно. Случайно, ага. Оба раза. Одна пуля царапнула плечо Авы. Но поскольку она была выпущена из «Глока»36 [82]82
«Глок»36 —суперкомпактный пистолет, предназначенный для скрытного ношения по легкой одеждой; имеет минимальные для 45-го калибра и такой компоновки габариты и вес при полном отсутствии выступающих деталей.
[Закрыть], «царапнула» – это мягко сказано. Наверное, с Авой ничего бы не случилось, если бы, как все остальные, она легла на пол, едва Мокрохвост заорал: «Это ограбление!» Но Ава есть Ава: ей хотелось посмотреть, что это будет, вот она и стояла, пока пистолет не пальнул в ее направлении.
За годы журналистской работы Ава перевидала много ужасов, но всегда выходила невредимой. И вот теперь – случай довольно распространенный – физическая травма усугубилась психологической. Выйдя из больницы, она «целый год скиталась, трахалась и пряталась». Так она сама говорила.
– Я выписалась из больницы: рука на перевязи, шило в заднице. Шило фигуральное. Тогда я была, наверное, на сто сорок два процента чокнутая. Захотелось прожить вдвое более яркую жизнь: повидать вдвое больше, переспать со всеми мужиками. Я побывала на волоске от смерти и извлекла только один урок: сколько мне ни дай, все мало. Я хочу больше жизни, больше секса, больше новых мест…
– И я истратила все призовые мили, накопленные за много лет командировок, – продолжала Ава. – Потом стала просить об услугах всех, кто был мне чем-то обязан, и они устраивали мне поездки туда, куда звала меня душа. Я провела много времени на юго-западе бывшего СССР: это был новый Дикий Запад, горы нефтедолларов, новые месторождения… И вот в Баку мне повстречалась йит…
Типичный для Авы стиль повествования. В телерепортажах она сообщала ключевую информацию чеканными фразами, кристально четко. Но в частной жизни, рассказывая о чем-то, забывалась, не вспоминала, что тебе неведомо, что такое «Баку» или «йит» (последнее слово, наверное, почти для всех – загадка).
– Пожалуйста, поясни последнюю фразу.
– Азербайджан, – нетерпеливо выпалила Ава. – Баку – столица Азербайджана.
– Насчет Баку ясно. А что такое йит?
– Джеллум.
– А что такое джемлум?
– Йит и джеллум – синонимы. Это значит… типа гадатель, но с шаманским уклоном. Гадатель и мудрец в одном флаконе. В Азербайджане функцию джеллума несут женщины, не мужчины. Любопытно… в остальном общество строго мужское, мужчины господствуют.
– Хорошо. Баку и йит.
Ава наклонилась ко мне, поцеловала в уголок рта:
– Мне нравится, что ты меня прерываешь и просишь разъяснить. Обычно люди просто таращатся на меня, пока я трещу, как сорока.
– Давай дальше.
– Продолжаю. Под конец поездки я захотела немного пожить в Баку, потому что там происходит действие одной из моих любимых книг, «Али и Нино» [83]83
«Али и Нино» – роман Курбана Саида о любви двух бакинцев, азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани на фоне событий Первой мировой войны.
[Закрыть]. В книге Баку описывается так, словно на свете нет места романтичнее. На деле – ничего подобного. Но это неважно.
Я отправилась в поселок Сабунчи [84]84
Сабунчи – поселок городского типа в Азербайджане, на Апшеронском полуострове.
[Закрыть]. У меня был гид, азербайджанец Максуд: он свободно владел английским, мы его и раньше нанимали, когда я туда приезжала. В общем, я его хорошо знала, а он был в курсе, что мне нравится, чем я интересуюсь. На сей раз я наняла его просто для экскурсии.
Когда мы приехали в Сабунчи, Максуд сказал, что там живет одна из самых знаменитых джеллум. Не желаю ли я к ней пойти? Ну, для нас, девочек, всякие хироманты, астрологи, гадания по Таро – наркотик почище крэка. Ясновидящие, шаманы, провидцы – ведите нас к ним поскорей. «Еще бы, – говорю, – я с удовольствием пойду к йит».
Ее звали Ламия, по-азербайджански это значит «образованная». Жила она в маленькой квартирке в безликом коммунистическом квартале. Дома из серого бетона, все одинаковые, как близнецы, запросто можно заблудиться. Кажется, в квартире было две комнаты, но мы дальше гостиной не попали. Там было сумрачно даже в полдень. Ламия сидела на диване. Рядом стояла детская коляска. Все время, пока мы там пробыли, Ламия сидела, сунув руку в коляску, точно ласкала ребенка, чтобы не кричал.
Когда мы уселись, она спросила Максуда, знаю ли я про «лал-бала». Это значит «безмолвное дитя». Он сказал, что нет, не знаю. Она велела ему разъяснить это мне, и только после этого готова была продолжить. Я не понимала их разговора, они ведь говорили по-азербайджански. Но я увидела, как он выслушал ее и скривился: дескать, нелегко будет растолковать так, чтобы я поняла.
Пока Максуд объяснял мне, что такое «лал-бала», Ламия не вынимала руки из коляски. Я только потом поняла почему.
Тут Ава умолкла. Несколько секунд просто сидела, не сводя с меня глаз. Наверное, набиралась сил, чтобы перейти к самой трудной части рассказа.
– А теперь я опишу тебе все, как оно было. Хочешь верь, не хочешь – не верь. Но знай: я верю всем сердцем, потому что Ламия кое-что рассказала мне обо мне самой. Подробности и факты, которых никто на свете знать не может, только я. Никто, понимаешь? Ни мои родители, ни сестра, никто. Но Ламия знала. Она без запинки рассказала самые интимные детали. Словно по бумажке зачитывала.
Сначала я объясню, что такое «безмолвное дитя». По легендам, их всегда три, в любой момент. Когда одно умирает, взамен немедленно рождается другое. Это вроде преемственности далай-лам Тибета: безмолвное дитя выбирает себе мать еще до своего рождения.
– Как это – до рождения? Раньше, чем рождается?
– Да. Ламия сказала, что узнала, что у нее родится безмолвное дитя, как только поняла, что беременна. И когда дитя родилось и она его увидела, она не удивилась и не расстроилась.
– А почему мать может расстроиться при виде собственного ребенка? Он родился больным?
Ава окинула меня тревожным взглядом: казалось, ей было больно говорить:
– Ребенок неживой. Точнее, наполовину живой… Наполовину живой, наполовину мертвый, он живет наполовину в нашем мире, наполовину в ином.
– Как это – в ином?
– В загробном мире. Как я уже сказала, ребенок наполовину жив, наполовину мертв. Он не растет. Он живет на свете определенное количество лет; срок его жизни никогда наперед не известен. У каждого ребенка по-своему. В день смерти он выглядит точно так же, как в день появления на свет, хотя некоторые дети живут по несколько десятков лет. Он никогда не шевелится, ничего не ест, вообще не дышит. Никогда не открывает глаза. Но сердце у него бьется. Самое важное, это дитя – оракул.
После того как йит сообщает тебе твои тайны и ты убеждаешься, что она не шарлатанка, когда у тебя не остается никаких сомнений, ты можешь задать ей, матери безмолвного дитяти, два вопроса. Любые: о прошлом, о будущем, спрашивай что хочешь. Пока ее рука прикасается к безмолвному дитяти, она будет давать ответы. Но позволены всего два вопроса.
– И о чем ты спросила?
Ава покачала головой.
– Тебе лучше не знать. Но кое-что… – Она осеклась, встала, отошла к окну. Я сидел как истукан, пытаясь по каким-то приметам догадаться, что теперь делать: подойти к ней или не двигаться с места, заговорить или промолчать… Касаясь запотевшего оконного стекла, она описала пальцами широкую дугу. Я почти ощутил холод и сырость на кончиках собственных пальцев. Следующая фраза Авы прозвучала как гром среди ясного неба: – Эймон Рейли никогда тебе не рассказывал о своем прошлом? О своем детстве?
– Эймон?! Он-то тут причем?
– Очень даже причем, – Ава начала быстро-быстро протирать стекло обеими ладонями, точно пытаясь что-то загладить. Затем обернулась ко мне. – Просто ответь на мой вопрос… Тут все взаимосвязано. Ты с ним о его прошлом никогда не разговаривал?
– Нет.
– Отец Эймона был летчиком. Он много лет терроризировал свою семью: всех избивал и много еще чего проделывал… форменный садист. Вот одна из его любимых пыток: он летал низко-низко над их домом на маленьком самолете, летал туда-сюда, когда знал, что вся семья дома. Эймон рассказывал, это было очень страшно: мать и дети прятались под кроватями или в подвале, ожидая, что однажды он врежется на самолете в дом и всех укокошит.
– А как он кончил?
– Он был еще и пьяница. Однажды, к счастью, он свалился на машине с моста и разбился.
– О господи! Вот почему Эймон такой… со странностями, да?
– Да. Однажды меня так взбесило его поведение, что я дала ему пощечину. Только после этого он рассказал мне кое-что о своем детстве. И я наконец начала понимать. Конечно, он все равно меня бесил, но представь себе, после такого детства…
– Ужасно. Бедняга.
– Да. Не знаю, только ли в этом причина его странностей, но след не мог не остаться.
Скрестив руки на груди, я спросил:
– Но при чем тут безмолвное дитя?
– Ламия сказала мне, что я – часть проклятия.
Я медленно расцепил руки и обнаружил, что не знаю, куда их девать.
– Как это? Ты… ты проклята?! – вскричал я. Одновременно недоверчиво и отчаянно. В такие моменты ни от рук, ни от голоса – никакого толку. Только мешают, не могут подсказать, что делать, как себя вести, когда на тебя сваливается беда, выраженная одним словом: «проклятие», «смерть» или «рак».
Ава покачала головой:
– Нет, я часть проклятия. Но наверное, в каком-то смысле я тоже проклята. Мою роль можно и так назвать. Ламия сказала, что после возвращения в Америку я забеременею. Это сбылось. Но мой ребенок будет проклят – обречен в точности повторить жизнь своего отца, даже если будет сопротивляться судьбе. Никакой разницы, кроме мелких подробностей, – Ава умолкла. Ничего не добавила, просто молча не сводила с меня глаз. Наверное, дожидалась, пока до меня дойдет.
– Она не сказала, кто будет отцом ребенка?
– Нет. Сказала только: любой мужчина, от которого я забеременею, отмечен проклятием.
– Ава, а если это я?
– Может быть. Мы все выясним по анализу ДНК, но я решила сначала поговорить с тобой, прежде чем делать анализ. Ты же играешь во всем этом важную роль.
– Да уж, наверное, – сказал я цинично и злобно, хотя мой тон покоробил меня самого. Я совершенно не собирался говорить Аве гадости, но почему она рассказала только сейчас? Зачем было тянуть резину?
Снова повисла пауза.
– Ава, я тебя люблю, но это какая-то чушь, полная чушь. Ну прямо «Тысяча и одна ночь»: безмолвное дитя, джеллум, проклятие… Как ты можешь установить, что это не враки?
– Потому что после того как я у нее побывала, кое-что произошло. Все предсказания Ламии сбылись. Все события произошли: и беременность, и мой роман с Эймоном, и главное… ты.
– Я? Что ты имеешь в виду?
В этот момент стиральная машина, шумевшая где-то на заднем плане, не нашла ничего лучшего, как возвестить свистком о завершении работы. Ава умолкла; судя по ее лицу, в ближайшее время она не собиралась отвечать на мой вопрос. Я хмуро пошел к машине. Распахнул дверцу, наклонился достать настиранное белье.
– Ава?
– Что?
– В твоей стиралке полно букв. – Я вытащил большую белую сырую «К», положил на свою ладонь. Рассмотрел, показал Аве. Высота – дюймов десять. Буква вроде бы из ткани. Я снова заглянул в бак и увидел: вместо белья в машине громоздится куча мокрых прописных букв.
Ава словно и не удивилась. Больше того, кивнула, когда я показал «К».
– Это я их туда положила.
– Ты… А где наше грязное белье?
– В ванной.
– Но зачем? Зачем ты это сделала? Что это? Зачем они нужны?
– Достань еще четыре. Доставай не глядя – просто сунь руку и достань четыре штуки. Я объясню зачем, когда ты это сделаешь.
Я хотел было что-то сказать, но промолчал. Сунул руку в стиральную машину, запустил пальцы в огромную, мягкую, сырую гору матерчатых букв – точно выбирал номера для игры в бинго. Когда я набрал четыре буквы, Ава велела мне разложить их в ряд на полу, чтобы получилось слово. Буквы были такие: К, В, Ц, Р и О.
– Никаких слов не получается. Всего одна гласная.
Ава сидела далеко. Не могла видеть букв.
– Скажи мне, какие ты выбрал.
Я сказал.
Ава хлопнула себя ладонями по коленям:
– Эймон выбрал те же самые.
– Что-о?! Эймон тоже это делал? Ты тоже заставила его доставать из стиралки мокрые буквы? – Я поймал себя на том, что почти кричу.
– Да, это экзамен для вас обоих. Я заранее знала ответ, но надо же было удостовериться, – сказала она так, будто ничего особенного не случилось. Мол, чего это я разволновался?
Экзамен с мокрыми буквами из стиральной машины? Эймон тоже это делал? Безмолвное дитя. Йит. Проклятие. Впервые за много лет нашего знакомства я поглядел на Аву как на врага.
– Как ты думаешь, Ава сумасшедшая?
– Конечно сумасшедшая. А почему, по-твоему, я от нее ушел?
– Ты ушел? Она сказала, что все было наоборот – она от тебя ушла.
Эймон фыркнул и подергал себя за ухо:
– Знаешь, как говорят: не влюбляйтесь в психиатров, они и есть самые жуткие психи? Ну, а я скажу, что это и на военных корреспондентов распространяется. Не влюбляйтесь в военных корреспондентов. Они повидали слишком много кошмаров. Чужая боль и смерть впитывается до мозга костей и затуманивает сознание. Да, чувак, у Авы гироскоп набекрень.
Она тебе рассказала свою сказочку про Безмолвное Дитя? Ты потому ко мне пришел? – продолжил Эймон. Не дожидаясь моего ответа, взял стакан, глотнул водки. Словно заранее знал, что я скажу. – Ну, это еще ничего. Блажь, конечно, но хотя бы интересно. Отличная байка. Но потом были буквы в стиралке… и мороженые зверушки…
– Какие зверушки?
Он хлопнул меня по плечу:
– Она их тебе еще не подсунула? Ну, приятель, жди новых сюрпризов! Чем дольше с Авой тусуешься, тем больше она чудит. Я ушел после мороженых зверушек. Решил: все. Гадость.
– А если ребенок и вправду твой?
Эймон подпер рукой подбородок, уставился в пол:
– Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы Ава и ребенок ни в чем не нуждались. Но жить с этой женщиной я не стану. Нетушки. Она совсем сбрендила. – Говорил он спокойно, твердо. Очевидно, уже все обдумал и внутренне согласился со своим решением.
– Эймон, подожди-ка. Вообрази всего на минутку, что предсказание – чистая правда. Что, если ты – отец, и ребенок обречен прожить твою жизнь?
– А что не так с моей жизнью? Живу припеваючи.
– А как же твой отец и то, как он с вами обходился?
– Да, это была жесть, но я не собираюсь обходиться так со своей семьей, если когда-нибудь все-таки обзаведусь женой и детьми. – Эймон улыбнулся. – И летную школу я не заканчивал. Не бойся, я не стану летать над Авиным домом и пикировать на него сверху… Да, кстати, а твой отец? Он был хороший человек? Допустим, ребенок твой. Чего тогда опасаться Аве? Или ничего не опасаться?
– Я вообще не знал отца. Он бросил маму, когда мне было два года.
– Вот видишь! Сочувствую, конечно, но это значит, что ты в каком-то смысле опаснее меня. Если проклятие реально. Ты ведь не знаешь, что за человек был твой отец. Был или есть. Может, он еще почище, чем мой.
Мы переглянулись, и наше молчание означало, что мы оба разделяем его мнение.
Эймон засмеялся, встряхнул головой:
– Бедная Ава! Если сбудется худший сценарий, если проклятие реально, куда ни кинь – всюду клин. Мой папа был чудовище, твой – человек-загадка, возможно, какой-нибудь Джек Потрошитель.
Я только вздохнул:
– Но может, мой отец – прекрасный человек.
– Прекрасные люди семью не бросают.
– Ты же бросил Аву.
Его голос сорвался на глухое рычание:
– Она мне не семья. Я никогда не говорил, что хочу стать отцом.