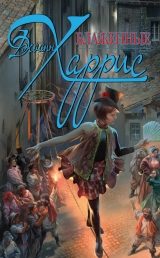
Текст книги "Блаженные шуты (Блаженные)"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Часть вторая ЛЕМЕРЛЬ
1
♠
18 июля, 1610
Каков мой первый выход, а? Разве не ясно, что я рожден для сцены – или, если угодно, для виселицы; по правде говоря, одно другого стоит. Цветы и люк под ногами, занавес в конце, в промежутке конвульсивное дрыганье. Даже в этом есть своя поэзия. Но пока я не готов шагнуть на тот дощатый настил. Когда наступит момент, уж будь уверена, ты первая об этом узнаешь.
Ты будто не рада нашей встрече? Надо же, после такой долгой разлуки! Элэ, Элэ, ненаглядная моя. Ах, как ты взлетала! Возникая будто из воздуха, ты ни разу не сорвалась, ни разу не промахнулась. Порой казалось даже, будто они и в самом деле настоящие, твои ладно уложенные под туникой крылья, взносившие мою обожаемую гарпию под ее вскрик к небесам. И вот ты здесь, и крылья твои подсечены! Должен отметить, ты все такая же. Едва блеснула на солнце ярко-рыжая грива – кстати, длиннее было красивей, – я тотчас тебя узнал. Ведь и ты узнала меня, не так ли, любимая? Ну да: видел, как ты вздрогнула, как взглянула. Что за радость чуткий зритель, – жадныйзритель, уж прости за такое слово, – в полной мере способный оценить размах моего таланта. Ради такого момента стоит жить.
Ты не подала вида. Что ж, этого следовало ожидать. Осмотрительность – ценнейшее качество, в данном случае твое. Но глаза... Что за глаза! Черный искристый бархат. Скажи хоть слово, моя Гарпия! Глазами говори со мной!
Знаю, в чем причина. Все из-за той дурацкой заварушки...Где это было? В Эпинале, кажется? Как не совестно! Держать зло столько лет! Не отпирайся: ты меня осудила, признала виновным и вмиг приговорила к повешению. Почему бы не выслушать осужденного? Молчу, молчу! Говоря по чести, я был убежден, что ты выкрутишься. Тюремные стены не преграда для моей Элэ. Крылья умчат ее в поднебесье. Острый язычок без труда вскроет тюремные затворы.
Да, да, понимаю. Но ты думаешь, я пошел на это с легкостью? Гнались ведь за мной, только за мной. Если б поймали, меня ждали бы пытки и верная казнь. Сама подумай, могли я взять тебя с собой? Я поступил так, Жюльетта, ради твоего же блага. Понимал, что в одиночку тебе будет легче улизнуть. Я думал, что вернусь. Клянусь! Рано или поздно.
Леборнь? Это тебе не дает покоя? Едва я собрался дать деру, он увязался следом. Умолял взять его с собой. Ради этого был готов перерезать всем вам глотки. Твердил, что сделает это мигом и без лишнего шума, только бы я его взял. Я сказал «нет», и тогда он вынул нож.
Я был безоружен, измотан бесконечными потугами ублажать толпу, весь в синяках от хватких рук благодарной черни. Леборнь метил мне в сердце, я увернулся, удар пришелся в правое плечо, рука беспомощно повисла. Почти теряя сознание от боли, я сопротивлялся изо всех сил против вооруженного ножом карлика. Извернувшись, левой рукой я вырвал у него нож, полоснул ему по горлу и был таков.
Видно, лезвие было отравлено. Уже через полчаса скакать было невмочь, руки не держали поводья. Я едва сумел спешиться и укрыться. Подобно умирающему зверю, я заполз в какой-то ров и ждал там своей участи.
Возможно, это меня и спасло. Они обнаружили мой угнанный бродягами фургон в четырех милях от Эпиналя; время ушло на поиски и допрос грабителей. Обессиленный, с гноящейся раной, я затаился в глуши, питаясь придорожными травами и плодами, какие ты указывала мне в пору наших совместных странствий. Слегка окрепнув, я подался в ближайший лес. Развел костер и, вспоминая твои наставления, готовил себе настои: полынь – от лихорадки, наперстянка – от боли. Твоя наука, милая колдунья, спасла мне жизнь. Надеюсь, тебе не в обиду мое признание.
Я ошибся? Жаль. Этот взгляд, как острый нож. Ладно! Пусть насчет Леборня я приврал, слегка. Мы оба были при ножах. Он оказался проворней, он первый меня полоснул. Разве я когда-нибудь перед тобой корчил из себя святого? Человек не властен изменить стихию, из которой рожден. Однажды и ты, моя жар-птица, это поняла. Будем надеяться ради нашего общего блага, что в том ты не разуверилась.
Ты выдашьменя? Голубка, неужто ты думаешь, что способна на такое решиться? Вот уж было бы презабавно, но только прежде чем на это пойти, подумай хорошенько. Кому от этого станет хуже? У кого из нас двоих ярче дар убеждения? Припомни, в свое время я и тебя умел убеждать. Видишь ли, бумаги мои безупречны. Их прежний владелец, священник, путь которого по счастливой случайности проходил через Лоррэну, едва в сумерках въехал в темный лес, внезапно занедужил (помнится, у него прихватило живот). Мгновенный счастливый конец. Я сам прикрыл ему глаза.
Ах, Жюльетта! Опять эти подозрения! Уверяю тебя, я испытываю нежнейшие чувства к малютке Анжелике. Ты считаешь, что для аббатисы она слишком юна? Поверь, церковь иного мнения и до неприличия самозабвенно превозносит достоинства этой дщери – вместе с ее денежками. И церковь, учти, как водится, внакладе не осталась. Еще добавила богатств к своим набитым золотом сундукам, к своим прирастающим землям, и все это взамен на крохотную уступку, на завязший где-то в песках монастырек, в котором отсутствие строгих порядков восполнялось беспримерным искусством прежней настоятельницы растить картошку.
Однако я позабыл про свои обязанности. Дамы... или, быть может, уместней сказать «сестры», или даже «дщери», чтобы вышло по-отечески? Пожалуй, не так: Дети мои!Это лучше. В дыму свечей глаза сверкают, как у черных кошек числом в шестьдесят пять. Вот она, моя новая паства. Смешно: в них ничего женского, даже запаха. Уж я бы угадал эти приглушенные цветочно-рыбные всполохи. От этих же несет только ладаном. Помилуйте, даже запаха пота не чувствуется. Дай срок, уж я их наставлю.
– Дети мои! Я прибыл к вам в дни скорби, но и с великим ликованием. В скорби за ушедшую от нас сестру нашу... (Как, бишь, ее?) – ...Марию, но и с ликованием в преддверии великих начал, к коим мы с вами ныне приступим.
Нехитрые слова, спору нет, но – действуют. Они уставились на меня во все глаза. Как я сказал, – кошки? Ну нет – скорее летучие мыши: мордочки усохшие, глазки выпученные, хоть и незрячие; сгорбленные спины, будто там сзади сложены черные крылья, ручки стиснуты на плоской груди, видно, из страха, что я непроизвольно уроню взгляд на не дозволенные для обозрения формы.
– Я говорю о грандиозных преобразованиях, о коих только что упомянула дочь моя Изабелла, о преобразованиях столь великих, что скоро вся Франция с почтительностью и благоговением заговорит о монастыре Сент-Мари-де-ля-Мер.
Пожалуй, самое время что-то процитировать. Может, из Сенеки? «Тернист путь к вершинам величия?» Нет. Думаю, к восприятию Сенеки мои слушательницы не вполне готовы. Тогда из Второзакония. И станешь ты всем на удивление притчею во языцех и имя твое пребудет у всех народов на устах.Разумеется, самое замечательное в Библии то, что в ней найдешь всему оправдание – даже разврату, кровосмешению и истреблению младенцев.
– Дети мои, вы свернули с пути истинного. Вы впали в греховность, позабыв священный обет, данный вами Господу нашему.
Именно таким голосом я произносил трагические монологи; уже лет десять назад я написал пьесу «Les Amours de l'Hermite», опередившую свое время. Глаза расширяются пуще, кроме страха в них уже проблескивает чуть ли не возбуждение. Слова ведь тому способствуют.
– Подобно жителям Содома, вы отвернули от Него лицо свое. Вы ублажали себя, и священное пламя остыло в ваших душах. Лелеяли тайные мысли, полагая, что никто их не услышит, предавались тайным страстям. Но Господь видит все.
Пауза. Легкий лепет шелестит по рядам, будто каждая перебирает свои прегрешения.
– Явижу все!
Щеки пылают в полутьме. Мой голос набирает силу, разносясь по часовне раскатисто, так что подрагивают стекла.
– Я вижу вас насквозь, пусть даже во стыде вы прячете лица свои. Суетность переполняет вас, ничтожность ваша воспламеняет вам щеки.
Удачная фраза. Надо бы ее запомнить, пригодится для моей новой трагедии. Некоторые физиономии уже, можно сказать, вселяют надежду. Вон та толстуха со слезами на глазах, губы дрожат, вот-вот разревется. Ну и шельма! Видел, как ее перекосило, едва дщерь моя упомянула о посте.
А ты, угрюмая, обезображенная шрамами? Ну-ка, в чем твойгрешок? Уж чересчур придвинулась к своей смазливой соседке, полускрытая мраком длань так и тянется к ее ручке. Вижу я, как, слушая меня, ты словно невзначай алчно поглядываешь на нее, как скряга на кубышку с монетами.
И ты, – да, да, ты, которая за колонной. Глаза закатила, точно испуганная кобыла. Щека то и дело дергается, губы трясутся. Беззвучно взываешь ко мне, сцепив пальцы на плоской груди. При каждом моем слове вздрагиваешь от страха, от наслаждения. Знаю, что тебе снится по ночам: упоенное самоистязание, покаянный сладостный восторг.
А ты? Раскраснелась, тяжело дышишь, глаза блестят, и не только в порыве благочестия. Моя первая ученица обращает ко мне лицо, протягивает руки. Лишь коснись рукой, молит она, лишь взгляни на меня, и я стану тебе вечной рабой. Не так скоро, дорогая моя, придется подождать. Продлим слегка удовольствие, насупим брови – и вмиг меркнет все вокруг. Но вот блеснул им спасительный луч, мой голос делается мягче, в возвышенных словах ласково журчит надежда на спасение:
– Но милость Господня, как и гнев Его, бесконечна. Заблудшая овца, возвращающаяся в стадо, во сто крат дороже Ему, чем ее более добродетельные сестры. (Вот умора! По опыту знаю, что заблудшая овца за все свои муки скорее всего угодит на воскресный вертел.) – «Возвратитесь, дети-отступники, – сказано в Книге Иеремии, – потому что я сочетался с вами и приведу вас на Сион».
На миг я перевожу взгляд на свою ученицу. Дыхание ее все порывистей. Еще немного, и она впадет в экстаз.
Монолог мой завершен. Разбросав им банальности, как манну небесную, я готов оставить паству в покое, пусть переваривает. Я продемонстрировал им и силу, и кротость. Чуть пошатнувшись, поднес руку к глазам, едва слышно проговорил, дескать, устал, путь был долог и нелегок, показав, что ничто человеческое мне не чуждо. Одна из сестер – Альфонсина, кажется, – услужливо поддержала меня под руку, подобострастно заглядывая в глаза. Я мягко отстранился. Не надо мне ваших фамильярностей!
Во всяком случае, пока.
2
♥
18 июля, 1610
Лемерль! Я моментально узнала эту его манеру, хитросплетение ухваток лицедея, проповедника и уличного лотошника. Да и маскировка весьма в его стиле, и когда он встречался со мной взглядом, я узнавала знакомый красноречивый блеск глаз, словно он стремится разделить со мной свой триумф. Сначала мне было странно, почему он решил не выдавать меня.
Потом сообразила. Мне была отведена роль зрителя, восхищенного ценителя. При этаком лицедействе и не иметь среди зрителей хотя бы одного, посвященного, кто мог бы по достоинству оценить всю дерзость его наглой выходки... На сей раз, впрочем, я ему подыгрывать не стану. Нынче днем никак не избежать работ на солончаках, но едва мне удастся улизнуть незаметно, чтоб не вызвать подозрений, возьму Флер и мы сбежим. Можно прихватить съестного на кухне. Хоть воровать у монашек дело недостойное, но подобраться к небольшой кладовке в глубине овощного погреба, где имеется сундучок с нашими сбережениями, замок на котором уже давным-давно сломан да так и не заменен, – дело нехитрое. Наша прежняя Матушка-настоятельница была добрая душа, она считала, что вера – лучшая защита от воровства; за все годы жизни в монастыре не припомню случая, чтобы кто-нибудь украл хотя бы грош. Да и на что нам деньги? У нас имелось все необходимое, ни в чем ином мы не нуждались.
Лемерль отбыл из часовни, а мы, взбаламученные, чего он, собственно, и добивался, принялись за свои повседневные обязанности. Уходя, он глянул на меня с усмешкой, как бы подзывая, я же сделала вид, будто не замечаю. К счастью, иных попыток он не предпринял. Новая аббатиса поспешила обследовать свои небогатые владения, Клемент кинулась в конюшни, Альфонсина занялась наведением уюта в сторожке у ворот, отведенной для жилья новому духовнику, Антуана вернулась в кухню и занялась приготовлением ужина, а я отправилась на поиски дочки.
Я обнаружила ее в амбаре, она играла там с одной из прибившихся к кухне кошек. Без лишних слов я строго-настрого наказала ей – остаток дня держаться подальше от всех, ждать меня в дортуаре, не разговаривать ни с кем до моего прихода.
– А почему?
Флер дразнила кошку шишкой на веревочке.
– После объясню. Делай, как я велю.
– А с кошкой можно разговаривать?
– Разговаривай на здоровье.
– А с Переттой? С ней можно?
– Тс-с-с! – я приложила палец к губам. – Есть такая игра, прятки. Скажи, ты сможешь тихо, как мышка, затаиться до позднего вечера, пока я не вернусь?
Флер нахмурилась, все еще не сводя глаз с кошки:
– А ужин?
– Я тебе принесу.
– И кошке?
– Там видно будет.
Было решено, что Лемерль на монашеский капитул допускается, но вместе с нами трапезничать не будет. Меня это не удивило – новый порядок, направленный на воздержание, вряд ли отвечает его запросам. Не укрылось также от моего внимания и то, что жить Лемерль собирается у самых ворот монастыря, что давало бы ему отличную возможность наблюдать за любыми перемещениями в монастырь и из него. Это меня встревожило; значит, теперь надо все тщательно обдумать заранее. Каковы бы ни были его помыслы, духовник уезжать явно не торопился.
Ну и пусть, говорила я себе, меня его помыслы совершенно не заботят. Отсутствие Лемерля на вечерней трапезе предоставляло мне идеальную возможность подготовиться к побегу. Скажу, будто прихватило живот, соберу свои пожитки, заскочу в кухню и в кладовую за провиантом, припрячу узелок с самым ценным где-нибудь у наружных стен монастыря. Мы с Флер, как обычно, отправимся спать, потом, когда все уснут, потихоньку улизнем, подхватим свой узелок и в предрассветный отлив побежим к дамбе. Едва окажемся в безопасности, уж тогда я примусь за Лемерля. Достаточно одной записки, одного словечка кому следует, его мигом разоблачат. Виселица давно по нему стосковалась, а душа моя наконец обретет покой.
Но когда за полчаса до вечерней трапезы я вернулась в дортуар, Флер не выбежала мне навстречу. Не было ее ни в саду, ни в монастырском дворике, ни в курятнике. Я была раздосадована, но обеспокоена не слишком; Флер девочка резвая и часто перед сном где-нибудь пряталась. Я осмотрела все ее излюбленные тайные уголки до единого; ее нигде не было.
Под конец я отправилась на кухню. Мне пришло в голову, что Флер, должно быть, проголодалась, а наша повариха, сестра Антуана, питавшая слабость к детям, часто совала им пирожки, печенье с кухни или яблочко-падалицу. На этот раз, однако, она встретила меня как-то растерянно, глаза необычно красные, и вся с виду точно слегка опала, будто из пухлых щек наполовину сдут воздух. Едва я произнесла имя Флер, Антуана жалобно взвыла, будто внезапно вспомнив что-то средь своих многочисленных забот.
– Бедняжечка! – бормотала она, сжимая пухлые руки. – Я как раз собиралась сказать тебе, но... – Она осеклась, как бы не зная, с чего начать. – Столько всяких перемен! Она, сестра Огюст, пришла ко мне на кухню... я как раз варила мясо, заготовить на зиму, в гусином жиру, с лесными грибками, – она с омерзительной издевкой посмотрела на меня.
– Кто пришел? Флер?
– Да нет же, – затрясла головой Антуана. – Мать Изабелла! Эта ужасная девчонка!
Я отмахнулась от нее:
– Об ней после. Где моя дочь?
– Так я же и говорю!Она сказала, что ей не подобает находиться здесь. Сказала, будет отвлекать тебя от твоих забот. Она ее отослала.
Не веря своим ушам, я уставилась на Антуану:
– Отослала? Куда?
Та взглянула виновато:
– Что я могла поделать...
Но все же мне показалось, что она явно хитрит.
– Это ты им сказала? – я схватила ее за рукав. – Антуана, это ты сказала им, что Флер моя дочь?
– Не могла же я смолчать! – заныла толстуха. – Рано или поздно все бы раскрылось. Не я, другая проговорилась бы.
Я с такой яростью схватила ее за руку, что Антуана чуть не в голос завопила:
– Отпусти! Ой-ой! Пусти, Огюст, больно! Я не виновата, что они ее отослали! Нечего было ее тут держать!
– Антуана, посмотри мне в глаза! – Толстуха терла руку, не поднимая взгляда – Куда ее отослали? К кому-нибудь в деревню? – Она беспомощно замотала головой, и я едва подавила желание ей наподдать-Прошу тебя, Антуана! Я же мать, пойми! Скажи, я никому тебя не выдам!
– Не «Антуана», а «ma soeur» [33]33
Сестра моя (фр.).
[Закрыть]! – напыщенно поджав губы, произнесла толстуха. – Между прочим, гневаться грех. И волосы у тебя длинные. Остригла бы. – Она взглянула на меня неожиданно нагло. – Теперь у нас все станет по-новому. Все равно придется.
– Пожалуйста, скажи, Антуана! Я отдам тебе последнюю бутылочку своего лавандового сиропа!
Глаза ее загорелись:
– И розовые лепестки в сахаре?
– Ну, изволь... Где Флер?
– Я слышала, как Матушка Изабелла говорила с новым духовником, – понизив голос, сказала Антуана – Кажется, ее отправили к жене какого-то рыбака, куда-то на материк. Они той заплатили, – добавила она так, будто это была моя обязанность.
Но я не слушала ее:
– На материк? Куда именно?
– Больше ничего не знаю, – развела руками Антуана.
Я оцепенела, точно громом пораженная. До меня медленно доходило то, что случилось. Не успела я против него и пикнуть, как Черный Ворон уже обвел меня вокруг пальца. Понял, должно быть, что дочь бросить на произвол судьбы я никак не смогу. Без нее мне пути отрезаны.
Какое-то время я мысленно все еще цеплялась за попытку бежать. Следы еще свежие, хотя уже поздно, начался прилив, перебраться на ту сторону можно только завтра. Флер на острове все знали; возможно, кто-то видел, куда ее повезли. Но в глубине души я понимала: тщетно. Лемерль наверняка и это предусмотрел.
В груди у меня заныло. Я представила себе Флер взбудораженную, перепуганную, зовущую меня, такую несчастную, отнятую от матери, не получив ни светлого заговора, ни благословения звезд в напутствие. Кто, кроме меня, убережет ее от бед? Кто, кроме меня, знает ее привычки, кто помнит, что в зимние ночи нельзя гасить свечу у ее постельки, кто счистит темное пятнышко на яблоке, прежде чем разрезать на четвертинки?
– Я даже с нею не попрощалась... – вырвалось у меня невольно, но Антуана уже снова презрительно глядела на меня.
– Я не виновата, – снова повторила она. – У нас тут никого больше с детьми нет. Чем ты лучше других?
Я смолчала. Мне уже было ясно, кто затеял все это. Зачем это ему? Неужто что-то от меня надо?
Возвратившись к себе в келью, я обнаружила, что и постельки Флер уже нет. Все мое имущество как будто было на месте: книги и бумаги, запрятанные за отстававший камень в стене, не тронуты. У кровати, полускрытую под свисавшим одеялом, я обнаружила Муш, куколку Флер. Перетта соорудила ее из тряпок и лоскутков, когда Флер была совсем маленькая, и кукла стала любимой игрушкой дочки. Ручки и ножки Муш уже столько раз приходилось пришивать. Волосы у нее были из разноцветных пучков шерсти, а личико с глазами-пуговками и алыми щечками странным образом напоминало мордочку Перетты. Как и ее создательница, Муш была нема; на месте рта у нее и не было ничего нарисовано.
Я застыла с куклой в руках, мысли путались. Первым побуждением было отыскать нового духовника, заставить его, – пусть даже приставив к горлу нож, – сказать, куда он упрятал мою дочь. Но я хорошо знала Лемерля. Он бросил мне вызов, сделал первый решительный ход в игре, ставки которой были мне неведомы. Если пойду к нему сейчас, то стану пешкой в его игре. Надо выждать, и тогда, возможно, я заставлю его раскрыть карты.
Всю ночь я ворочалась и металась в жаркой постели. Мой отсек дальше всех от двери, и, пусть дальше идти к выходу по надобности, но соседка у меня всего одна. И еще у меня есть окно, хоть и выходит на восток, и мой крайний отсек просторней, чем другие. Ночь выдалась душная, сулившая грозу. В предрассветные часы, томимая бессонницей, я смотрела в окно, как занимается над морем гроза, безмолвно вспыхивая громадными ходулями зарниц на фоне ало-черных туч. Но дождя не было. Я думала: видит ли это Флер, или она, измученная, спит, засунув в рот пальчик, в чужом доме, у незнакомых людей.
– Ш-ш-ш-ш, Флеретта! – вместо пропавшей дочери, шептала я кукле, гладя шерстяные кудряшки, будто перебирая пальцами волосики Флер. – Я с тобой. Все хорошо.
Я начертала звездный знак на лобике у Муш и проговорила заклинание моей матери. Stella, bella, bonastella.Наверное, вульгарная латынь. Но в мелодике древних слов было что-то успокаивающее, и хоть сердце мое не перестало щемить, я почувствовала, что страх немного утихает. В конце концов, не может же Лемерль не понимать, если с головы Флер хоть один волосок упадет, ничего он от меня не добьется. Так я украдкой размышляла в дортуаре среди спящих сестер, прижав к себе Муш. Молния над морем озаряла острова один за одним.
3
♥
19 июля, 1610
Сегодня особых перемен не произошло. Новая аббатиса надолго удалилась с Лемерлем в свою часовню, предоставив нас самим себе. Праздничность сменилась чувством тревожной неизвестности. Все переговаривались вполголоса, будто в присутствии тяжелобольного. Сестры вернулись к своим обязанностям, но в целом, кроме Маргериты и Альфонсины, без особого рвения. Даже Антуана уныло возилась в своей кухне, ее привычное идиотское добродушие увяло после вчерашнего обвинения в излишествах. Явились несколько рабочих из мирян осмотреть часовню, и у западного фасада уже возвели леса, вероятно, чтоб поглядеть, сильно ли прохудилась крыша.
И снова в то утро первым моим поползновением было отыскать Лемерля и расспросить про дочь. Несколько раз я уж было решалась направиться к нему, но вовремя себя сдерживала. Несомненно, именно моего прихода он и добивался.
Вместо этого я все утро проработала на солончаках, но привычной легкости как ни бывало, теперь я истово рубила мотыгой соляные кучи, превращая в грязную жижу гладкую белую массу. Исчезновение Флер, отзываясь где-то под ложечкой, все глубже, точно язва, разжигало все внутри. Как черное облако, эта боль на все набрасывала свою тень. Она была сильней меня, но я знаю: молчание – мое единственное оружие. Пусть он сделает первый шаг. Пусть сам придет ко мне.
Возвратившись, я узнала, что Лемерль с новой аббатисой рано разошлись по своим почтенным обителям – она удалилась в келью своей предшественницы, он в домик у самых стен монастыря, – оставив сестер в непривычном для них смятении. В отсутствие аббатисы и духовника повсюду шепотом обсуждались грядущие нововведения, иные негромко роптали, и перемывалось множество досужих домыслов и скороспелых сплетен.
Во многом судачили о Лемерле, и меня не удивило, что о нем произносилось немало восторженных слов. Хоть кое-кто с возмущением высказывался о девчонке, задумавшей нарушить наше привычное существование, но лишь немногие остались равнодушны к благообразному новому духовнику. Конечно же, первым делом была очарована им Альфонсина, перечислявшая достоинства мнимого отца Коломбэна с пылом новообращенки.
– Я сразу поняла, сестра Огюст. Я с первого же взгляда поняла это по его глазам! Такие глубокие, такие всевидящие!Будто проникают вглубь меня. До самой души! – Она дрожала, сомкнув веки, открыв рот. – Мне кажется, сестра Огюст, он истинно свят! В нем столько святости. Я чувствую это!
Надо признаться, Альфонсину уже не в первый раз одолевал приступ чрезмерного обожания, – такое уже случилось однажды по приезде к нам местного приора, повергшего ее недели на две в состояние прострации, и я надеялась, что и нынешнее пылкое восхищение Лемерлем у нее скоро пройдет. А пока она вспыхивает при звуках его имени и, драя полы, зачарованно то и дело повторяет шепотом, как молитву: Коломбэн де Сент-Арман!
На Маргериту он также произвел неотразимое впечатление. Как и Альфонсина, она проявила неистовое рвение к чистоте, беспрестанно мыла и терла что ни попадя; вздрагивала при малейшем шуме, а по приближении Лемерля краснела и заикалась, как юная отроковица, хотя сама она – высохшая сорокалетняя кляча, в жизни своей не знавшая мужчин. Видя ее смущение, Клемент безжалостно над ней потешалась, но остальные ее не трогали. Я бы сказала, ничего в чувствах Маргериты к новому духовнику комичного не было; что-то проглядывало в них темное, даже отталкивающее.
Прежде яростные соперницы, Маргерита с Альфонсиной сделались на время союзницами в общей страсти. Вместе они вызвались привести в порядок дом для Лемерля. Домик, заброшенный с времен черных монахов, находился в весьма запущенном состоянии. Утром Маргерита с Альфонсиной вместе отобрали мебель, которая, по их разумению, могла бы удовлетворить запросы нового духовника, обставили ею дом, и уже к вечеру все внутри блестело чистотой, земляной пол покрывал новый ковер, и во всех трех комнатках красовались вазы с цветами. Отец Коломбэн с надлежащим смирением выразил им свою благодарность, и с этой минуты обе сестры сделались его безоговорочными рабынями.
Вечерняя трапеза была скудна и состояла из одного лишь картофельного супа; мы ели в полном молчании, хотя двое новых обитателей монастыря в трапезной не присутствовали. Позже, собираясь ко сну после вечерни, я совершенно явственно увидала в окно, как Антуана шла через двор в сторону домика у ворот. Что-то несла на большом накрытом подносе. Что ж, пусть хоть новый духовник нынче откушает вволю. Видно, что-то почуяв, Антуана обернулась на окно: на неявном в вечернем мраке лице тревожно чернел раскрытый рот. Внезапно она резко повернулась, надвинула плат пониже и исчезла во тьме.
Ночью я снова раскинула карты, вынув их осторожно, тихонько из тайника в стене. Отшельник. Двойка кубков. Шут. Звезда: ее круглое рисованное личико в обрамлении кудряшек и широко распахнутые глазки напомнили мне Флер. Башня, рушащаяся на фоне ало-черного неба, разрываемого зубчатыми стрелами молний.
Нынче ночью? Вряд ли. Но надеюсь, что скоро. Скоро. И если мне выпадет рушить башню, – камень за камнем, своими руками, – уж я порушу, будьте уверены. Я это сделаю.
4
♠
19 июля, 1610
Ворожба! Это ли не ужасно? Сродни колдовству, иссушает плоть. «Malleus Maleficarum» [34]34
«Молот ведьм» (лат.) (1489 г.) – книга доминиканских монахов Шпренгера и Инститориса, долгое время служившая на Западе руководством по борьбе с ведьмами.
[Закрыть]называет это «отвратительной непристойностью», одновременно утверждая, что ворожба не сбывается. И все же удивительная штука – ее карты, столько там всяких поразительных подробностей. Возьмем, к примеру, Башню. До удивления похожа на монастырскую, такая же четырехугольная, такой же деревянный шпиль. Или вот эта Луна, правда, повернута вполоборота, но ее лик до странности кого-то напоминает. И этот Отшельник в черном, едва видны глаза под низко надвинутым капюшоном, в одной руке посох, в другой – фонарь.
Нет, Жюльетта, тебе меня не провести. Я знаю, что у тебя есть тайник. Его и дитя малое могло бы отыскать за тем отходящим камнем в глубине дортуара. Особо таиться ты никогда не умела. Нет, я не стану тебя разоблачать... по крайней мере, пока. Ты можешь мне пригодиться. Всякому, даже такому, как я, необходим союзник.
В первый день я лишь наблюдал. Из моего домика у самых ворот можно видеть все, не оскорбляя праведных чувств. Желания и святому не чужды, твержу я Изабелле. В самом деле, если б не было желаний, можно ли было говорить о святости или о жертвенности? У меня нет желания жить в монастыре. Кроме того, я дорожу своим одиночеством.
В домике позади есть дверца, она выводит к глухой стене. Черные монахи, похоже, гораздо больше пеклись о грандиозности строительства, чем о собственной безопасности, ибо моя сторожка с таким впечатляющим фасадом таит в себе нечто большее: это не просто шаткая каменная постройка между монастырем и болотами. Это – легчайший способ улизнуть, если возникнет надобность. Но до этого не дойдет. Мое дело требует некоторого времени, и я исчезну тогда, когда мне будет нужно.
Как я уже сказал, сегодня я наблюдал издали. Она старается не показывать вида, но я вижу ее боль, вижу это напряжение в спине и плечах, хотя она пытается изобразить, будто ничто ее не угнетает. Когда мы странствовали вместе, она ни разу не срывала выступлений, даже когда выпадали увечья. Неизбежные беды, случающиеся даже в первоклассных труппах, – растянутые, порванные связки, даже переломы пальцев на руках и ногах, – ничто не останавливало ее. Она неизменно, даже если от боли темнело в глазах, ослепительно улыбалась. Это был некий протест; собственно, против чего – непонятно. Возможно, против меня. Я и теперь вижу это в ней, и в том, как она отводит взгляд, и в ее мнимой смиренности. Глубоко в ней засела боль, которую гордость показывать не позволяет. Она любит свою дочь. Пойдет на все, чтоб ее защитить.
Странно, я никогда и вообразить не мог, что моя Элэ способна родить ребенка; я считал, что она слишком неукротима, чтоб согласиться на этакую неволю. Симпатичный детеныш, взгляд, как у матери, а в ее детской неуклюжести уже угадывается девичья грациозность. Она и нравом пошла в мать: когда я подсаживал ее к себе на лошадь, укусила меня, на руке остались следы ее маленьких зубок. Кто ее отец? Верно, какой-то случайный попутчик, какой-то не упустивший своего деревенский мужлан, или торговец, или актер, или священник.
Или я? Надеюсь, ради ее же блага, что нет. У меня дурная кровь, да и какой из меня, черной птицы, родитель? И все же я рад, что ребенок в надежных руках. Лягнула меня в бок, когда я спускал ее с лошади, и укусила бы снова, если б Гизо ее не удержал.
– Прекрати! – сказал я.
– Хочу к маме!
– Ты ее увидишь.
– Когда?
– Слишком много задаешь вопросов, – со вздохом сказал я. – Ну же, будь послушной девочкой и ступай с месье Гизо, он купит тебе пирожное.
Девчонка взглянула на меня. По щекам у нее текли слезы, но глаза были наполнены злостью, не страхом.
– Вороний дух! – выкрикнула она, выставив два толстых растопыренных пальчика – Вороний дух, сгинь, пропади!
Только этого мне не хватало, думал я, возвращаясь обратно. Чтоб пятилетний ребенок меня проклял. Да и вообще, зачем такая обуза, как ребенок; с карликами справляться гораздо легче, они куда забавней. Правда, эта, кто б ни был ее папаша, – храбрый чертенок. Пожалуй, могу понять, отчего моя Жюльетта так ее обожает.
Но почему вдруг меня кольнула досада? Ее любовь – всего лишь ее слабость, и это мне на руку. Она рассчитывает обмануть меня, моя Бескрылая, отвлекая, как бекас, хищника от своего гнезда. Прикидывается дурочкой, ускользая от меня, появляется только в толпе, или трудится одна посреди солончаков, понимая, что на широком безлюдном пространстве я поостерегусь к ней подойти. Сутки прошли. Я все ждал, что она ко мне придет. Упрямство ей свойственно, оно злит, но и радует меня. Может, во мне говорит моя испорченность, но мне и в самом деле нравится ее непокорность, и, пожалуй, будет жаль, если она вдруг ее утратит.








