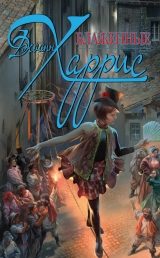
Текст книги "Блаженные шуты (Блаженные)"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Он нас бросил. Сам спасся; видно, почувствовал приближение опасности, знал, если мы затеем бежать толпой, его, скорее всего, поймают. Леборня, который, видно, учуял его вероломство, было опасно оставлять живым. Карлика нашли под фургоном с перерезанным горлом, с обезображенным лицом. Остальных – женщин, цыган, карликов, всех, кого легко заменить, – Лемерль швырнул под ноги своим преследователям, как пригоршню монет. Выходило по всему, что Лемерль нас продал. Уже в который раз.
Только слишком поздно я это осознала. Нас заковали в кандалы, повели одной цепью, по обеим сторонам шагали вооруженные стражники. Эрмина рыдала в голос, волосы упали ей на лицо. Я шла за ней, гордо расправив плечи. Буффон хромал сзади, кривясь от боли. Стражник с моей стороны – жирная свинья с сальными глазками и ртом-пуговкой, – похотливо забормотав, потянулся рукой к моей щеке. Я с ненавистью сверкнула на него глазами, жаркими и сухими, точно раскаленные камни.
– Посмей хоть пальцем тронуть, – еле слышно выдохнула я, – мигом хотелка отсохнет, я ведь не проста, знаю нужное словцо...
– Ты свое, сучка, получишь, – огрызнулся стражник. – Уж я позабочусь.
– Кто б сомневался, скотина! А про словечко-то помни!
Глупо было мне ему угрожать. Но меня всю трясло от ярости. Казалось: если смолчу – разорвет на части.
Снова и снова в голове кругами, точно тупой мул за колесом, медленно по ходу выстраиваясь, тянулась мысль: как он мог так поступить? Со мной!Ладно, с Эрминой, ладно, с Буффоном и Беко. С карликами. Но со мной? Почему он не взял с собой меня?
И это открытие – если б он позвал, я бы, верно, пошла за ним– мгновенно, резко наполнило меня жгучим отвращением к себе. Я-то считала себя достойнее, лучше, сильнее, порядочнее многих. Но в Лемерле, как в зеркале, отразилось то, какая я на самом деле. Значит, и я способна на предательство. На трусость. На убийство. Вот, значит, какая я. Ярости моей не было конца, как и желанию его кроваво покарать. Эти мысли не давали мне покоя во сне, плотно окутывали при свете дня.
Арестантская была забита битком, и нас заперли в подвалах суда. В каморках с земляным полом было холодно; стены, точно иней, покрывал солевой налет. Я вспомнила: если к соли добавить немного серы и угля, получится неплохое взрывчатое вещество, – но что мне было от этого толку. Здесь не было окна, не было выхода, дверь заперта. Опустившись на влажный пол, я принялась обдумывать свое положение.
Виновность очевидна. Никто и слова в защиту не скажет. У судьи Реми оказался богатый выбор – как же, Лемерль предоставил ему столько возможностей. Воровство, порча, самозванство, ересь, бродяжничество, колдовство, убийство – любое из этих обвинений могло по закону окончиться смертным приговором. Другой бы – верующий – мог обрести утешение в молитве, но молиться я не умела. Для таких, как мы, любил повторять Леборнь, Бога не существует, потому что мы не созданы по его образу и подобию. Мы – блаженные шуты, недоделанные, в нас что-то треснуло при обжиге. Откуда нам знать, как надо молиться! А если б знали, что могли бы мы сказать Ему?
Я села, опершись спиной о каменную стену и вытянув ноги на утрамбованном земляном полу, и так просидела до самого рассвета, согревая обеими руками новую жизнь в своем чреве, слыша через стену звуки чьих-то рыданий.
Как вдруг что-то вывело меня из забытья. Кругом была кромешная тьма, но я отчетливо услыхала звук отодвигающегося дверного засова и крадущиеся шаги по ступенькам лестницы. Опираясь спиной о стену, я с трудом поднялась на ноги. Спросила шепотом:
– Кто здесь?
Теперь до меня донеслось сдерживаемое дыхание приближавшегося человека, шелест одежды о стену. Во тьме, хоть дрожала дрожмя, я воздела недрогнувший кулак. Ждала, чтоб подошел поближе.
– Жюльетта!
У меня екнуло сердце:
– Кто ты? Откуда знаешь мое имя?
– Умоляю, Жюльетта... У нас мало времени.
Я медленно опустила кулак. Я поняла: это Доктор Чума, тот, который уже пытался меня предупредить, чей голос был так удивительно знаком. И еще знаком запах, сухой запах химикалий.
– Джордано?– В изумлении выдохнула я во тьме.
Из темноты взволнованно донеслось:
– Тс-с-с! Говорю же, девушка, нет времени. На-ка, возьми!
На меня упало что-то мягкое. Одежда. Что-то пропахшее плесенью, наподобие рясы, вполне пригодное, чтоб прикрыть наготу. Прикидывая, что все это значит, я стала ее натягивать.
– Так. Теперь ступай за мной. Быстро. У нас считанные секунды.
Люк над ступеньками был распахнут. Первым в него пролез Доктор Чума и помог мне выбраться наружу. Меня, уже привыкшую к темноте, свет в коридоре мгновенно ослепил, хоть на стене висел один-единственный светильник. Еще плохо соображая, я повернулась к старому другу, но его скрывали длинноносая маска и черный плащ.
–Ты – Джордано? – снова спросила я, потянувшись рукой и касаясь колдовской маски из папье-маше.
Доктор Чума покачал головой:
– Вечно ты с вопросами! Я подсыпал стражнику слабительного в похлебку. Тот гоняет в нужник каждые десять минут. На сей раз он позабыл ключ.
Джордано уж было подтолкнул меня к двери. Но я вскинулась:
– А как же мои друзья?
– Нет времени! Если бежишь одна, у нас обоих есть шанс. Идешь ты или нет?
Я замерла в нерешительности. В этот миг я словно услышала из-под черной маски голос Лемерля, и даже будто, как я шепчу ему пошло, гадко в ответ: Возьми меня. Брось остальных. Меня возьми.
– Никогда! – яростно сказала я себе. Да, если бы Лемерль позвал меня, я бы, возможно, и пошла. Но это «если бы» такое крохотное, такое нетвердое, чтоб строить на нем свое будущее. Почувствовав, как мое не родившееся дитя шевельнулось во мне, я поняла: стоит мне сейчас проявить слабость, тень Лемерля потом постоянно будет мне отравлять радость общения с моим ребенком.
– Без товарищей не пойду! – сказала я.
– Вот упрямая! – прошипел, обернувшись ко мне, сражавшийся с замком старик. – Всегда была упрямая, как ослица! Может, они и правы, ты и в самом деле ведьма. Видно, сам диббук [27]27
Злой дух из древнееврейского фольклора, который часто принимает человеческое обличье.
[Закрыть]в твоей рыжей башке засел. Ты губишь нас обоих.
Рассветный воздух пахнул свободой. Мы, с жадностью глотали его на бегу. Я рвалась остаться вместе со всеми, но Джордано грозно и яростно настоял, и я подчинилась. Мы мчались по улицам Эпиналя, укрываясь в тени, пробиваясь закоулками по колено в мусоре. Точно в полусне, я не соображала, что со мной происходит; наше бегство протекало в каком-то лихорадочном небытии. Прорывы в памяти: лица в трактире, в свете красного фонаря рты разинуты в беззвучном пении; луна, скачущая над краем облака, кромка леса, подчерненного снизу; башмаки, сверток с едой, припрятанный под кустом плащ, рядом привязанный мул.
– Бери. Это мой. Никто не спохватится, он не украден.
Джордано по-прежнему маски не снимал, но я узнавала его по голосу. Волна нежности накатила на меня:
– Джордано... Как давно это было... Я думала, ты умер.
До меня донесся сухой трескучий звук; должно быть, он рассмеялся.
– Так просто от меня не отделаешься! – И строго добавил: – Да беги же ты, наконец!
– Постой! – сказала я.
Я дрожала и от страха, и от волнения.
– Я так долго искала тебя, Джордано. Что сталось с нашей труппой? С Жанеттой, с Габриелем, с...
– Не время. С тобой хоть всю ночь болтай, вопросов у тебя не поубавится.
– Хотя бы одно скажи. – Я схватила его за плечо. – Скажи, и я уйду.
Он помедлил, кивнул. В своей маске он походил на большого грустного черного ворона.
–Да, – сказал он наконец. – Изабелла...
И в тот же миг я поняла, что матери уже нет на свете. Все эти годы я не ворошила память о ней, спрятав у самого сердца, как оберег: ее горделивый стан, ее улыбку, ее песни и ее заветное слово. Оказалось, она умерла во Фландрии, так глупо, от чумы; теперь о ней только и остались обрывки памяти да сны.
– Ты был рядом с нею? – дрогнувшим голосом спросила я.
– А ты как думаешь? – отозвался Джордано.
Любовь случается нечасто, но длится вечно,– будто прошелестели слова моей матери, тихо-тихо, в его хриплом вздохе. И я поняла, почему он следовал за мной, почему рисковал ради меня жизнью, почему не мог теперь взглянуть мне в глаза, открыть свое лицо, спрятанное под маской Доктора Чумы.
– Сними маску, – сказала я. – Я хочу видеть тебя, прежде чем уйду.
Лунный свет озарил лицо старика, глаза ввалились так глубоко, будто то была уже иная маска, как и прежняя – безглазая, но еще более трагичная в его потугах изобразить улыбку. Влага, выступившая из глазниц, скатилась в глубокие борозды по обеим сторонам рта. Я хотела было его обнять, но он резко отстранился. Он всегда терпеть не мог, чтоб к нему прикасались.
– Прощай, Жюльетта. Беги не медля, не теряй ни минуты, – то был голос прежнего Джордано, резкий, отрывистый, мудрый – Ради своей и их безопасности не ищи остальных. Захочешь, продай мула. Передвигайся в темное время.
Все же я обняла его, хотя окаменевшие плечи не ответили на мою ласку. От его одежды знакомо пахло чем-то пряным и серой, знакомым запахом алхимии, и мое сердце тоскливо сжалось. Я почувствовала, как он дрожит в моих объятиях, словно откуда-то из самой глубины рвутся наружу рыдания. Но вот чуть раздраженно он отпрянул.
– С каждой минутой ты упускаешь время, – сказал он слегка дрогнувшим голосом. – Все, Жюльетта, уходи!
Мое имя прозвучало в его устах, точно скупая ласка.
– А ты? – не унималась я. – Как же ты?
Он еле заметно улыбнулся и покачал головой, как делал всегда, когда считал, что я несу околесицу.
– Я уж и так согрешил ради тебя, – сказал он. – Забыла, что по субботам я никуда не выхожу?
Он подсадил меня на мула, огрел его с обеих сторон по бокам, и тот припустил вперед по лесной тропинке, звучно цокая подковами по сухой земле. Я до сих пор помню лицо Джордано в лунном свете, шепот его прощальных слов, и то, как мул трусил по тропинке, и запах земли и золы в ноздрях, и как Джордано послал мне вдогонку свой «шалом»,– и врожденная совесть из дали моих тринадцати лет хмуро и неотступно следует за мной, точно нагорный глас Божий.
Больше я его не видала. Из Эпиналя я проехала сначала через Лоррэну к Парижу, потом, когда живот заметно округлился, повернула обратно к побережью. Едва припасы Джордано кончились, в поисках пищи я продала, как он наказывал, его мула. В сумках, притороченных к седлу, я обнаружила то, что мой старый наставник уберег из моего фургона, – немного денег, кое-какие книги, украшения, попавшиеся среди моих платьев, стразы, неотличимые от настоящих камней. Я выкрасила волосы в иной цвет, чтоб они меня не выдали. Я вслушивалась в известия, приходившие из Лоррэны. Но по-прежнему ничего нового, ни имен, ни слухов о кострах. Но что-то во мне и поныне, пять лет спустя, чего-то ждет, словно с тех пор время приостановилось, возник антракт между действиями, остался неразрешенный конфликт, и он сулит кровавую развязку.
Снова и снова в моих снах всплывал его образ. Манящий, как лес, его взгляд. Во сне продолжается наша страстная драма, сцена опустела не навеки, она ждет, когда актеры возобновят свою игру, губы распахиваются, чтоб произнести слова роли, которая, как мне казалось, давно позабыта.
Еще один танец,говорит он мне, и я извиваюсь, мечусь в своей узкой постели. Ты всегда была самой желанной.
Я просыпаюсь в холодном поту с твердой мыслью, что Флер умерла. Даже точно уловив ухом, что это не так, я все еще не решаюсь повернуться к ней, лежу и слушаю, как она тихонько дышит. Дортуар будто наполнен тревожным бормотанием. Сцепив зубы, я сдерживаю в себе страх. Стоит приоткрыть рот, и вырвется крик, которому не будет конца.
12
♥
18 июля, 1610
Первой их увидала Альфонсина. Было около полудня, им пришлось ждать отлива. Наш остров не вполне остров; при отливе образуется широкий путь на материк, основательно вымощенный булыжником, чтобы можно было благополучно перебраться через отмель. Это только говорится «благополучно», вдоль всей морской глади гуляют мощные течения, способные размыть булыжник, хотя его держит толщенный слой известкового раствора. По обе стороны зыбучий песок. А когда накатывает прилив, он с бешеной скоростью заливает отмель, захлестывая дорогу, смывая все на своем пути. Но они степенно, медленно и неуклонно продвигались через пески, их ползущие тени отражались на мелководье, дальние силуэты расплывались во вздымавшемся с дороги жарком воздухе.
Альфонсина сразу поняла, кто это. Карета тряслась по неровной дамбе, подковы лошадей скользили по позеленевшим камням. Перед каретой скакали двое верховых в ливреях. Позади шагал некто пеший.
В то утро я уединилась на дальний край острова. Проснувшись рано после беспокойной ночи, я, взяв в собой в долгую прогулку Флер, вышла из монастыря с корзинкой, чтобы набрать росших в дюнах мелких гвоздик, от их настойки сладко спится. Я знала одно место, где они густо, обильно росли, но душа была не на месте, сбор гвоздик не заладился, я нарвала лишь небольшую охапку. Хотя бы в оправдание, почему надолго отлучилась из монастыря.
Вдвоем с Флер я позабыла о времени. За дюнами есть небольшой песчаный пляж, где она любит играть. То и дело взбираясь на дюну и прыгая вниз, мы с ней протоптали по песку множество дорожек. Вода была чиста, неглубокое дно усеяно маленькими разноцветными камешками.
– Можно мне сегодня искупаться? Можно?
– Купайся!
Флер бултыхалась, как собачонка, повизгивая и брызгаясь в щенячьей радости. Я, стянув монашеское одеяние, вошла в воду вслед за Флер, а ее кукла Муш глядела на нас с дюны. Потом я вытерла дочку и себя краем своей одежды, сорвала несколько маленьких твердых яблочек с яблони у дороги, потому что солнце уже поднялось высоко и, значит, к обеду мы уже опоздали. Потом Флер уговорила меня вырыть с ней большую норку, туда мы накидали кусочки водорослей, изобразив берлогу чудища, потом полчасика она подремала в тени, прижав к себе Муш, а я поглядывала на нее с тропинки у дюны, слушая шепот накатывающего прилива.
Да, лето выдалось засушливое, думала я. Без дождей худо будет с урожаем, с кормом для скота и птицы. Рано поспевшая ежевика уже ссохлась, превратившись в серые комочки. Виноград тоже страдает от засухи, ягоды твердые, точно горошины. Мне стало жалко всех, кому, подобно труппе Лазарильо, выпала в это лето бесконечная дорога.
Дорога. Я представила ее себе, вызолоченную солнечным светом, усеянную осколками моей прежней жизни. Была ли моя дорога так уж плоха? Тяжко ли я страдала все годы странствий? Всякое бывало. Мы знали холод и голод, предательства, гонения. Я силилась все это вспомнить, и дорога сияла передо мной, словно путь сквозь зыбучие пески, и мне вспомнились слова, которые однажды произнес Лемерль в ту пору, когда у нас все было хорошо.
– Мы с тобой по природе схожи, – сказал он. – Мы оба пламенные натуры. Как огонь и воздух. Стихию, которая нас породила, невозможно изменить. Потому, моя Элэ, дорога – наша судьба. Нельзя огню не гореть, а птице отказаться от неба.
Мне это удалось. Я отказалась от неба, и вот уже столько лет даже глаз не поднимаю в вышину. Но я не забыла. Дорога остается дорогой, и она терпеливо ждет моего возвращения. Как страстно я этого хочу! Что смогла бы я отдать, чтоб вернуть свободу, вернуть себе женское имя, женскую судьбу? Чтоб каждую ночь видеть иные звезды, чтоб есть мясо, поджаренное на костре, чтоб танцевать на канате, а, возможно, и – летать? На этот немой вопрос мне и отвечать не надо. От одной лишь мысли я радостно встрепенулась и снова на миг стала прежней Жюльеттой, той, что пешком пришла в Париж.
Нет, что за вздор. Распроститься с налаженной жизнью в монастыре, с близкими людьми, предоставившими мне спасительный кров? Пусть монастырь и не стал мне желанным домом, о котором я мечтала, но он дал мне все необходимое для жизни. Пищу зимой, крышу над головой, работу для не ведавших грубого труда рук. Ради призрачной мечты бросить все это? Поставить все на карту?
Тяжелые ботинки вязли в песке, занесшем тропинку. Я со злостью пнула носком в песок. Все ясно, сказала я себе. Ясно и до глупости очевидно. Жара, бессонные ночи, являющийся в снах Лемерль... Мне нужен мужчина. В этом все и дело. Элэ меняла любовников каждую ночь, выбирала какого хотела – то нежного, то грубого, то темноволосого, то белокурого, и сны ее слагались из их запахов и их тел. Да и Жюльетта была натура чувственная: Джордано укорял ее за то, что плавала нагая в реке, что валялась по росистой траве, что тайно часами засиживалась над его латинскими поэтами, с трудом разбирая незнакомый язык, только чтоб хоть изредка представить себе тугую задницу римлянина... И Элэ, и Жюльетта знали, как одолеть этот недуг. Но мне – сестре Огюст, с мужским, даже стариковским [28]28
В католических монастырях монахини принимали имена католических святых, нередко это были мужские имена, в монастыре понятие пола не акцентировалось. Наша героиня, видимо, была названа в честь святого Августина.
[Закрыть], именем – как мне-то быть? С тех пор, как родилась Флер, я мужчины не знала. Можно было бы за утешением прибегнуть к женской ласке, как сестра Жермена с сестрой Клемент, но эти радости никогда меня не прельщали.
Жермена, муж которой, застав ее с девицей, полосонул ей лицо кухонным ножом четырнадцать раз, по числу ее тогдашних лет, – ненавидит мужчин. Я замечаю, что она поглядывает на меня. Я вижу, она считает меня красивой. Не такой, как Клемент – с личиком мадонны и грязными помыслами, – но достаточно для себя привлекательной. Иногда она подолгу смотрит на меня, когда мы работаем в саду, но ни слова не проронит. Ее светлые волосы острижены короче, чем у мальчишки, но под нескладной коричневой робой угадывается стройный и грациозный стан. Из Жермены могла бы выйти отличная плясунья. Но портит ее не только изуродованное лицо. Спустя шесть лет после того несчастья, она внешне кажется старше, чем я: бледные, тонкие губы; почти бесцветные, точно соляной раствор, глаза. Она сказала мне, что подалась в монастырь, чтоб больше не видеть мужчин. И вся она – точно кислое яблоко, точно иссушенный виноград, что рад бы налиться, да гибнет без дождя.
Смазливая и наглая Клемент все это видит и заставляет Жермену страдать, заигрывает со мной, когда я занята своими монашескими заботами. В часовне она порой шепотом кокетничает, ластится ко мне, в то время как Жермена за ее спиной беспомощно, подавленно слушает, внутренне страдая, хотя ее изуродованное лицо, как обычно, ничего не выражает.
Жермена – человек без веры, она ни малейшего интереса к религии не испытывает. Как-то я рассказала ей про своего Бога с женской душой – думала, ей это понятней с ее ненавистью к мужскому полу, – но она и мои слова восприняла равнодушно.
– Если даже такое когда и было, – бросила сухо-после мужчины все равно все перекроили по-своему. Иначе зачем бы им держать нас взаперти и внушать нам чувство вины? Чего им так бояться?
Я возразила, сказав, что у мужчин нет причин бояться нас, на что она с резкой усмешкой бросила:
– Да ну? – И указала на свое лицо: – А эточто, по-твоему?
Может, она и права. Но все же во мне нет к мужчинам ненависти. Только к одному-единственному, но даже и он... Снова прошлой ночью он был в моем сне. Так близко, что я чувствовала запах его пота, его кожи, гладкой, как моя. Я его ненавижу, но в моем сне он был нежен. Я узнаю его, где бы он ни был, даже если его лицо скрыто тенью, даже если лунный свет не золотит выжженную у него на плече лилию.
Меня разбудило пенье птиц. Миг я снова была в том времени, до Эпиналя, до Витре, и черные дрозды распевали вокруг нашего фургона, и мой любимый смотрел на меня, и в его смеющихся глазах стояло лето...
Всего одно мгновение. Лукавый демон прокрался ко мне в душу, пока я спала. Дух. Это невозможно, не должна я больше томиться о нем, сказала я себе.
Ни единой жилкой.
Было уже далеко за полдень, когда мы возвратились в монастырь. Я сняла свой плат, но все равно волосы были влажны от пота, балахон лип к телу. Флер семенила рядом, волоча в руке свою Муш. Ни единой души не было видно. Оно и понятно при таком зное, ибо многие из сестер в отсутствие настоятельницы пристрастились дремать в дневное время, отложив свои нехитрые заботы на прохладное время после Часа Девятого [29]29
Пятая из семи канонических служб католической церкви, приходится на 3 часа дня, то есть на девятый от утра час.
[Закрыть]. Однако, увидев нездешнюю лошадь, пасущуюся у монастырских ворот, а также следы колес на пыльной земле, я тотчас поняла: то, чего мы ждали уже тринадцать дней, наконец свершилось.
– Комедианты, что ли, вернулись? – с надеждой спросила Флер.
– Нет, маленькая, похоже, не они.
– Жалко!
При виде ее огорченной мордашки я чмокнула ее в щеку.
– Поиграй тут немного одна, – сказала я. – Мне надо в монастырь.
Проводив Флер взглядом, – она припустила вприпрыжку по дорожке, – я повернулась и легким шагом, словно камень упал с души, пошла к монастырю. Ну, вот и настал конец тревогам и неизвестности. Теперь у нас новая настоятельница, теперь будет кому направить нас в нашей неприкаянности, в наших страхах. Она будет уравновешена и строга, эта женщина, пусть уже не первой молодости. Ее улыбка, должно быть, полна достоинства и спокойствия, правда, в ней есть и смешинка, ведь без этого невозможно утешить стольких разочаровавшихся в жизни. Это будет добрая, честная и порядочная женщина с материка, не гнушающаяся тяжелого труда, и пусть ее смуглые руки в мозолях, но они мягки и ласковы. Она, наверное, любит слушать музыку и работать в саду. Она, верно, женщина практичная, много на своем веку повидавшая, она сумеет помочь нам обрести опору в жизни, и в то же время она не слишком тщеславна, жизненный опыт ее не ожесточил, она еще способна взглянуть на мир с мудростью, с тихой радостью.
Оглядываясь назад и изумляясь своей наивности, я вижу, что те мои мечты явно были окрашены воспоминаниями об Изабелле, моей матери. Я знаю, она, какой вспоминается мне сейчас, не слишком схожа с той, что я видала в последний раз. Только любовь способна нарисовать в воспоминаниях ее так, как я сейчас ее вижу: нежной и сильной. В моей памяти она очень красивая, куда красивей Клемент, и даже самой Богоматери, хотя я до сих пор плохо помню и цвет глаз матери, и отдельные черты ее властного, смуглого лица. Еще не увидав нашу новую аббатису, я уже заранее представляла ее с лицом моей матери, и мне сделалось легко, как ребенку, который долго корпит один над сложнейшей задачей и вдруг видит в окно, что домой возвращается мать. Я припустила бегом к странно притихшему монастырю, волосы развевались на ветру, юбка взметалась выше колен.
Во дворе было тихо и прохладно. Я подала голос, едва вошла, но мне никто не ответил. В домике у ворот пусто; казалось, все обитатели покинули монастырь. Я бежала по широкой, залитой солнцем крытой аркаде между кельями, но никого нигде не было видно. Пролетела мимо трапезной, мимо кухонь, мимо пустого капитула, устремившись к церкви. Служба, говорила я себе, должно быть, давно закончилась. Видно, новая аббатиса собрала сход.
Подходя к часовне, я услышала голоса, пение. Сердце упало, я толкнула дверь. Первой оглянулась Альфонсина.
– Сестра Огюст! – воскликнула она. – Слава Богу, сестра Огюст! А у нас новая...
Она не договорила, видно, от волнения. Мой взгляд уже устремился вперед, глаза с жадностью искали мудрое светлое женское лицо своих надежд. Но у алтаря я увидела только маленькую девочку лет одиннадцати-двенадцати, с мертвенно-бледным личиком, выглядывавшим из аккуратного белоснежного плата, вялая рука протянута в благословении.
– Сестра Огюст!
Голосок слабенький, холодный, под стать владелице, и в ту же секунду я резко ощутила всю несуразность своего внешнего вида: взлохмаченные волосы, горящие щеки.
– Мать Изабелла! – Голос Альфонсины срывался от избытка чувств – Мать Изабелла, наша настоятельница!
Изумление было столь велико, что я чуть было не расхохоталась. Эта пигалица? Да нет, не может быть! Сама мысль казалась абсурдной, – эта девочка с именем моей матери, должно быть, просто послушница, просто ей покровительствует новая аббатиса, которая, верно, стоит рядом и посмеивается над моей растерянностью... Но вот наши взгляды встретились. Глаза у девочки были очень светлые и без всякого блеска, как будто весь свет втянут внутрь. На болезненном юном личике не отражалось ни резвости ума, ни радости, ни счастья.
– Так ведь она же совсем ребенок!
Совершенно непозволительные слова. Я поздно сообразила, но от изумления просто не сумела сдержаться. Девочка нахмурилась, вскинула губку, обнажив мелкие, ровные зубы.
– Простите, Матушка!
Слово не воробей. Я преклонила колени, приложившись губами к протянутой бледной ручке.
– Сама не знаю, как вырвалось...
Уже по холоду пальцев я почувствовала, что мое извинение не принято. На мгновение я увидела себя ее глазами: потная, раскрасневшаяся простолюдинка, пропитанная запретными ароматами лета.
– Почему без плата?
Ледяной тон пробрал меня до костей.
– Я... я его обронила, – пролепетала я. – Я работала в поле. Было жарко...
Но она уже на меня не глядела. Белесые глазки медленно, равнодушно проследовали вдоль обращенных к ней в ожидании лиц. Альфонсина глядела на девочку с жадным обожанием. Воцарилось холодное молчание.
– Я урожденная Анжелика Сент-Эврё Дезире Арно, – произнесла девочка тихо, без всякого выражения, но ее слова будто пронзали насквозь. – Может показаться, что я юна для миссии, возложенной на меня Господом. Но для вас я – носительница Слова Божьего, и Он укрепит меня на этой стезе.
На миг мне сделалось ее жаль, такую юную, такую беззащитную, изо всех сил старающуюся казаться величественной. Я попыталась представить, как она, должно быть, жила до сих пор, взращенная в гнетущей атмосфере двора, в кругу интриг, разврата. В ней, этом хрупком существе, все их пиры, все их яства, плавающие в жиру цесарки, пирожки, pièces montées [30]30
Фигурные торты (фр.).
[Закрыть], выложенные на блюде павлиньи сердца, запеченная foies gras [31]31
Гусиная печенка (фр.).
[Закрыть]и заливные языки жаворонков, наверное лишь усиливали отвращение к подобного рода излишествам. Церковь со своими обрядами, со своим темным фатализмом, со своей нетерпимостью прибрала к рукам это тщедушное чадо, которое вряд ли дотянет до двадцати лет. Я попыталась представить себе, каково было ей, в десять с небольшим попасть в монастырские стены, твердить, как заведенной, вслед за своими святыми наставниками их речения и захлопнуть дверь в окружающий мир, еще не успев понять, что он ей сулит.
– Вы изрядно распустились.
Отроковица заговорила снова, и в ее старании быть услышанной сильней обозначилась ее гнусавость.
– Я просмотрела записи в книге. Убедилась, сколько праздности склонна была дозволять здесь моя предшественница. – Она бросила беглый взгляд в мою сторону. – Я намерена с сегодняшнего дня положить этой праздности конец.
Слова вызвали тихое перешептывание среди сестер. Я взглянула на Антуану: в замешательстве у той даже челюсть отвисла.
– Во-первых, – продолжала девочка, – ваш внешний вид. – Снова косой взгляд в мою сторону. – Я успела отметить некоторую... небрежность... у отдельных сестер, которую считаю неподобающей монашескому сану. Судя по всему, прежняя аббатиса допускала ношение кишнота...Отныне такого больше не будет.
Стоявшая справа от меня старуха Розамонда недоуменно взглянула на меня. Свет из верхнего окна падал на ее белый головной убор.
– Кто это дитя? – в дрожащем голосе прозвучало недовольство – Что она такое говорит? Где Матушка Мария?
Я яростно подавала ей знаки, призывая умолкнуть. Розамонда хотела было сказать еще что-то, но внезапно ее морщинистое лицо обмякло, на глаза навернулись слезы. Она тихонько забормотала что-то себе под нос. Между тем новая аббатиса продолжала:
– Даже за короткое время я успела заметить отступления от требуемого порядка. – Голос тянулся гнусаво, будто зачитывал тексты Священного Писания. – Начнем со Святой мессы. Это просто непостижимо, но уже давно в вашем монастыре мессу вообще перестали служить.
Воцарилась неловкая тишина.
– Мы воздавали молитвы, – вставила Антуана.
– Одних молитв недостаточно, ma fille [32]32
Дочь моя (фр.).
[Закрыть], – отрезала девочка. – Ваши молитвы не найдут святого отклика в отсутствие посланника Господнего.
Каждое ее слово вызывало во мне внутренние колики смеха. Нелепость ситуации вмиг избавила меня от чувства неловкости. То, что это тщедушное дитя призвано молиться за нас, морщить лобик и надувать губки, точно старая ханжа, и называть нас своими дщерями, казалось какой-то невероятной шуткой, подобно тому, как в День Дураков слуга обряжается в платье хозяина. Подобной же пародией был и призывающий к покаянию нагой Христос в этом храме, куда б уместней ему было в таком виде скрыться в чистом поле или плавать в синем море.
Матушка-отроковица продолжала:
– Отныне мессу будем служить ежедневно. Возобновим ежедневные восемь богослужений. По пятницам и святым праздникам будем поститься. Вне всякого сомнения, в моем монастыре не будет места потворству и излишествам.
Наконец-то ее голос обрел силу. Резкий дискант зазвучал повелительно, и я поняла, что за ее болезненным самомнением таится скрытый фанатизм, даже истовость. То, что сначала я приняла за смущение, теперь вылилось в высокородное высокомерие, какого я уже не встречала с той поры, как оказывалась при дворе. В моем монастыре!Меня покоробили эти слова. Будто монастырь наш ей не более чем игрушка, а мы – что-то вроде кукол.
Голос мой прозвучал резче, чем хотелось бы:
– Священник есть только на материке. Как же нам мессу служить ежедневно? Да и откуда у нас такие деньги?
Она опять взглянула на меня, и я пожалела, что не сдержалась. Если до сих пор я не нажила в ней врага, то после последнего высказывания в этом уже можно не сомневаться. Аббатиса презрительно поджала губы:
– Со мной прибыл мой духовник. Духовник моей мачехи, который упросил взять его с собой, чтоб помогать мне в моих делах.
Могу поклясться, при этом она слегка покраснела, чуть потупила глаза и голос даже стал чуть теплее.
– Знакомьтесь, отец Коломбэн де Сент-Аман, – она слегка кивнула в сторону человека, который до сих пор держался в тени колонны. – Мой друг, учитель и духовный наставник. Надеюсь, что и вы все вскорости полюбите его, как и я.
Я обмерла, точно громом пораженная: я увидела его перед собой четко и ясно, шутовские краски окна-розетки озарили лицо, руки. Его черные как смоль волосы, теперь длинней, чем прежде, были сзади у шеи стянуты лентой, но в остальном он предстал в точности таким, каким запечатлелся в моем сердце: поворот головы на свет, черные брови вразлет, лесная тайна во взгляде. Черное ему шло. Продуманно эффектный в этой рясе священника, без единого украшения, кроме того самого сияющего серебряного креста, он остановил свой взгляд прямо на мне с едва заметной, наглой усмешкой.








