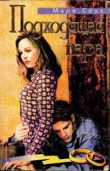Текст книги "Спи, бледная сестра"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Луна[26]26
Карта в правильном положении означает заблуждение, непредвиденные опасности; двуличие и зависть окружающих; беременность; влияние интуиции, снов, фантазий. В перевернутом – обольщения, скрытые опасности, душевную болезнь, напрасные мечты.
[Закрыть]
19
Знаю, знаю. Я был намеренно жесток. И мне это нравилось – нравилось преследовать ее среди могил, нравилось, что ее охватывает паника, нравилось смотреть, как она пытается спрятаться, падает, поскальзывается; а какое удовольствие было наконец настигнуть ее, поднять с грязной дорожки, чтобы она прижалась ко мне, как ребенок, и ее растрепанные, мокрые от слез волосы облепили лицо. Теперь я мог позволить себе благородство – она снова была моей.
Успокаивая ее, я начинал понимать Генри Честера: моя власть над ней была эротична по самой своей сути, ее слезы – мощнейший афродизиак. Впервые за всю мою распутную жизнь женщина принадлежала мне целиком, душой и телом. Она так остро желала доставить удовольствие, жадно приникая губами к моему лицу в сладком раскаянии. Она обещала, что никогда больше не попытается перечить мне, и тут же клялась, что умрет, если я оставлю ее, и меня кружила карусель самых разных чувств. Я снова по уши влюбился в нее. Стоило мне подумать, что я могу устать от нее, – она вернулась ко мне обновленной.
Она выдыхала безумные слова, уткнувшись мне в волосы:
– О, Моз… это раздирает мне тело и душу… ты мне нужен… я тебя никогда не отпущу, не позволю бросить меня… я скорее тебя убью…
С трудом переведя дыхание, она повернула ко мне бледное лицо. На миг свет далеких уличных фонарей отразился в нем, раскрыв ее черты в драматичной светотени: огромные глаза, темные и неподвижные, тени на губах как синяки, красивое лицо искажено гримасой такой разрушительной страсти, что мне стало не по себе. Она казалась мстительным темным ангелом, несущим безумие и смерть в протянутых руках. Она успела сбросить одежду, и ее кожа отливала мертвенной бледностью в неверном свете. Она сделала шаг вперед, мое имя прозвучало проклятием из ее уст – а потом оказалась в моих объятиях, и кожа ее пахла лавандой, землей и потом. Мы любили друг друга там же, где стояли, и она непрестанно бормотала свою сумасшедшую бессмыслицу. Впоследствии я осознал, что в черном апогее страсти умудрился дать обещание, которое, возможно, придется сдержать.
Эффи сидела на могильной плите, обхватив колени руками, как маленькая, и дрожала. Я потрогал лоб – у нее был жар. Я уговаривал ее скорее одеться, чтобы не простудиться. Она едва отвечала, лишь смотрела на меня пустыми скорбными глазами, и прежнее раздражение вернулось ко мне.
– Бога ради, ты что, не можешь помочь? – резко сказал я, пытаясь застегнуть на ней платье.
Эффи все так же смотрела на меня из темноты, словно утопленница из озера.
– Эффи, ну давай же, нельзя же просидеть здесь всю ночь, – сказал я чуть мягче. – Тебе нужно вернуться домой, пока Генри не заметил.
Но Эффи не двинулась. У нее был нездоровый вид, кожа бледная и горячая, как лава. Я не мог отпустить ее на Кромвель-сквер в таком состоянии, если не хотел предать эту скандальную связь огласке. Но и на кладбище ее оставлять нельзя. Было холодно – я и сам уже дрожал, – а ее лихорадило. Кроме всего прочего, ей необходимо было переодеться – одежда вся в грязи, подол разорван. Оставался только один выход, и, раздумывая над ним, я ощутил злую усмешку где-то в животе. В этой идее была своеобразная поэтичность…
– Давай, моя дорогая, – бодро сказал я, поднимая Эффи на ноги. – Я отведу тебя к Фанни. Умоешься, она даст тебе чистую одежду, а потом вернешься домой, пока слуги не проснулись.
Не знаю, слышала ли она меня, но позволила провести себя по тропинке на улицу. Один раз она вздрогнула от какого-то шума за спиной и впилась острыми ногтями в мое запястье, но в основном послушно шла рядом. Я оставил ее у ворот и нашел экипаж. Когда я усаживал Эффи, возница удивленно приподнял брови, но гинея, вложенная в горячую ладонь, быстро положила конец его любопытству; в остальном же редкие прохожие даже не взглянули на нас. Тем лучше.
В доме на Крук-стрит, естественно, горел свет. Весьма хорошенькая рыжеволосая девица открыла дверь и пригласила нас войти. Эффи безропотно последовала за мной. Оставив ее с красоткой, я отправился искать Фанни.
Надо отдать должное Фанни, ее бордель всегда был на высоте: карточная комната, курительная, гостиная, где джентльмены могли отдохнуть в пышной обстановке и побеседовать с дамами. В этих апартаментах она никогда не дозволяла распутства – для такого существовали отдельные комнаты на втором этаже, – а всем, кто не соответствовал ее стандартам, вежливо отказывали от дома навсегда. Я знавал титулованных особ, куда менее разборчивых, чем Фанни Миллер.
Я нашел ее в курительной – ей всегда нравились такие тонкие черные сигары, – одета она была очаровательно и экстравагантно: лиловая шляпа с кистями и смокинг в тон. Две аметистовые заколки едва удерживали копну каштановых кудрей, блестевших на матовом бархате. Кошка у нее на коленях холодно уставилась на меня.
– А, Моз, – пропела она. – Что привело тебя сюда?
– Пустячная проблема, – беспечно ответил я, – и наш общий друг. Простите, что помешал. – Последняя реплика была адресована собеседнику Фанни, пожилому джентльмену с дрожащими руками и хитрой физиономией.
Фанни перевела агатовые глаза с моих грязных ботинок на лицо и снова на ботинки.
– С вашего позволения, – сказала она своему пожилому другу. Оставив сигару в фарфоровой пепельнице и сняв шляпку и смокинг, она последовала за мной в коридор. – Ну, в чем дело? – спросила она куда менее любезно.
– Эффи здесь.
– Что? – Ее глаза сузились и запылали. – Где она? Я не понял ее внезапной ярости и стал вкратце объяснять, что случилось. Она сердито отмахнулась.
– Ради бога, тише! – прошипела она. – Где она?
Я сказал о девушке, с которой оставил Эффи, и Фанни, не взглянув на меня, заторопилась вверх по лестнице, гневно сжав красивые губы.
– Что-то не так? – крикнул я вслед, хватая ее за рукав бархатного платья. Она резко обернулась и хотела отбросить мою руку – но усилием воли сдержалась. Когда она заговорила, голос ее был ядовито спокоен.
– Генри тоже здесь, – произнесла она.
20
Комната казалась странно знакомой. Я плыла, дух мой клубился над телом, словно джинн в бутылочном горле, мне то ли чудились, то ли вспоминались кроватка с лоскутным одеялом, стол, табурет, картины на стене. Моз, Генри, безумие, овладевшее мною на кладбище, – все представлялось сном, в этой обманчивой темноте я и сама была сном во сне. Я смутно помнила, как мы приехали в дом на Крук-стрит, как меня вели наверх… чьи-то заботливые руки; лица; имена. Девушка примерно моих лет, с блестящими медными волосами и изумрудами в ушах – Иззи. Полная добродушная женщина, округлые белые груди в глубоком вырезе корсажа – Виолетта. Китаяночка с гагатовыми волосами и нефритовыми кольцами на каждом пальце – Габриэль Чау.
Я помнила их имена, их голоса, помнила, как мягко смешивались запахи их напудренных тел, когда они раздевали меня и умывали теплой ароматной водой… потом все на время исчезло, и вот я уже умыта и удобно лежу в узкой белой постели, на мне хлопковая детская сорочка с оборками, волосы расчесаны и заплетены на ночь. Я немножко подремала, потом проснулась, зовя маму, – мне снова было десять, и я боялась темноты. Пришла Фанни с каким-то теплым сладким питьем; но в моей голове Фанни перепуталась с мамой, и я тихонько заплакала.
– Пусть он больше не приходит… – умоляла я. – Не пускай его, не пускай плохого дядю!
Я отчего-то боялась, что Генри придет и сделает мне больно, хотя он спал в своей кровати в милях отсюда, и в лихорадочном забытьи я прижималась к Фанни и называла ее мамой, и плакала. Должно быть, в питье был опий, потому что я снова заснула, а когда проснулась, голова звенела, во рту пересохло – и было страшно. Я резко села в постели: кто-то стоит за дверью. Скрипнула половица, в полоске света под дверью я увидела чью-то тень, услышала чье-то хриплое дыхание. Меня охватил неистовый, безумный ужас, я вжалась в спинку кровати, накрывшись целиком, но даже сквозь одеяло дыхание раздавалось у меня в голове, мне казалось, я слышу лязг металла о дерево – это хищник поворачивал дверную ручку. Не в силах отвести глаз, я смотрела, как полоса света становится все шире и шире и на пороге возникает массивный мужской силуэт.
Генри!
Я на миг засомневалась: может, это опиумная галлюцинации? Но все здравые мысли отбросило волной паники, и я снова перестала понимать, кто я. Я уже была не Эффи, но кто-то совсем юный, ребенок, дух…
– Кто здесь? – Голос у него был резкий, но не злой, он как будто нервничал. Я не ответила, и пронзительный голос повторил уже громче: – Кто здесь, я спрашиваю? Я тебя слышу. Кто ты?
Я беспомощно пошевелилась, и Генри шагнул вперед.
– Я тебя слышу, маленькая чертовка. Я тебя в темноте слышу. Кто ты?
Чужим голосом я произнесла первое пришедшее в голову имя:
– Марта… Марта Миллер. Пожалуйста, не трогайте меня, уходите.
Но, услышав имя, Генри шагнул вперед. Он стоял в трех футах и не видел меня – но я видела его лицо в свете, падающем с лестницы, видела, как он всматривается, как исказились его черты, будто в страхе.
– Покажись. – В его голосе была не просто настойчивость. – Выйди на свет, чтобы я тебя увидел.
Он попытался схватить меня, и я отпрянула, скользнув за столбик кровати, прячась в густой тени. Падая, я ушибла ногу и резко вскрикнула:
– Пожалуйста! Оставьте меня! Уходите!
Генри чертыхнулся вполголоса и сделал еще один шаг в темноте.
– Я тебя не обижу, обещаю. – Голосу него был неприятный, приторный. – Я просто хочу увидеть твое лицо. Проклятье! – Он выругался, налетев на тумбочку. – Черт возьми, иди сюда, я сказал!
И тут на лестнице послышались торопливые шаги. Я выглянула из-за столбика. Это была Фанни – в руке поднос с молоком и печеньем, бровь изогнута в ледяном изумлении. Генри моментально выскочил из комнаты. Увидев их рядом на лестничной площадке, я впервые обратила внимание, какая Фанни высокая. Она величественно возвышалась над Генри, как ослепительная египетская богиня. Он весь будто съежился, умиротворяюще протягивая руки.
– Кто там? – спросил он почти извиняющимся тоном.
Улыбка Фанни сверкнула холодом – будто стекло разбилось.
– Моя племянница Марта, – сказала она. – У нее жар, она бредит. А почему вы спрашиваете? – Это был вызов, но Генри спасовал и беспокойно отвел глаза.
– Я что-то услышал… – невнятно начал он. – И… я разволновался. А она не хочет показаться, непослушная девчонка. Я… – Он натянуто засмеялся. – Я и не знал, что у вас есть племянница. – В его словах звучал вопрос.
– Когда-нибудь вы ее увидите, – пообещала Фанни. Она вошла в комнату, поставила поднос на тумбочку и закрыла дверь. – Идемте, Генри, – твердо сказала она. Он, кажется, замялся, но потом я услышала, как их шаги удаляются по коридору к лестнице.
21
Уже почти рассвело, когда я вернулся на Кромвель-сквер. Я валился с ног, голову туманили алкоголь и тяжелые ароматы того дома, душная смесь ладана, дыма и грубого зловония кошек и женщин. В наказание я запретил себе брать извозчика на обратном пути, но от низменного удовлетворения не могла избавить и самая долгая прогулка. Она была совсем молоденькой – лет пятнадцати, но, конечно, не такая юная, как обещала Фанни, – и хорошенькой, с вьющимися каштановыми волосами и румяными щечками. Она не была девственницей, но роль свою знала назубок, изображала сопротивление и даже по-настоящему плакала для меня.
Не смотрите так на меня! Она всего лишь шлюха, ей платят за исполнение прихотей. Если бы ей это не нравилось, она бы выбрала профессию подостойнее. А так золотая гинея быстро высушила ее слезы, и уже через десять минут она как ни в чем не бывало поднималась наверх с другим клиентом. Нет смысла жалеть эти создания, уверяю вас: с самого рождения они порочны до мозга костей. По крайней мере, я мог утолить свою постыдную жажду с ними, а не с Эффи. Я делал то, что делал, ради нее. Верьте, когда я говорю, что сердце мое было верно ей. Она была моим символом чистоты, моей спящей принцессой… Я знал, что в ней семена разврата, но должен был сделать так, чтобы они никогда не проросли. Моя любовь могла сохранить ее целомудрие, и, каких бы жертв это ни требовало, я готов был приносить их ради нее.
Да, случались и промахи. Иногда ее скрытая чувственность не позволяла мне справиться с минутной слабостью, но я прощал ей ее природу, хотя это и принижало ее в моих глазах, – так же, как простил свою мать за то, что спровоцировала мое первое непростительное падение.
Я прокрался мимо спальни Эффи к себе. Было темно, в свете свечи я едва различал очертания умывальника, кровати и платяного шкафа. Прикрыв дверь, я поставил свечу на камин. Я сбросил одежду, повернулся к кровати – и потрясенно задохнулся. В мерцающих тенях я увидел детское личико на своей подушке: жуткие зеленые глаза сверкали лютой ненавистью и жаждой мести.
Бред, конечно – не было никакого ребенка. Откуда ему взяться в моей постели глубокой ночью? Не было никакого ребенка. Чтобы убедиться, я заставил себя присмотреться. И снова этот яростный взгляд. Но на этот раз я заметил оскал острых как иглы зубов. Отпрянув, я схватил свечу. Язык пламени прочертил дымную полосу в воздухе, и я направил свечу на призрака, капая воском на простыни и обжигая пальцы. Тварь прыгнула на меня, с угрожающим шипением разинув пасть, – и со смесью злости и невероятного облегчения я узнал тощий коричневый силуэт. Кошка Эффи метнулась в темноту, исчезла за шторами и выпрыгнула в открытое окно.
Я взглянул на свое отражение в зеркальной дверце шкафа – лицо покрыто белыми пятнами, губы перекошены.
Я был зол на себя за то, что обычная кошка смогла напугать меня до полусмерти, но еще больше зол на Эффи, которая по какому-то нелепому капризу притащила в дом бродячее животное. Как там она ее назвала? Тисифона? Должно быть, какая-нибудь заморская чепуха из ее книжек – я знал, что еще не все их нашел. Я пообещал себе утром основательно обыскать ее комнату и выяснить, что она от меня прячет. А что касается кошки… я потряс головой, отгоняя видение лица на моей подушке, зеленые глаза, уставившиеся на меня с ярой ненавистью… Это просто кошка. Тем не менее я принял десять гранов хлорала, нового снотворного, рекомендованного моим новым другом доктором Расселом, и только потом смог опустить голову на эту подушку.
22
Я помню касание ее прохладных сильных рук к моим волосам. Ее лицо в свете лампы, бледное, как луна. Шорох ее юбок. Ее духи, теплый золотистый аромат янтаря и шипра. Ее голос, тихий, спокойный, напевавший без слов в такт поглаживаниям. Тише, тише, засыпай… Генри – лишь дурной сон, растворившийся в океане света. Часы на камине тикали громче моего сердца, а оно было легким, как одуванчик, и мягкие пушинки отсчитывали минуты теплой летней ночи. Глаза закрыты, легкие сонные мысли летели в гостеприимную темноту сна. Голос Фанни такой нежный, мелодичный, каждое слово как ласка.
– Шшш… спи. Спи, малышка… Засыпай… шшш… – Ее волосы коснулись моего лица, я улыбнулась и забормотала. – Вот так. Шшш… Спи, моя милая, моя Марта, любовь моя.
Убаюканная в ее объятиях, я позволила течению тихонько нести меня прочь. Она гладила меня по голове, а я смотрела, как мимо, словно воздушные шарики, проплывают воспоминания. Моз… кладбище… выставка… Генри… Какими бы яркими они ни были, я могла отогнать их прочь, и вскоре увидела яркое облако шариков: нити переплелись, краски сияют в лучах заходящего солнца. Это было так красиво, что я, кажется, заговорила вслух тонким голоском маленькой девочки:
– Шарики, мамочка, они улетают. Куда они летят? Мои волосы заглушали ее голос.
– Далеко-далеко. Они летят в небо, прямо в облака… они все разноцветные, красные, желтые, синие… Видишь?
Я кивнула.
– Полетай с ними немножко. Сможешь? Я снова кивнула.
– Чувствуешь, как летишь вверх? Ты летишь вверх, с шариками. Вот так. Шшш…
Я поняла, что начинаю подниматься, без усилий, просто думая об этом. Я выплыла из тела, умиротворяющая картина все еще стояла перед закрытыми глазами.
– Ты уже раньше так летала, – мягко сказала Фанни. – Помнишь?
– Помню, – почти беззвучно произнесла я, но она услышала.
– На ярмарке, – настаивала Фанни.
– Да.
– Ты можешь опять там оказаться?
– Я… я не хочу. Я хочу лететь с шариками.
– Шшш, милая… все хорошо. Никто тебя не обидит. Мне просто нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты вернулась назад и рассказала мне, что ты видишь. Скажи мне его имя.
Я летела, и небо было такое голубое, что больно смотреть. Шарики поднимались над горизонтом. А подо мной, далеко внизу, виднелись ярмарочные шатры и навесы.
– Шатры… – пробормотала я.
– Спустись. Спустись к шатру и загляни внутрь.
– Н-нет… я…
– Все хорошо. Тебя никто не обидит. Спустись. Чтс ты видишь?
– Картины. Статуи. Нет, восковые фигуры.
– Ближе.
– Нет…
– Ближе!
Я вдруг снова оказалась там. Мне десять лет, я вжалась в стену своей спальни, Плохой Дядя приближается ко мне, и в глазах его вожделение и смерть.
Я закричала.
– Нет! Мама! Не разрешай ему! Не разрешай Плохому Дяде подходить! Не разрешай Плохому подходить!
Сквозь багровый туман и стук крови в висках я услышала ее голос, по-прежнему очень спокойный.
– Кто, Марта?
– Не-е-етт!
– Скажи мне, кто?
И я посмотрела ему в лицо. Бескрайний ужас, застывшая вечность… а потом я его узнала. Ужас исчез, и я проснулась, Фанни обнимала меня сильными руками, смятые бархат ее платья промок от моих слез.
Очень мягко она повторила:
– Скажи мне, кто. И я сказала ей.
Мама прижала меня к себе.
23
Наверное, в прошлом веке меня бы называли ведьмой. Ну, мне давали имена и похуже, иногда вполне заслуженно, но меня никогда не заботило людское мнение. Я могу сварить бульон, который снимет жар, или приготовить поссет,[27]27
Горячий напиток из вина, молока, меда и пряностей.
[Закрыть] от которого вы будете летать во сне, а иногда в зеркале я вижу то, что там не отражается. Я знаю, как бы это назвал Генри Честер, – ну что ж, зато у меня есть определение для таких, как он, и в Священном Писании вы его не найдете.
Если бы не Генри Честер, в июле Марте исполнилось бы двадцать. Я женщина обеспеченная и оставила бы ей приличное наследство – ей бы не пришлось жить на улице. Я бы подыскала ей дом и мужа, если бы ей захотелось; я бы дала ей все, о чем бы она ни попросила. Но когда ей было десять, Генри Честер отнял ее у меня, и я ждала десять лет, чтобы отнять у него Эффи. Мне всегда было не до поэзии, но я вижу эту страшную симметрию – и для меня это достаточное возмездие. Холодное, несомненно, но от этого не менее жестокое.
Я была очень молода, когда родилась Марта, если у меня вообще была молодость. Возможно, у нее было тридцать отцов – какая разница? Она была моей… Она росла, а я старалась оградить ее от той жизни, которую вела сама. Я отправила ее в хорошую школу и дала ей образование, которого у меня никогда не было; я покупала ей одежду и игрушки и поселила ее в приличном доме, у школьной учительницы, дальней родственницы матери. Марта навещала меня так часто, как только я осмеливалась ее приглашать, – я не хотела, чтобы она общалась с людьми, приходившими в мой дом, и я никогда не пускала клиентов наверх, в крохотную мансарду, где устроила ей спальню. Я пригласила Марту к себе в день ее рождения и, хотя в тот вечер я ждала гостей, пообещала себе, что позже займусь только ею. Я поцеловала ее на ночь… и живой больше не видела.
В десять вечера я услышала, как она зовет меня, и побежала наверх, в ее комнату… но она уже была мертва, лежала, раскинувшись, на кровати, с ночной рубашкой на лице.
Я знала: убийца наверняка кто-то из клиентов, но полицейские только рассмеялись, когда я потребовала расследования. Я была проститутка, моя дочь – дочь проститутки. А клиенты – богатые, уважаемые люди. Мне повезло, что меня саму не арестовали. В итоге мою дочь похоронили под белой мраморной плитой на Хайгейтском кладбище, а ее убийце позволили забыть о ней на десять лет.
О, я пыталась вычислить его. Я знала, что он здесь, я улавливала вину, что скрывалась за респектабельной внешностью. Вы знаете, что такое ненависть? Ненависть была моей едой и питьем. Ненависть шагала бок о бок со мной, когда во сне я настигала убийцу своей дочери и обагряла улицы Лондона его кровью.
Я ничего не изменила в комнате Марты – все оставила, как было: свежие цветы у кровати и все ее игрушки в корзине в углу. Каждую ночь я тайком пробиралась туда и звала ее – я знала, что она там, – и умоляла сказать мне имя, только лишь имя. Если бы она тогда назвала мне имя, я бы убила его без малейших угрызений совести. И отправилась бы на виселицу, сияя нимбом. Но за десять лет моя ненависть исхудала и проголодалась, как волк. Она стала умной и хитрой и смотрела на всех подозрительными янтарными глазами – на всех, но на одного человека в особенности.
Помните, я его знала – знала его алчные постыдные наклонности, его приступы ненависти к самому себе, его вину. Он всегда просил молоденьких девушек, не сформировавшихся, девственных. Не то чтоб таких было много, но я видела, как он смотрит на маленьких уличных попрошаек, и видела его картины. Старый лицемер, чья нездоровая страсть способна задушить женщину. Но он был не единственный, кого я подозревала, и я не могла знать наверняка. Я пыталась дотянуться до моей маленькой Марты: сначала с помощью свечей и зеркала, затем с помощью карт. Всегда одни и те же карты: Отшельник, Звезда, Верховная жрица, Валет монет, Перемены и Смерть. Всегда одни и те же карты в определенном порядке: всегда рядом с Отшельником выпадала девятка мечей и Смерть. Но был ли Генри Честер этим Отшельником?
Понимаете, он был умен. Если бы он убежал, я бы не сомневалась – но он сохранял спокойствие. Продолжал приходить, нечасто, может, раз в месяц; всегда вежлив, всегда щедр. Я пошла по другому следу: мужчины, которые внезапно перестали появляться после смерти Марты. Доктор, один из давних клиентов, предположил, что моя девочка умерла от некоего припадка – он сказал, эпилепсия. Я не поверила ни на минуту. Но боль и время подорвали мою убежденность, я усомнилась в чистоте своей ненависти. Может быть, это действительно был припадок, а может, незваный гость, соблазнившийся легкой добычей. Уму непостижимо, чтобы кто-то из мою клиентов мог это совершить и так долго оставаться неузнанным.
Жажда мести утихла. А потом я узнала, что Генри женился. По слухам, на девочке, едва со школьной скамьи. Ей было всего семнадцать. Во мне снова проснулись подозрения – я никогда не была уверена в нем, никогда, – и моя ненависть обрушилась на них обоих, подобно рою ос. Разве имеют они право на счастье, когда Марта гниет в Хайгейте? У кого вообще есть такое право?
Как-то раз я пошла за ними в церковь, надеясь взглянуть на новобрачную, но она была вся закутана в черное, словно в трауре, и я разглядела лишь худенькое личике под шляпкой. У нее был нездоровый вид, и меня невольно потянуло к ней, я ощутила что-то вроде жалости. Она была так похожа на мою бедную погибшую Марту.
Не люблю священников – я пришла взглянуть на Честера и его жену, а не слушать проповедь, и потому первая заметила, что с ней случилось. В одну минуту она слушала, а в следующую – поплыла, голова склонилась, как у ребенка, читающего молитву. А я – я давно умею видеть то, что большинство из вас не видит и, возможно, никогда увидеть не сможет, и как только миссис Честер отключилась, поняла, что это не обычный обморок. Я увидела, как она выскользнула из тела, нагая, как новорожденный младенец, храни ее Бог, и, заметив удивление на ее лице, я поняла, что подобное произошло с нею впервые.
А еще она была красавица – ничего общего с бесплотными фигурами на картинах Генри Честера. Она была красива естественной красотой, как дерево или облако. Кроме меня никто ее не видел – и неудивительно, сплошь примерные прихожане. Никто не учил ее этому фокусу – она, без сомнений, постигла тайну сама, и я догадалась, что у нее есть и другие таланты, о которых она не подозревает. Именно тогда я подумала: может, ей известно что-то, что могло бы мне помочь… Я мысленно позвала ее, и она пристально посмотрела на меня. И тогда я поняла, что в ней – ответ на все мои вопросы. Нужно лишь привести ее к себе.
Ее звали Эффи. Я часто наблюдала за ней – а она и не догадывалась, – призывала ее к себе из комнатки Марты под самой крышей. Я видела, что она несчастна: сперва с Генри, потом с Мозом. Бедная одинокая маленькая девочка – я знала, она придет ко мне, это лишь вопрос времени, и я начала заботиться о ней как о собственной дочери. Я знала ее мысли, ее привычки… и, увидев ее на ярмарке, я поняла, что это мой шанс поговорить с ней наедине.
Гадалка с хрустальным шаром с радостью уступила мне свое место за гинею. Я сидела в тени, с вуалью на лице, и Эффи ничего не заподозрила. Она оказалась настолько чувствительной к моим мыслям, что ее даже не пришлось усыплять – она сама уснула… однако, лишь когда она заговорила со мной голосом дочери, я осознала, сколь уникальной, сколь бесценной для меня она может стать. Если она так отчетливо воспроизводит голос, на что же еще она способна? Голова шла кругом от представлявшихся возможностей: вновь увидеть мою девочку, прикоснуться к ней… а почему бы и нет? Поверьте, я не желала Эффи зла, но ее реакция на выход из транса поразила даже меня. Девочка была слишком ценной, я не могла ее потерять. Я не могла отпустить ее.
И действительно, прежде чем я копнула слишком глубоко, она назвала мне долгожданное имя. Генри Честер. Отшельник. Убийца моей дочери.
Я уже вышла из того возраста, когда хочется вопить от злости. Если и понадобится жертва – на сей раз это буду не я.
24
Это был несчастный случай, говорю вам. Я вовсе не собирался ее убивать. Я хотел рассказать вам, но прошло столько лет…
Ее мать всегда смущала меня – она была слишком основательной. Я чувствовал себя карликом рядом с ней, ее было слишком много, она завораживала меня и подавляла. В ней было что-то нечеловеческое, словно под ее розовой кожей не кровь и мышцы обыкновенной женщины, но некая странная смесь из черной земли и гранита – египетский идол с агатовыми глазами. От нее пахло испорченной сладостью, как от миллиона гниющих роз, – томительный сокровенный бальзам из потаенных уголков ее женского тела для моих постыдных сердечных страстей. И у такой женщины была дочь!
Она смотрела на меня сквозь перила. Глаза, зеленые, как трава, уставились из полутьмы лестничного проема, и когда я поднял голову, она тихонько хихикнула и вскочила на ноги, готовая исчезнуть наверху, стоит мне двинуться. Она стояла, босая, а свет очерчивал ее тело сквозь ткань ночной рубашки. В ней не было ничего от пугающей основательности ее матери: ребенок, подброшенный эльфами, почти бестелесный, прямые черные волосы падают на худое треугольное личико… и все же я уловил сходство. Что-то в ее глазах, быть может, или в плавности, изяществе движений – так, наверное, золотоволосая Церера отразилась в бледной Персефоне. Я спросил, как ее зовут.
Она склонила голову набок, в глазах озорные искорки.
– Я не должна говорить. – Едва уловимый корнуоллский акцент: как и мать, она мягко растягивала слоги.
– Почему?
– Я не должна здесь быть. Я обещала.
Если бы не ее улыбка, не контуры ее тела против света, я мог бы поверить в ее невинность, но она стояла надо мной, словно пародируя Джульетту на балконе, и я знал, что, несмотря на возраст, она дитя своей матери, зачатое во грехе и взращенное терзать грешников, подобных мне. Казалось, я слышу ее аромат – тревожную, обманчивую смесь янтаря и болотной тины.
– Я обещала, – повторила она, отодвигаясь от перил. – Мне нужно идти.
– Подожди! – Слова вырвались сами. Я торопливо взбирался по ступеням, виски взмокли от пота. – Не уходи. Я никому не скажу. Смотри, – я порылся в карманах, – у меня есть шоколадка.
Поколебавшись, она протянула руку за лакомством, немедленно развернула и откусила. Развивая успех, я улыбнулся и положил руку ей на плечо.
– Пойдем, – ласково сказал я. – Я отведу тебя в комнату и расскажу тебе сказку.
Она торжественно кивнула и тихонько побежала по лестнице впереди меня, босые ноги мелькали в темноте, как белые мотыльки. Я не мог не пойти за ней.
Ее комната приютилась под самой крышей. Она запрыгнула на кровать, поджав ноги и натянув на себя одеяло. Она доела шоколадку, и я смотрел, как она облизывает пальцы, – зрелище столь мощное, что у меня чуть колени не подогнулись.
– Рассказывай сказку! – потребовала она.
– Позже.
– Почему не сейчас?
– Позже!
Ее аромат заполнял все вокруг. Она стряхнула его с волос, как цветочный дождь, и в самой сердцевине запаха я различил зловонную нотку – должно быть, собственную похоть.
Я больше не мог терпеть. Я шагнул вперед и схватил ее, зарылся в нее лицом, утонул в ней. Ноги подкосились, и я рухнул вместе с ней на кровать, отчаянно цепляясь за нее. На секунду она показалась чудовищно сильной, водоворот глаз затягивал в темноту, разинутый рот извергал беззвучные проклятия. Она сопротивлялась, брыкалась, черные волосы стаей летучих мышей облепили мое лицо, душили меня. В этот миг, чувствуя, как обвивается вокруг меня ее гибкое змеиное тело, как ее волосы забиваются мне в рот, вдыхая тошнотворный запах шоколада, я был уверен, что она убьет меня.
Кровь шумела в ушах, безумная паника охватила меня. Я закричал от страха и отвращения. Я был жертвой, она – гранитной богиней смерти, жаждущей моей крови. Собрав остатки разума, я схватил ее за горло, сжимая все крепче… маленькая ведьма дралась как дьявол, визжала и кусалась, но силы вдруг вернулись ко мне…
Тогда со мною был Бог. Если бы мне только хватило мужества уйти из этого дома и никогда не возвращаться, может быть, Он не отвернул бы от меня Свой лик… но даже с содроганием вспоминая ужасную битву, я испытывал какое-то демоническое возбуждение, торжество, как будто вместо того, чтобы подавить прилив похоти, я открылся для иного вожделения, которое никогда полностью не удовлетворить.
25
Я плохо помню, как вернулась на Кромвель-сквер; светало, через несколько часов должны были проснуться слуги, а Генри еще не возвращался. Я сумела войти в дом, самостоятельно разделась и скользнула в постель. Немного поспала, но чтобы справиться с дурными видениями, тревожившими мой сон, вынуждена была принять еще опия. Я уже не отличала вымысел от реальности; уж не приснилось ли мне все, что случилось на Крук-стрит, думала я… Правда ли я говорила с Генри? Правда ли Фанни приходила ко мне, когда я спала? Около шести утра я погрузилась в глубокий сон и проснулась два часа спустя, когда вошла Тэбби с горячим шоколадом. Голова раскалывалась, меня лихорадило, и, хоть я пыталась изобразить бодрость, Тэбби немедленно догадалась, что дело нечисто.