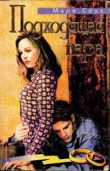Текст книги "Спи, бледная сестра"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
и облегчение застряло в горле, превратило ноги в вату. На подушке, приколотая к наволочке, лежала знакомая серебряная брошь. Она была на Эффи в ту ночь – я помнил, как она блестела, когда Эффи шевелилась в снегу, помнил серебряный изгиб кошачьей спины, когда Эффи уставилась на меня своим серебристым кошачьим взглядом…
Я тупо потрогал брошь, пытаясь замедлить водоворот мыслей. Под левым глазом затрепетал флаг – паника подступала.
(ты расскажешь мне ты расскажешьмне тырасскажешьмнесказку)
Если бы я услышал, как она это говорит, я знаю, я бы сошел с ума, но я понимал, что она говорит только в моей голове.
(тырасскажешь мне тырасскажешь тырасскажешьмне)
Я применил единственное известное мне заклинание. Чтобы заглушить безжалостный голос в мозгу, я произнес вслух волшебное слово, я призвал колдунью со всей страстью, на которую был способен:
– Марта.
Тишина.
И проблеск надежды. Проблеск успокоения.
Казалось, я прождал в этой подводной тишине несколько часов. В десять поднялся с кресла, умылся холодной водой, не спеша и аккуратно оделся. Я прокрался, незамеченный, из дома в безветренную ночь. Снегопад прекратился, и сонная неподвижность завладела городом; с ней пришел туман такой густой, что даже фонари потускнели, их зеленоватые абажуры затерялись в бесконечной белой мгле. В тумане снег, казалось, сверхъестественно засиял, будто кошачьи глаза, превращая редких прохожих в ожившие трупы. Но хлорал и близость Крук-стрит обуздали моих призраков. Маленькая нищенка не шла за мной, протягивая худые голые руки в немой мольбе, призраки – если они и существовали – не осмеливались покидать Кромвель-сквер.
Идя по снегу, оберегаемый от тумана светом фонаря в руке, я снова был сильным, неколебимо уверенным в том, что она ждет. Марта, моя Марта. Я нес ей подарок, спрятанный под пальто, – персиковую шелковую накидку, которую купил на Оксфорд-стрит. Я заново упаковал ее в ярко-красную бумагу и перевязал золотой лентой… Я шел, и моя рука то и дело тянулась к свертку, ощупывая его, представляя, как персиковый шелк будет смотреться на ее коже, как дразняще он соскользнет с ее плеча, как тонкая полупрозрачная ткань окутает ее густые волосы…
Когда я добрался до дома на Крук-стрит, была почти полночь. Предвкушение и возбуждение от мысли о том, что она так близко, было столь велико, что я очутился перед дверью, не успев сообразить, что дело нечисто: дом был темный, ни одно окно не светилось, даже фонарь над дверью не горел. Озадаченный, я остановился в снегу и прислушался… но из дома Фанни не доносилось ни звука, ни малейшего звона музыки или смеха; ничего, лишь эта ужасная, гудящая, всепоглощающая тишина.
Мой стук гулким эхом отозвался по дому, и я вдруг поверил, что они ушли, Марта, и Фанни, и все они; что они просто собрали вещи и исчезли, как цыгане, в изменчивом снегу, не оставив ничего, кроме печали и дуновения магии в воздухе. Я был настолько в этом убежден, что закричал, заколотил кулаками по двери… и дверь тихо распахнулась, словно улыбнулась, и я услышал, как часы в холле начали отбивать превращение дня в ночь.
Я остановился на ступенях, вдыхая легкий запах пряностей и старого ладана. В холле было темно, но лунный свет, отражаясь от снега, бросал слабый, неземной отблеск на полированные половицы и блестящие латунные ручки дверей, и моя тень, такая отчетливая, криво падала через порог в прихожую. Прохладное дуновение ароматного воздуха коснулось моего лица, словно чье-то дыхание.
– Фанни?
В безмолвной путанице дома мой голос прозвучал навязчиво, чересчур пронзительно. Столько лет я бывал в этом доме, но впервые осознал, сколь он огромен: коридор за коридором устланного коврами лабиринта, двери, мимо которых я никогда не проходил, блеклые изображения нимф и сатиров с испорченными хитрыми лицами; визжащие вакханки с ляжками толщиной с колонну, преследуемые ухмыляющимися карликами и плотоядными эльфами; застенчивые средневековые служанки из Пандемониума с узкими бедрами и загадочными проницательными глазами… Я двигался по сумрачным галереям откровенного, заключенного в позолоченные рамы разврата, темнота лишала меня чувства направления. Я пошел быстрее, кляня свои приглушенные и отчего-то зловещие шаги по толстым коврам. Я искал лестницу, но, сворачивая, оказывался в очередном коридоре, а поворачивая ручки, натыкался на запертые двери и слышал шепот, будто за спиной припала к земле полупроснувшаяся тайна.
– Фанни! Марта!
Я окончательно растерялся. Казалось, дом тянулся во все стороны на неизмеримые расстояния; я устал, будто пробежал не одну милю.
– Марта!
Тишина отозвалась эхом. Кажется, где-то далеко-далеко зазвенела музыка. Спустя миг я ее узнал. – Марта!
Мой голос сорвался на высокой панической ноте, и я вслепую побежал вперед, колотя руками по стенам, в отчаянной мольбе выкрикивая ее имя. Я свернул за угол и уткнулся прямо в дверь, коридор неожиданно кончился. Страх рассеялся, будто никогда и не существовал, сердце забилось медленнее, почти ровно, я взялся за фарфоровую ручку, и за дверью открылся холл.
Там были ступени – я не понимал, как мог пропустить их, когда проходил здесь в первый раз, – и я увидел лунный свет, лившийся из маленького витражного окна, отражаясь на полированном дереве. Свет был такой яркий, что я даже различал цвета: вот красное пятно на перилах, пара зеленых ромбов на ступенях, голубой треугольник на стене… а наверху лестницы обнаженная фигура, прелестная линия ее бедра мерцала лиловым, синим, бирюзовым, ниспадающий водопад волос – как темная вуаль, наброшенная на лик ночи.
Лицо в тени, но лунный свет высветил один глаз, придав радужной оболочке переливчатый блеск. Она замерла, будто кошка перед прыжком; я видел, как напряглась ее белая шея, мышцы натянулись, как у танцовщицы, видел изгиб ее ступни, каждый нерв ее тела был как струна, и я исполнился благоговейного ужаса перед этой неземной красотой. Несколько секунд я был слишком поглощен видением, не в силах даже вожделеть. Но вот я сделал шаг навстречу, и она отпрыгнула от меня с тихим смехом и помчалась по ступеням, а я – за ней. Я почти поймал ее; помню, как ее волосы коснулись моих пальцев, пробудив во мне жаркую дрожь желания. Она была проворней и ускользала от моих неуклюжих объятий, а я тяжело бежал следом. Добравшись до верхней ступени, я, кажется, услышал ее смех, дразнящий меня из-за двери.
Я тихо застонал в предвкушении, обострившееся напряжение толкнуло меня к двери (ручка была из бело-голубого фарфора, но я не успел это осознать). Я начал срывать с себя одежду, не успев войти, оставляя сброшенные шкуры (пальто, рубашка, галстук) на лестнице. Открывая дверь, я уже почти разделся, оставшись в носках, шляпе и одной штанине, и был слишком поглощен попытками избавиться от нелепых остатков одежды, чтобы обращать внимание на обстановку. Память подсказала, что я уже бывал здесь – в комнате из моих снов, ее комнате, комнате моей матери, кою некая насмешливая колдунья перенесла в дом на Крук-стрит. В тусклом свете прикрытой колпаком свечи я различил детали, которые помнил с того первого ужасного дня, терявшие всякое значение от присутствия Марты: туалетный столик с флотилией баночек и бутылочек, парчовое кресло с высокой спинкой, на нем небрежно брошенный зеленый шарф, на полу еще один забытый шарф, на кровати платья – смятая груда кружев и тафты, и узорчатой парчи, и шелка…
Я все это заметил разве что глазами вожделения. Я не чуял опасности, не предвидел дурного, лишь по-детски чувствовал, что все происходит правильно и радовался чисто физически, прыгнув на кровать, где меня уже ждала Марта. Вместе мы катались в платьях, мехах и накидках, сминая старинное кружево и раздирая дорогой бархат в нашей молчаливой борьбе. Я случайно задел рукой прикроватный столик, смахнув кольца, ожерелья и браслеты на пол; я смеялся, как сумасшедший, зарываясь лицом в сладость ее пахнущей жасмином плоти, целуя ее, не в силах пропустить хоть дюйм ее кожи.
Когда схлынуло первое неудержимое безумие и вернулась способность ясно мыслить, я смог насладиться ею медленно, не спеша. Обнимая ее, я ощутил, как холодна ее кожа; губы бледные, как лепестки, дыхание – легкое дуновение студеного ветра.
– Бедная, любимая, ты больна? Ты такая холодная. Ее беззвучный ответ льдом обжег мою щеку.
– Дай я тебя согрею. – Мои руки обхватили ее, лоб Марты прижался к ямке на моей шее. Ее волосы были чуть влажные, дыхание лихорадочное и учащенное. Я натянул на нас обоих одеяло, дрожа после страсти, и, сняв с цепочки на шее пузырек с хлоралом, вытряхнул десять горошин. Проглотив пять сам, я отдал Марте оставшиеся. Положив их в рот, она сморщилась, уголки губ опустились, и при виде этой до странности детской гримаски я невольно улыбнулся. – Вот так, все будет хорошо, – нежно сказал я. – Скоро станет тепло. Просто закрой глаза. Шшш. Закрой глаза и поспи.
Она прильнула ко мне, и я вспыхнул от нежности; она была такой юной, такой чувствительной, несмотря на показное самообладание. Я мягко перебирал ее спутанные волосы.
– Все хорошо, – прошептал я, подбадривая не только ее, но и себя. – Теперь все хорошо. Все кончилось. Теперь мы вместе, любовь моя, мы оба можем отдохнуть. Попробуй расслабиться.
И некоторое время мы отдыхали, а свет все слабел и наконец погас. И ненадолго Бог тоже уснул…
Должно быть, я задремал; столько впечатлений, что теперь уж и не вспомнить. Я купался в жасмине и хлорале, разум мой плыл по течению, а проснувшись, я обнаружил, что, хотя под одеялом тепло, Марты рядом нет. Я сел, щурясь от света, что пробивался сквозь шторы, – свеча давно догорела. Я смутно различал детали обстановки: изобилие кружева и бархата серебряным прахом застыло в лунном свете, склянки и бутылочки на туалетном столике поблескивали, как сосульки на фоне темного дерева.
– Марта?
Тишина. Комната ждала. Что-то шевельнулось у холодного очага – я резко обернулся, сердце колотилось… Ничего. Лишь хлопья сажи в трубе. Камин скалился из-за медной решетки.
Я вдруг представил, что я один в доме. Охваченный ужасом, я вскочил на ноги, одеяло упало с плеч, я выкрикивал ее имя в надвигающейся истерике:
– Марта!
Что-то сжало мою ногу, что-то холодное. Я закричал в отвращении и отпрянул от кровати, но оно держало крепко, сухие хрупкие чешуйки терлись о мою кожу.
– Ma-ар… а-а-а!
Я неистово извивался, пытаясь отцепить это что-то замерзшими пальцами… Я услышал громкий треск рвущейся ткани, почувствовал смятое кружево в дрожащих руках и слабо рассмеялся: мои ноги запутались в складках платья, что лежало на кровати, а теперь оказалось на полу – груда растрепанных нижних юбок и разорванный ровно посередине блестящий корсет.
Я пробормотал насмешливо:
– Платье. Сражался с платьем.
Но меня потрясло, как дрожал голос. Внезапно меня замутило, и я закрыл глаза, прислушиваясь к ударам сердца; оно билось все медленнее, в такт с дергающимся левым веком. Через некоторое время я смог вновь открыть глаза и, заставляя себя мыслить здраво, подошел к камину и попытался разжечь огонь. Марта скоро вернется, говорил я себе. Через минуту она войдет в эту дверь… а если и не войдет, нет причин думать, что эта комната – эта комната, ради всего святого, – может чего-то от меня хотеть, как хотела комната матери много лет назад… и хотеть чего? Жертвы, быть может? Признания?
Смешно! Это даже не та комната.
И все же что-то было в тишине, что-то почти злорадное. Я возился с камином, борясь с желанием обернуться на дверь. Я чиркнул спичкой, и на миг комната вспыхнула красным. Огонек задрожал и погас. Я выругался. Снова. И еще раз. Наконец мне удалось вдохнуть в пламя мерцающую жизнь; занялась бумага, потом дерево. Я оглядывался вокруг, на стенах плясали гигантские тени. Я повернулся спиной к очагу, чувствуя робкое тепло разгорающегося пламени и торжествуя.
– Нет ничего лучше огня, – тихо пробормотал я. – Ничего…
Слова комком бумаги застряли в горле.
– Марта?
Я едва не сказал «мама». Она сидела на кровати, поджав под себя ногу, чуть склонив голову набок, пусто наблюдая за мной. На ней была накидка матери. Нет, должно быть, она нашла мой подарок, развернула его и надела, чтобы порадовать меня. Видимо, она все это время ждала, когда я ее замечу.
– Марта. – Я старался говорит спокойно и даже выдавил улыбку. – Очаровательно. – Я сглотнул. – Просто очаровательно. – Она кокетливо откинула голову, лицо скользнуло в тень. – Это подарок, – объяснил я.
– Подарок, – прошептала она.
– Конечно, – сказал я, оживляясь. – Как только я ее увидел, сразу подумал о тебе. – В общем, это было не совсем так, но я решил, ей будет приятно, если я так скажу. – И ты в ней просто прекрасна. Она задумчиво кивнула, как будто знала.
– Пришло время для твоего подарка, – сказала она.
– Однажды… – Она шептала в темноте, и ее дыхание холодом обдавало мою шею, пальцы чертили кружочки на моей голой спине. Я ощущал персиковое кружево и шелк в своих влажных ладонях, аромат жасмина, душный и усыпляющий, поднимался от ее горячей кожи, и еще какой-то другой запах, темный, острый… В оцепеневшем мозгу мелькнуло видение волков. – Однажды жили-были король с королевой, и был у них сын.
Я закрыл глаза и погрузился в блаженный нефритовый полумрак подводного мира. Ее голос пузырьками рассыпался у моих ног, ее прикосновение было прохладным глубинным течением.
– Принц любил обоих родителей, но сердце его принадлежало матери – он ни на миг не отходил от нее. У принца было все, чего он только мог желать… кроме одного. В замке была единственная комната, куда ему не дозволялось входить, всегда запертая комната, ключ от которой хранился в кармане у матери. Шли годы, и Принц все чаще думал о тайной комнате, он страстно желал увидеть, что же там внутри. И в один прекрасный день, когда родителей не было дома, Принц проходил мимо тайной комнаты и заметил, что дверь приоткрыта. Движимый любопытством, он толкнул ее и вошел.
Воздух потемнел от жасмина; Марта, я знаю.
– Комната была золотой, но у Принца были все сокровища, о которых можно мечтать. Комната была алой, и пурпурной, и изумрудной, но сундуки Принца ломились от нарядов из парчи и бархата.
О, Марта, жница снов моих, дитя моей сокровенной тьмы… Я видел ее сказку – она была и моей сказкой тоже, я видел тайную комнату и себя, четырнадцатилетнего, у двери, и миллионы самоцветов отражались в моих черных глазах.
– Комнату наполнял аромат тысяч цветов, но Принц жил в саду, где никогда не наступала зима. Зачем было окружать комнату такой тайной, подумал он, здесь нет ничего особенного.
Шехерезада протянула длинные белые пальцы, ладони ее в свете огня были как два алых солнца.
– И все же Принц не мог уйти оттуда. Его терзало неодолимое любопытство. Лениво заглядывал он в сундуки и шкафы, пока наконец не наткнулся на маленькую, совсем простую деревянную шкатулку, которую раньше никогда не видел.
Мое сердце забилось быстрее, голову сдавило тисками.
– Зачем хранить эту старую уродливую шкатулку, удивленно подумал Принц, ведь все остальное во дворце столь роскошно и прекрасно? Он открыл коробочку и заглянул внутрь.
Она замолчала – я увидел отблеск ее кроваво-красной улыбки, – ив этот момент я понял, что ей известна Тайна, что она всегда ее знала. Вот та женщина, которая способна провести меня мимо зловещих стражей греха и плоти: она понимала мою тоску, мою безысходную печаль. Это и был ее «подарок» – это откровение.
– Продолжай, пожалуйста. Продолжай. – Пот заструился по щекам при мысли о том, что даже сейчас она еще может утаить это от меня. – Марта, пожалуйста…
– Шшш, закрой глаза, – прошептала она. – Закрой глаза, и ты увидишь. Спи, и я покажу тебе.
– Что он увидел?
– Шшш…
– Что я…
– Спи.
Представьте морское дно под слоем бурого ила. Представьте покой…
– Принц потер глаза: с минуту он не видел в коробочке ничего, кроме темной пелены, дымки, но, до боли напрягая глаза, он наконец разглядел палочку из орехового дерева, завернутую в грязный черный плащ. «Как странно, – сказал Принц. – Зачем прятать от меня это безобразное старье?» Принц был юным и любопытным, он достал эти два предмета из коробки. Но Принц не знал – и никто не знал, – что Королева была ведьмой, прибывшей из далекой Северной страны за морем много, много лет назад. С помощью заклинаний она влюбила в себя Короля, и с помощью заклинаний сохраняла она свою сущность в тайне. Плащ был волшебным, как и палочка, и лишь Королева могла ими управлять. Но Принц был ее сыном, и в жилах его текла ведьмина кровь. Надев волшебный плащ и взяв в правую руку палочку, он ощутил невероятное могущество. Он поднял палочку, и сила засветилась в нем, подобно солнцу… но духи палочки, поняв, что их пробудил какой-то мальчишка, узрели свой шанс восстать и освободиться от рабства. Они рванулись на свободу с торжествующим визгом и вцепились когтями Принцу в лицо, обдав его зловонным дыханием, и Принц упал замертво… Когда Принц очнулся, духи исчезли, а палочка, сломанная, лежала рядом с ним. Увидев это, Принц испугался. Он положил плащ и палочку назад в шкатулку и стремглав выбежал из комнаты. Вернувшись, Королева сразу заметила, что палочка испорчена, но она не могла заговорить об этом, ведь никто не знал, тго она ведьма. Поэтому она дождалась безлунной ночи и наложила проклятие на того, кто посмел прикоснуться к палочке, ужасное проклятие – ибо, сломав ее, он разрушил могущество Королевы, и теперь она обречена стареть, как все смертные женщины. Она вложила в это проклятие всю свою ненависть и стала ждать, зная, что вскоре оно начнет действовать… В ту же ночь Принц с криком проснулся от страшного сна и в последующие дни и недели стал бледнеть и чахнуть, плохо спал по ночам, а днем не мог ни отдыхать, ни принимать пишу. Шли месяцы. Король призвал лучших врачей осмотреть любимого сына, но никто не мог найти лекарства от ужасной болезни, медленно пожиравшей его. Словно мало горя обрушилось на Короля, супруга его тоже заболела, слабея и угасая с каждым днем. Всему королевству было приказано молиться об их выздоровлении… И вот однажды во дворец явился Отшельник, святой старец, и потребовал аудиенции у Короля. «Думаю, я сумею определить причину недуга твоего сына и твоей жены, – сказал он, – если ты позволишь мне увидеть их». Король, обезумевший от горя, согласился. Отшельник зашел сперва в покои Королевы, а после отправился к Принцу. Он не сказал ни слова, лишь заглянул Принцу в глаза. Потом отослал стражников и сурово обратился к Принцу: «На тебя наложено проклятие, сын мой, – сказал он. – Королевой-ведьмой, твоей матерью. Если не начнешь действовать, скоро умрешь, а она поправится». Принц заплакал, ибо горячо любил свою мать. «Что я должен делать?» – наконец спросил он. «Ты должен пойти в ее спальню и убить ее, – сказал Отшельник. – Больше никак не снять проклятия». Принц покачал головой и снова заплакал, но Отшельник был холоден как лед. «У Королевы нет других детей, – безжалостно сказал он, – а твой отец уже стар. Ты же не хочешь, чтобы ведьма вечно правила твоей страной?» И тогда Принц с тяжелым сердцем согласился. В ту же ночь он поднялся с постели и тихо пошел по длинным коридорам дворца в комнату матери.
Дверь была открыта, я знаю. Я все вижу со своего ложа из соленого ила: рисунок светлого дерева, бело-голубую фарфоровую ручку – как легко все это возвращается ко мне! На второй панели, с краю, есть зазубрина – однажды я случайно задел дверь крикетным столбиком. Свет в доме не горит, и где-то далеко позади я слышу отца из игрушечной мастерской, несколько звонких нот, что выпевает механизм танцующей Коломбины, тают в темноте. Я несу огарок свечи на блюдце с цветочками; резкий запах свечного сала ударяет в ноздри. Жирная белая капля сползает по свече на фарфор и растекается по голубому цветку. В густом воздухе мое дыхание кажется очень громким.
Ковер мягко поддается под ногами, но я все равно слышу свои шаги. Свет выхватывает из темноты стеклянные пузырьки и баночки, роняя тысячи бликов на зеркало на стене. С минуту я не могу разобрать, в комнате ли малыш, но колыбелька пуста: нянька забрала его, чтобы он плачем не разбудил мать. Пряча свечу за сияющим красным щитом ладони, я смотрю на ее лицо в розоватом полумраке, с восхищением тем более драгоценным, что оно запретно. Пузырек с опиумной настойкой поблескивает на столике у кровати: она не проснется.
Внезапная мучительная нежность переполняет меня, когда я смотрю на ее лицо: тонкие голубые веки, идеальные очертания скул, каскад темных волос на подушке, струящийся по складкам одеяла на пол… она так прекрасна. Даже такая измученная, такая бледная, она все равно самая красивая женщина на свете, и сердце сжимается от отчаянной, невыносимой любви, слишком острой для четырнадцатилетнего мальчика. Мое детское сердце чувствует, что вот-вот взорвется от всех этих взрослых переживаний; неистовая ревность, одиночество, болезненная необходимость прикоснуться к ней, ощутить ее прикосновение, будто оно способно остановить губительное вторжение змия в мое чрево, будто руки ее могут отстранить ночь. Спящая, она доступна, и я осмеливаюсь протянуть руку к ее волосам, к ее лицу; я мог бы даже дотронуться губами до ее бледных губ… она никогда не узнает.
Она чуть улыбается во сне; ее затуманенные глаза прикрыты фиолетовыми веками, розовато-лиловая тень ключицы – совершенный мазок китайской кисти по бледной коже… ее груди чуть заметно вздымаются под тонкой тканью ночной сорочки. Моя рука движется почти сама по себе, дрейфующая морская звезда в тусклой коричневой ночи. Я смотрю на нее как зачарованный, а пальцы касаются ее лица, очень нежно, с удивительной храбростью скользят по ее шее… Я отшатываюсь, покраснев, кожу покалывает от вины и возбуждения. Но это все рука, она сама движется, крадется по одеялу с неясной целью, вот она отбрасывает одеяло, открывая ее спящее тело, ночная сорочка задралась, обнажая упругие икры, округлые колени, мягкий изгиб бедра.
Прямо над коленкой у нее синяк, и я не могу оторвать глаз от его лиловой нежности. Я протягиваю руку и кончиками пальцев ощущаю припудренный атлас, она – бесконечная загадка, бесконечная мягкость, песок на дне морском… За ее жасминовым ароматом таится другой запах, так пахнет соленое печенье, и бессознательно я наклоняюсь к ней, зарываюсь лицом в ее тепло и сладость, твердея от желания и возбуждения. Моя рука находит ее грудь в исступленной дикарской радости; я обнимаю ее, губы жаждут ее губ… Ее дыхание болезненное и чуть затхлое, но теперь мое тело – единственная мышца, напрягшаяся струна, наполняющая воздух резонансом невыносимой чистоты, звон все выше, выше, до безумия и за его пределы… У меня нет тела. Я вижу, как душа моя вытягивается тонкой серебряной проволокой, пронзительно вибрируя под благовест небесных сфер… Я слышу смех и понимаю, что смеюсь я сам… Ее глаза распахиваются.
Я чувствую, как губы ее твердеют под моими губами.
– Мама… – Я беспомощно откатываюсь прочь, желудок как кусок льда.
Ее взгляд жестокий, пронизывающий. Я знаю, что она все видит. Все. Годы спадают с меня; минуту назад я чувствовал себя старым, теперь падаю назад, в детство; тринадцать, двенадцать, одиннадцать, и по мере того как я проваливаюсь, она вырастает до неимоверных размеров… восемь, семь… я вижу, как она открывает рот, слышу искаженные звуки:
– Генри? Что ты…
Шесть, пять. У нее острые беспощадные зубы. Кровь стучит у меня в висках. Вопль вырывается из моей груди. Ее гнев страшен. Но еще хуже ее презрение, ее ненависть, как приливная волна, что несет тела утопленников. Я едва слышу ее голос из-за шума в ушах; в руках у меня что-то мягкое, оно с чудовищной силой сражается со мной. Прибой бросает меня туда-сюда, как обломок кораблекрушения. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть…
Внезапная благодатная тишина.
Я лежу на черном песке, прилив отступает, его дыхание как удары сердца в ушах; возвращение сознания словно миллион иголок света на сетчатке, рот полон крови – прокушен язык. Я сползаю на колени на вращающийся ковер, струйка кровавой слюны тянется на пол, я по-прежнему судорожно сжимаю в руках подушку.
– Мама?
Ее стеклянные глаза смотрят на меня все так же холодно, она рассержена этой недостойной сценой.
– Ма-ма?
Я чувствую, как тяну кулачок ко рту, колени сгибаются, подтягиваются к локтям. Какая-то часть меня уверена, что если сумею сжаться в крохотный шарик, то смогу вернуться назад, в то полузабытое безопасное место, соленое вместилище темноты и тепла. Меньше… меньше. Три, два, один…
Тишина.
Высоко надо мной ревет смех, громовой хохот Бога. Ангел тьмы поднимает свою косу, и Фурии с воплями вылетают из подземного царства в поисках новой забавы. Мне знакомы их лица. Шлюший ребенок – щеки перемазаны шоколадом… Эффи – глаза цвета морской волны, пенные волосы… моя мать, так давно погруженная в милосердное забвение, но теперь призванная, дабы занять свое место на темном пьедестале, ее пальцы как лезвия. Он совсем близко, голос волшебницы Шехерезады, волки следуют за ней по пятам… ее нечеловеческий смех. В полусне я отчаянно пытаюсь позвать ее, заклиная ее именем надвигающийся кошмар.
– Марта!
Я открываю налитые кровью глаза, замерзшими членами чувствую тепло огня. Непослушное веко бешено дергается, левый глаз почти не открывается. Память, пробужденная рассказом Марты, – мраморная гробница из какой-то жуткой сказки, возвышающаяся над облаками. Я тянусь к ней за утешением…
Свет вдруг становится безжалостно ярким. Я поднимаю руки, чтобы прикрыть глаза, и вижу ее, Шехерезаду, мою смеющуюся золотую Немезиду.
– Марта? – Мой голос – еле слышный шепот, но, произнося ее имя, я уже знаю, что она не Марта. Она – Эффи, бледная и торжествующая; она – моя мать, распутная и злобная; она – дитя-призрак. Все трое говорят в унисон, тянут ко мне жадные руки, и, когда я падаю назад, ударяясь о спинку кровати и едва чувствуя боль, слыша хруст позвонков, я наконец понимаю, кто она такая, кто они такие. Тисифона, Мегера и Алекто, мстящие матереубийце. Фурии!
Мучительный спазм пронзает тело; лезвия разрубают позвоночник и левую часть туловища охватывает дрожь.
Падая в дружелюбное забытье, я слышу ее голос, их голос, звенящий злобой и насмешкой:
– Ты расскажешь мне сказку, Генри? Ты расскажешь мне сказку?
А вдалеке раздается жестокий смех Бога.
61
Я вышел из студии Генри; повалил снег. Мистическое свечение ночи осияло мой путь к Крук-стрит, напудрив одежду мерцанием. Свернув за угол, я взглянул на дом Фанни и увидел, что фонарь, обычно висевший над дверью, не горит. Подойдя ближе, я обнаружил, что и окна тоже темные, шторы опущены, из-за тяжелых складок не пробивается ни лучика. Но хотя цветные стекла крыльца не были освещены, в снегу на ступенях я заметил следы. Предположив, что кто-то мог быть в одной из гостиных в глубине дома, я подошел к двери и постучал. Нет ответа. Я подергал дверь: заперто, как я и ожидал. Я постучал еще раз, покричал в отверстие для писем… но никто не отозвался.
Озадаченный, я попробовал боковую дверь – с тем же успехом. Я недоуменно покачал головой и уже собрался было уходить, но тут увидел, что в тени у дома лежит что-то большое и темное; предмет быстро засыпало снегом. Сначала я решил, что это мешок с углем; потом разглядел торчащий из снега каблук мужского ботинка. Бродяга, подумал я, искал укрытие и замерз, бедный малый. В кармане нашлась фляжка с бренди, и, достав ее, я пробрался сквозь метель и склонился над телом – как знать, может, в нем еще теплится жизнь. Я оттащил его из углубления у стены и, стряхнув ледяную маску с искривленного застывшего лица, узнал Генри Честера.
Один глаз был закрыт, другой – уставился на меня. Мускулы левой щеки и виска странно деформировались, словно подтаявший воск, левая рука скрючена, плечо нелепо вывернуто, бедро сместилось, нога торчала под страшным углом. Пока он не пошевелился, я готов был поклясться, что он мертв.
С губ его сорвался долгий гортанный стон:
– Ааа-даа. Аах-а.
Я просунул флягу с бренди меж его стиснутых зубов.
– Выпей это, Генри. Не пытайся говорить.
Бренди полилось по подбородку; он снова забормотал, но губы его не слушались. Он мучительно хотел что-то сказать.
– Все хорошо, – беспокойно сказал я. – Не разговаривай. Я приведу помощь.
В окнах соседних домов горел свет; наверняка за ним кто-то присмотрит, пока я схожу за доктором. К тому же оставаться с Генри наедине – последнее, чего мне хотелось.
– Ма…аа. Маааар… – Правая рука вцепилась в мой рукав, голова опустилась, потекла слюна. – Ма-а-а-а.
– Марта, – мягко произнес я.
– А-а-а. – Он судорожно кивнул.
– Ты пришел увидеться с Мартой? – предположил я.
– А-а-а.
– Но ее не было, и ты решил подождать. Правильно? Еще один спазм. Голова неприлично болталась, единственный открытый глаз закатился.
– Ннн-ее. Мм-аар-а. А-а-а. А-а.
Он беспомощно молотил рукой по воздуху, из правого глаза текли слезы, а левый смотрел неподвижно, прихоть упрямой плоти.
Невыносимая, тошнотворная жалость заставила меня вскочить на ноги.
– Не могу остаться, Генри, – сказал я, отводя глаза. – Я приведу помощь. С тобой все будет хорошо.
Он испустил звериный стон, в котором я различил жутковатые нотки человеческого голоса, слова, что пытались пробиться сквозь умирающую плоть. Слова? Одно слово. Одно имя. Звук был нестерпимый – угасающий стон его одержимости. Проклиная себя, я повернулся и бросился бежать.
Найти помощь не составило труда; женщина из соседнего дома за гинею согласилась приютить больного и позвать врача. Врач приехал через два часа, и Генри отправили домой, на Кромвель-сквер. Доктор сказал, с ним случился удар – обширный сердечный приступ. Пациенту требовался постельный режим, тогда, возможно, у него будет шанс выздороветь. Больного успокоили растворенным в воде хлоралом, терпеливо влитым по капле меж стиснутых губ. Убедившись, что ничем больше не могу помочь, я наконец оставил их. Генри к тому времени впал в глубокое забытье, дыхание его было почти неразличимо, глаза остекленели. С меня хватит, решил я. В конце концов, я не сиделка. Весьма вероятно, я спас парню жизнь – чего еще от меня требовать? Незамеченный, я тихо вышел черным ходом и исчез на пустынных улицах.
Чтобы сэкономить нам обоим время, я прихватил с собой бумажник Генри. Ясное дело, в ту ночь бедняга был не в состоянии заниматься делами.
62
Мягкое течение несло меня в безмолвный мир немых образов и неясных перспектив. Густо-изумрудная темнота; но где-то на середине пути я начал различать фигуры, безликие, бесформенные, лишенные контуров, а на переднем плане – лицо, гротескное, непропорциональное, оно проплывало перед глазами, как огромная рыбина. На мгновение оно исчезло из поля зрения, и я хотел повернуть голову ему вслед, но обнаружил, что почему-то не могу. Я попытался вспомнить, что за ужас, что за нужда заставили меня укрыться на морском дне, но был до странности безмятежен и словно наблюдал за событиями сквозь темное стекло. Стайка зародышей неуклюже гребла мимо зеленого кораллового рифа, над которым дрейфовала бледная девушка, и ее длинные светлые волосы тянулись, как водоросли, в печальную серость подводного неба.