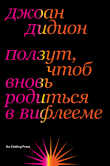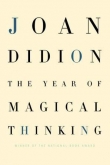Текст книги "Синие ночи"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Дом не отапливался (нагревательные панели вдоль плинтусов были такие старые, что мы вечно боялись, как бы из-за них не случилось пожара), и от холода нас спасал лишь огромный закрытый камин в гостиной. По утрам я первым делом шел за дровами (за неделю мы сжигали пару вязанок), потом будил Кью, готовил ей завтрак и собирал в школу. В тот год Джоан торопилась закончить книгу, работала до двух-трех ночи, после чего сидела на веранде с бокалом вина и томиком стихов и ложилась только под утро. Ланчи, которые Кью брала с собой, Джоан всегда готовила с вечера и клала в такую маленькую синюю коробку для школьных завтраков. Это были не ланчи, а настоящие произведения искусства. Вместо обычного бутерброда с арахисовым маслом и джемом – тонкие крошечные сэндвичи с обрезанной коркой, нарезанные аккуратными треугольниками и завернутые в полиэтиленовую пленку. Или кусочек жареной курицы домашнего приготовления, к которой прилагались миниатюрные солонка и перечница. А на десерт – очищенная от черенков клубника со сметаной и коричневым сахаром. Так вот, я провожал Кинтану в школу, и она спускалась с довольно крутого холма. Тогда еще дети носили школьную форму, и Кинтана была в сарафане из шотландки и белом свитере, а ее выгоревшие на калифорнийском солнце волосы были забраны в хвост. Я смотрел, как она пропадает из виду, спускаясь с холма на фоне бескрайнего синего океана, и думал, что ничего более прекрасного в жизни не видел. Поэтому однажды я сказал Джоан: «Детка, такое нельзя пропускать!» На следующее утро Джоан пошла с нами и, увидев, как Кью пропадает из виду, спускаясь с холма, не смогла сдержать слез. Сегодня Кинтана взбирается обратно на этот холм. Только уже не школьницей в сарафане из шотландки, с выгоревшими на солнце волосами, собранными в хвост, и синей коробочкой для школьных завтраков. Теперь она принцесса-невеста, и на вершине холма стоит ее принц. Я поднимаю этот бокал за Джерри и Кинтану и призываю всех последовать моему примеру.
Что мы и сделали.
Мы последовали его примеру и подняли бокалы за Джерри и Кинтану.
Мы много раз поднимали бокалы за Джерри и Кинтану в соборе Св. Иоанна Богослова, а спустя несколько часов (уже без них) продолжили это занятие в китайском ресторане на Западной Сорок шестой улице, куда зашли после главного торжества с моим братом и его семьей. Мы желали им счастья, желали здоровья, желали любви, и удачи, и красивых детей. Набор банальностей. В тот свадебный день, 26 июля 2003 года, у нас не было никаких оснований предполагать, что наши пожелания не сбудутся.
Прошу заметить.
Тогда мы все еще думали, что счастье, здоровье, удача и красивые дети – это «набор банальностей».
5
Семь лет спустя.
26 июля 2010 года.
На столе передо мной стопка снимков, присланных мне совсем недавно, но сделанных в 1971 году, летом или осенью, в интерьере или на фоне того самого неотапливаемого дома в Малибу, что упомянут в свадебном тосте. Когда мы въезжали в него в январе 1971-го, день был ясный, ни облачка, но постепенно все затянуло туманом, да таким густым, что ближе к вечеру, возвращаясь из магазина «Транкас-маркет» на Тихоокеанском шоссе в трех с половиной милях от дома, я уже не смогла найти нужный поворот. Поскольку вскоре выяснилось, что предзакатные туманы в нашей местности в январе, феврале и марте так же неизбежны, как пожары в сентябре, октябре и ноябре, судорожные поиски нужного поворота повторялись впоследствии неоднократно. Тут важно было не потерять самообладания: сделать глубокий вдох, забыть о невидимом обрыве, поднимавшемся на двести с чем-то футов над поверхностью океана, набраться храбрости и крутануть руль влево.
Ни туманов, ни пожаров на снимках не зафиксировано.
В стопке восемнадцать фотографий.
На всех – Кинтана, пятилетняя, с волосами, выгоревшими под пляжным солнцем до белизны, – иллюстрация к свадебному тосту. На нескольких снимках на Кинтане форменный сарафан из шотландки, также упомянутый Джоном. На двух она в легком кашемировом свитере с высоким горлом – я привезла его из Лондона, куда ездила в мае для участия в рекламной кампании, предварявшей выход «Паники в Нидл-парке»[12]12
Фильм режиссера Джерри Шацберга по сценарию Джоан Дидион и Джона Грегори Данна вышел в американский прокат в 1971 году. Главную роль в нем сыграл Аль Пачино.
[Закрыть] в европейский прокат. На двух других она в клетчатом льняном платье с оборками, слегка вылинявшем и чуть великоватом, как если бы она донашивала его за старшей сестрой. На остальных – в обрезанных джинсах и джинсовой куртке Levi’s на кнопках, бамбуковая удочка кокетливо закинута на плечо (что говорит не столько об увлечении рыбалкой, сколько о чувстве стиля: взяла предмет, чтобы дополнить ансамбль).
Снимки сделал Тони Данн, ее двоюродный брат из Уэст-Хартфорда, в ту пору – студент Уильямс-колледжа, приехавший на несколько месяцев в Малибу в академический отпуск. В день его появления (или на следующий) Кинтана потеряла свой первый молочный зуб. Сначала ей показалось, что зуб шатается. Потеребила – он зашатался сильнее. Я попыталась вспомнить, что делали в подобных случаях взрослые, когда я была маленькой. Перед глазами всплыла картинка: мать берет кусок нитки, привязывает один конец к моему зубу, другой – к дверной ручке и резко захлопывает дверь. Я попробовала проделать нечто подобное с Кинтаной. Зуб ни с места. Кинтана в рев. Я схватила ключи от машины, позвала Тони: хватит экспериментов, необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Надо как можно скорее доставить Кью в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в тридцати с чем-то милях от дома. Тони, выросший в окружении трех родных и целой оравы двоюродных братьев и сестер, долго, но безуспешно уговаривал меня, что ехать в больницу из-за такой ерунды вряд ли стоит. «Дайте-ка я попробую», – сказал он наконец. Полез пальцами Кинтане в рот и вытащил зуб.
Когда пришло время второго зуба, она вытащила его сама. Мне не доверила.
Неужели дело было во мне? Неужели дело всегда было во мне?
В записке, которую Тони прислал в одном конверте со снимками несколько месяцев назад, говорится, что в каждом из этих фото он ясно видит ту или иную черту характера Кинтаны. На одних она грустная, взгляд больших глаз устремлен прямо в объектив. На других – дерзкая, словно бросающая фотографу вызов. Вот прикрывает рукой рот. А вот намеренно прячет глаза под низко надвинутой панамой в горошек. Вот шагает вдоль берега по кромке волны. А вот закусила губу, повиснув на ветке олеандра.
Несколько снимков мне знакомы.
Копия одного из них (где она в кашемировом свитере с высоким горлом, который я привезла из Лондона) стоит в рамке на моем рабочем столе в Нью-Йорке.
На том же рабочем столе в Нью-Йорке стоит и другая фотография – эту она сделала сама в рождественский вечер на Барбадосе: валуны перед арендованным нами домом, отмель, барашки прилива. Я хорошо помню это Рождество. Мы прилетели на Барбадос ночью. Она сразу юркнула в постель, а я еще посидела на открытой веранде, слушая радио и пытаясь найти цитату из Клода Леви-Стросса[13]13
Французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма в этнологии.
[Закрыть], которая вроде бы встречалась мне в Tristes Tropiques[14]14
«Печальные тропики» (фр.).
[Закрыть], но которую я так и не нашла: «Кто сказал, что тропики – яркий мир экзотики? На самом деле они безнадежно устарели». Она уже легла, когда по радио начался выпуск новостей: пока мы летели на Барбадос, США оккупировали Панаму. Едва рассвело, я разбудила ее с этой важной, на мой взгляд, информацией. Она натянула одеяло на голову, давая понять, что разговор ей неинтересен. Со мной такие штуки не проходят. «Да я вчера еще знала, что мы ночью войдем в Панаму», – сказала она. Я спросила, как она могла «вчера еще» знать, что мы ночью «войдем» в Панаму. «Вчера все наши фотографы пришли за аккредитацией, – сказала она, – освещать вторжение в Панаму». В ту пору Кью работала в фото-агентстве SIPA-Press. Она снова зарылась лицом в подушку. Я не стала спрашивать, почему ей не пришло в голову рассказать мне о предстоящем вторжении в Панаму во время нашего пятичасового перелета. «Маме и папе, – написано на фотографии. – Попробуйте узнать наш райский уголок на берегу моря, если сможете. Люблю-целую, Кью».
Она вчера еще знала, что мы ночью войдем в Панаму.
Кто сказал, что тропики – яркий мир экзотики? На самом деле они безнадежно устарели.
Попробуйте узнать наш райский уголок на берегу моря, если сможете.
Даже на тех фотографиях из Малибу, которые вижу впервые, мгновенно отыскиваю знакомые предметы: стул, выполнявший функцию журнального столика в гостиной; столовый нож «Крафтсман», доставшийся мне от матери; нож лежит на столе, который все домашние называли «стол тети Кейт»; деревянные, с прямыми спинками стулья фирмы «Хичкок»[15]15
Мебельная фирма, существующая в штате Коннектикут с 1818 года.
[Закрыть] – подарок свекрови (перед отправкой она их отреставрировала, выкрасив черным с позолотой).
Узнаю ветку олеандра, на которой раскачивается Кинтана; узнаю абрис берега, по кромке которого она идет, разбрызгивая волну.
Конечно, узнаю одежду.
Довольно долго я видела ее ежедневно, стирала, развешивала на веревке на улице перед окнами моего рабочего кабинета.
Написала две книги, глядя, как на веревке сохнет ее одежда.
Почисти зубы, расчеши волосы, не шуми – я работаю.
Так начинался список «Маминых наставлений», который она однажды прикрепила на стене гаража, – все, что осталось от «понарошечного клуба», затеянного, впрочем, со всей серьезностью вместе с дочерью одного из наших соседей.
Что явилось открытием, проступило на снимках, но оставалось незамеченным в ту пору, когда они были сделаны, – поразительное сочетание сосредоточенности и беспечности, молниеносные смены настроений.
Как я могла просмотреть в ней то, что было так очевидно?
Или я не читала стихотворения, которое в тот год она принесла домой из школы, расположенной на склоне крутого холма? Школы, в которую она ходила в форменном сарафане из шотландки, неся в руках синюю коробочку с ланчем? Школы, в которую Джон провожал ее каждое утро, смотрел вслед и думал, что ничего прекраснее в жизни не видел?
«Мир» называется это стихотворение, написанное неровным детским почерком, и в каждой из тщательно выведенных печатных букв я вижу старательность, донкихотскую одержимость, без которых никогда бы не уместить этих строк на узкой полоске ватмана четырнадцать дюймов в длину и только два – в ширину. Неровный детский почерк теперь каждый день перед моими глазами – узкий лист ватмана висит в раме на стене за кухней нью-йоркской квартиры в компании других уцелевших реликвий того времени: страницы со стихотворением Карла Шапиро «Калифорнийская зима», вырванной из «Нью-Йоркера»; страницы со стихотворением Пабло Неруды «Определенное утомление», напечатанной мной на одной из бесчисленных машинок «Ройал», доставшихся отцу в придачу к купленным им на государственной распродаже нескольким помещениям солдатских столовых, пожарной каланче и армейскому джипу цвета хаки, на котором я училась водить; открытки из Боготы, которую мы с Джоном отправили Кинтане в Малибу; фотографией кофейного столика в гостиной нашего дома на берегу океана (судя по оплывшим свечам, ужин недавно закончился, и в серебряных кувшинчиках свежая сантолина); размноженным на мимеографе уведомлением пожарного округа Топанга – Лас-Вирдженс, разъясняющем жителям округа, что делать в случае, «когда надвигается пожар».
Прошу заметить: не «если надвигается пожар».
А когда.
В уведомлении пожарного округа Топанга – Лас-Вирдженс речь шла совсем не о тех пожарах, которые большинство людей представляют себе, когда слышат словосочетание «пожары кустарника» (немного дыма и мелкие язычки пламени); в уведомлении пожарного округа Топанга – Лас-Вирдженс речь шла о пожарах, наступающих двенадцатифутовыми сполохами двадцатимильным фронтом, набирающих силу по мере движения и уничтожающих все на своем пути.
Местность, в которой мы жили, не прощала ошибок. Вспомните отвесный обрыв и поиски нужного поворота в тумане.
А теперь подшейте к делу и стихотворение «Мир», узкую полоску ватмана, на которой оно сохранилось, тщательно выписанные строки, загородившие в раме часть мимеографического уведомления пожарного округа Топанга – Лас-Вирдженс. Поскольку теперь уже никогда не узнать, что в нем сделано осознанно, а что случайно, привожу здесь текст стихотворения в авторской разбивке на строфы, сохраняя и единственную орфографическую ошибку.
МИР
У мира
Нет ничего
Кроме утра
И ночи
Нет ни
Дня ни обеда
Поэтому мир
Безлюдин и нищ.
Это вроде
Как ос
Тров на
Котором
Всего три дома
В них
Живут семьи по
2, 1, 2 человека
В каждом
А 2, 1, 2 получается
Только 5 человек
На этом
Острове.
Действительно, на участке берега, где мы жили, на нашем собственном «вроде как острове», стояло «всего три дома», или (вношу уточнение!) всего три дома, обитаемых круглый год. Один из них принадлежал Дику Мору – кинооператору, который в промежутках между съемками жил там с двумя дочерьми, Мариной и Титой. Тита Мор – та самая девочка, с которой Кинтана открыла «понарошечный клуб», ознаменованный появлением «Маминых наставлений» на стене гаража. Тита и Кинтана также создали частное предприятие («мыловаренную фабрику», как они его называли), цель которого состояла в переплавке всего нашего запаса мыла «Ай. Магнин» с ароматом гардении (я выписывала его по почте большими партиями) и выпуске мыла собственного изготовления с последующей продажей оного прохожим на пляже. Поскольку часы торговли совпадали со временем прилива, а прилив отрезал пляж от остального берега, прохожие на пляже были явлением редким, что позволило мне со временем скупить все мое мыло обратно, правда, уже не в виде изящных эллипсов цвета слоновой кости, а в виде серых бесформенных комков. О числе обитателей остальных домов судить не берусь, но в нашем, если меня спросить, жили не «2, 1, 2 человека», а «3 человека».
Возможно, Кинтана воспринимала наш «вроде как остров» иначе.
Возможно, у нее были для этого основания.
Почисти зубы, расчеши волосы, не шуми – я работаю.
Однажды, вернувшись из гостей, мы обнаружили, что она звонила в учреждение, известное местным жителям под именем «Камарильо». Камарильо – это вообще-то город в двадцати с чем-то милях к северу от нас в округе Вентуро, но в те годы так называлась располагавшаяся там государственная психиатрическая клиника, в которой однажды лечился от наркомании Чарли Паркер, впоследствии увековечивший ее в своей композиции Relaxin’ at Camarillo[16]16
«Расслабляясь в Камарильо» (англ.).
[Закрыть], и которая, по мнению некоторых, вдохновила группу Eagles[17]17
Американская рок-группа, возникшая в Лос-Анджелесе в 1971 году.
[Закрыть] на сочинение песни Hotel California[18]18
«Отель „Калифорния“» – название заглавной песни одноименного альбома, вышедшего в 1977 году. Песня стала мегахитом.
[Закрыть].
Кью позвонила в Камарильо узнать (так нам было объявлено), как быть, если она почувствует, что начинает сходить с ума.
Ей было пять.
В другой раз мы вернулись домой и выяснили, что она позвонила на киностудию «Двадцатый век Фокс».
Кью объяснила, что позвонила на киностудию с вопросом, как становятся звездами.
Тоже лет в пять. Может, в шесть.
Титы Мор больше нет, она умерла еще при жизни Кинтаны.
Дика Мора тоже нет, он умер в прошлом году.
С Мариной мы недавно общались по телефону.
Не помню, о чем мы с ней говорили, но знаю, что мы не говорили о «понарошечном клубе» с «Мамиными наставлениями» в гараже, не говорили о мыловаренной фабрике и не говорили о том, как наш некогда общий пляж оказывался отрезанным от остального берега во время прилива.
Я могу это утверждать, поскольку уверена, что ни Марина, ни я не выдержали бы такого разговора.
Так поется в песне Hotel California.
Сосредоточенность и беспечность, молниеносные смены настроений.
Она уже была личностью. Я упрямо отказывалась это признать.
6
Что-то я хотела добавить про столовый нож «Крафтсман», доставшийся мне от матери…
Про столовый нож «Крафтсман» на «столе тети Кейт» на одном из снимков… Не тот ли это нож, который потом слетел с деревянных перил террасы в заросли хрустальной травы? Слетел и затерялся на годы? Не его ли мы нашли ржавым и исцарапанным, когда по требованию Геологической службы занялись починкой дренажа перед продажей дома и переездом в Брентвуд-парк? Не его ли я припрятала, чтобы когда-нибудь передать Кинтане в память о нашем пляже, о бабушке, о детстве?
Так тот нож с тех пор и храню.
Весь в ржавчине и царапинах.
И молочный зуб, вырванный двоюродным братом Тони, храню. В том же бархатном футляре, куда Кинтана складывала другие молочные зубы, вырванные впоследствии самостоятельно. И где помимо зубов лежат три бусины от некогда рассыпавшегося жемчужного ожерелья.
Все это по-прежнему у меня, хотя предназначалось ей.
7
Не нужны мне больше семейные реликвии. Не нужны напоминания о том, что было, что разбилось, что пропало, что растрачено.
Был период – и довольно долгий – с детства и до сравнительно недавнего времени, когда думала, что нужны.
Период, когда верила, что, сохраняя все эти реликвии, вещи, тотемы, я продлеваю жизнь тех, кто мне дорог, не даю им исчезнуть.
Осколками этой вдребезги разбившейся веры теперь наполнены ящики и шкафы моей нью-йоркской квартиры. Какой ящик ни выдвину, обязательно вижу то, чего по здравом размышлении предпочла бы не видеть. В какой шкаф ни загляну, все забито бесполезным тряпьем, а одежду, которую еще могла бы носить, повесить некуда. В одном шкафу нахожу три старых плаща «Бёрберри» (Джона), замшевый пиджак (подарен Кинтане матерью ее первого ухажера) и изрядно битая молью накидка из ангорской шерсти (подарена моим отцом моей матери вскоре после окончания Второй мировой войны). В кладовой нахожу комод и грозящее обрушиться нагромождение коробок. Открываю одну. Нахожу снимки, сделанные моим дедом в пору, когда он служил горным инженером в горах Сьерры-Невады (начало двадцатого века). В другой нахожу кружевные лоскутья и вышивку, которые когда-то перекочевали в коробку моей матери из коробок ее матери.
Блестящие черные бусы.
Четки из слоновой кости.
Хлам, с которым непонятно что теперь делать.
В третьей коробке нахожу бесчисленные мотки цветных ниток (отложены на случай, если понадобится что-либо подправить в аппликации, вышитой и подаренной в 2001 году). В комоде нахожу письменные работы Кинтаны времен Уэстлейкской женской гимназии: конспект научной статьи о стрессе и анализ образа Энджела Клэра в романе «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей». Нахожу ее уэстлейкскую летнюю школьную форму. Нахожу ее темно-синие спортивные шорты. Нахожу голубой фартук, который она надевала, когда работала волонтером в больнице Св. Иоанна в Санта-Монике. Нахожу черное платье из шерстяного чаллиса, купленное в магазине «Генри Бендел» на Западной Пятьдесят седьмой улице, когда Кинтане было четыре. Старый добрый «Генри Бендел» на Западной Пятьдесят седьмой[20]20
В 1990 году магазин «Генри Бендел» переехал на Пятую авеню, где находится и сейчас.
[Закрыть]. Как же это было давно! С уходом Джералдин Статц с поста директора магазин потерял лицо, стал обычным универмагом, но, пока «Генри Бендел» оставался на Западной Пятьдесят седьмой, где я приобрела это платье, каждая вещь в нем была особенной, каждая манила: все эти платья из воздушного шифона от Холли Харп с волнистыми краями, размеры от нулевого до второго.
Тоже хлам, с которым непонятно что теперь делать.
Продолжаю открывать коробки.
Нахожу залежи выцветших и потрескавшихся снимков, которые вряд ли когда-нибудь захочу снова увидеть.
Нахожу множество изысканных свадебных приглашений от людей, чьи браки давно распались.
Нахожу множество извещений о заупокойных мессах по людям, чьи лица давно забылись.
Бумажный хлам. Когда-то у него была миссия: воскресить в будущем важные мгновения прошлого.
А воскрешается лишь ощущение того, как мало я ценила важные мгновенья прошлого, пока они были настоящим.
Неумение ценить важные мгновения прошлого, пока они были настоящим, – еще одна вещь, которую я раньше упрямо отказывалась в себе признать.
8
Сосредоточенность и беспечность, молниеносные смены настроений.
Конечно, в них заподозрили нечто большее, чем просто особенности характера. Конечно, им начали подбирать «диагноз». Подбирали долго, жонглировали медицинскими терминами. Скажем, маниакально-депрессивный психоз уступил место СНС, а это у нас «синдром навязчивых состояний», который в свою очередь уступил место еще чему-то (чему – забыла, но это неважно: «диагноз» всегда менялся раньше, чем я успевала запомнить). Беру слово «диагноз» в кавычки, поскольку мне ни разу не доводилось видеть, чтобы за «диагнозом» следовало излечение. Если что и следовало, то лишь еще большая, подтвержденная «диагнозом» уверенность человека в собственной неполноценности.
Говорю же, медицина – искусство несовершенное. Лишнее доказательство.
Кинтана чувствовала себя угнетенной. У нее появилось навязчивое чувство тревоги. Чтобы снять подавленность и избавиться от навязчивого чувства тревоги, она стала выпивать. Это объявили самолечением. В качестве лекарства от депрессии алкоголь имеет свои хорошо известные недостатки, но как транквилизатор (вам это любой врач подтвердит) он весьма эффективен. Казалось бы, налицо прямая зависимость, но, когда вас сажают на антидепрессанты, когда слова «сосредоточенность», «беспечность» и «молниеносные смены настроений» заменяются на медицинские термины, все уже не так очевидно. К нам примеряли разные диагнозы, длинный перечень синдромов, нарушений и расстройств, пока наконец наименее запрограммированный из врачей (человек, а не робот) не остановился на том, которое даже мне показалось подходящим. Расстройство, которое показалось подходящим даже мне, называлось «пограничное расстройство личности», или ПРЛ. «У пациентов с ПРЛ симптомы настолько обманчивы, что они часто вводят в заблуждение клинициста и затрудняют работу психотерапевта, – это цитата из рецензии на справочник Джона Гандерсона „Пограничное расстройство личности: в помощь клиницисту“, напечатанной в „Медицинском вестнике Новой Англии“[21]21
Старейший периодический медицинский журнал в мире – наиболее широко читаемое, цитируемое и влиятельное издание по общей медицине. Издается Медицинским обществом штата Массачусетс.
[Закрыть] в 2001 году. – Сегодня такие пациенты выглядят обаятельными, спокойными и психически уравновешенными, а завтра оказываются во власти отчаяния и суицидальных мыслей». И далее: «Отличительными признаками данного заболевания являются импульсивность, аффективная лабильность, панический страх отвержения и диффузия идентичности».
Практически все перечисленные симптомы я видела.
Видела обаяние, видела уравновешенность, видела отчаяние и суицидальные мысли.
Видела, как, лежа на полу своей комнаты в Брентвуд-парке (той самой комнаты, чьи окна выходили на розовую магнолию), она билась в истерике, призывая смерть: «Забери меня в землю. Забери меня в землю спать вечным сном».
Видела импульсивность.
Видела «аффективную лабильность» и «диффузию идентичности».
Не видела только одного (хотя, возможно, видела, но не распознала) – «панического страха отвержения».
Неужели она всерьез допускала мысль, что мы можем ее отвергнуть?
Неужели не понимала, до какой степени в ней нуждаемся?
Недавно я впервые прочла несколько фрагментов из того, что она называла «роман, который пишу, только чтобы вам показать». Сколько ей тогда было? Тринадцать? Четырнадцать? «Одни события основаны на реальных фактах, другие – вымышлены, – с самого начала предупреждает Кинтана читателей. – Имена изменены не окончательно». Героине этих фрагментов тоже четырнадцать, зовут ее тоже Кинтана (хотя изредка попадаются и другие имена – автор явно продолжал поиск), и она подозревает, что забеременела. Идет на консультацию (дальше деталь, словно созданная для того, чтобы «ввести в заблуждение клинициста и затруднить работу психотерапевта») к педиатру. Педиатр советует рассказать родителям. Она рассказывает. То, как ей видится реакция родителей (да и все дальнейшее развитие сюжета), свидетельствует о царившем в ее голове сумбуре, который можно объяснить либо недавно пережитым сильнейшим эмоциональным потрясением, либо элементарным разгулом подростковой фантазии: «Они сказали, что дадут денег на аборт, но после этого и знать ее не желают. То есть из своего дома в Брентвуде не выгнали, но начисто потеряли интерес к тому, чем она живет. Ее это вполне устраивало. Раньше отец часто кричал на нее, но это лишь потому, что родители хотели добра своей единственной дочери. Теперь же им было на нее наплевать. Кинтана могла жить, как ей вздумается».
Далее следует совсем уже неожиданный пассаж, заключающий повествование: «Вскоре вам предстоит узнать, от чего и как Кинтана умерла, а ее друзья в свои восемнадцать стали законченными наркоманами».
Так заканчивается роман, который она писала, только чтобы нам показать.
Показать нам что?
Показать нам, что способна написать роман?
Показать нам, от чего и как умрет?
Показать нам, какой, по ее мнению, будет наша реакция?
Теперь же им было на нее наплевать.
Нет.
Она понятия не имела, насколько мы в ней нуждались.
Как мы могли до такой степени не понимать друг друга?
А за роман она взялась, потому что мы писали романы? Не хотела обмануть наших ожиданий? Еще один страх? Наш тоже?
Ниже привожу свою запись про персонажа из ее ранних детских кошмаров. Она называла его «сломатый человек» и описывала так часто и в таких пугающих подробностях, что холодок бежал по спине, и я нередко подходила к окну ее спальни на втором этаже удостовериться, нет ли кого за ним. «Он в рабочей спецовке, – не раз говорила она мне. – Рубашка синяя, с короткими рукавами. На нагрудном кармане – справа – вышито имя. Обычное имя: Дэвид, Билл, Стив. Возраст – от пятидесяти до пятидесяти девяти, где-то так. Темно-синяя бейсболка с надписью Gulf[22]22
Gulf Oil – с 1900 по 1980 год одна из крупнейших в США нефтяных компаний с широкой сетью бензоколонок по всей стране.
[Закрыть]. Коричневый ремень, темно-синие брюки, черные лакированные ботинки. И разговаривает басом: „Привет, Кинтана. Сейчас я запру тебя в гараже“. С тех пор как мне стало пять, он перестал мне сниться».
Обычное имя: Дэвид, Билл, Стив?
Вышито на нагрудном кармане справа?
Темно-синяя бейсболка с надписью Gulf?
С тех пор как ей стало пять, он перестал ей сниться?
По сей день слышу: «Возраст – от пятидесяти до пятидесяти девяти, где-то так». На этой фразе я поняла, что мой страх перед «сломатым человеком» столь же реален, как страх Кинтаны.
9
К вопросу о страхе.
Приступая к работе над этой книгой, я полагала, что буду писать о детях – о том, какими они вырастают, и о том, какими нам бы хотелось, чтобы они вырастали; о том, как мы оказываемся в зависимости от их зависимости от нас; о том, как всячески способствуем тому, чтобы они подольше не взрослели; о том, что знаем о своих детях меньше, чем даже самые мимолетные из их знакомых; о том, как и мы остаемся для наших детей тайной за семью печатями.
О том, в частности, как мы пишем романы, только чтобы «показать» их друг другу.
О том, что мы столько друг в друга вкладываем, что перестаем видеть за деревьями лес.
О том, что ни мы ни они ни на минуту не позволяем себе задуматься о смерти, болезни и даже старении друг друга.
С каждой написанной страницей мне становилось очевиднее, что писать все-таки следует не о детях, во всяком случае, не только о них, не о детях как таковых, а именно вот об этом нашем категорическом нежелании хотя бы задуматься над неизбежностью старения, болезни, смерти.
Нежелании задуматься, неспособности признать.
О страхе.
Исписав еще несколько страниц, я поняла, что, в сущности, это не две темы, а одна.
Все мы смертны, и наши дети не исключение.
Привет, Кинтана. Сейчас я запру тебя в гараже.
С тех пор как мне стало пять, он перестал мне сниться.
С ее появлением не было минуты, чтобы я чего-нибудь не боялась.
Я боялась бассейнов, высоковольтных проводов, щели под раковиной, аспирина в аптечке, «сломатого человека». Я боялась гремучих змей, водоворотов, оползней, незнакомцев за дверью, беспричинно подскочившей температуры, лифтов без лифтеров и пустых гостиничных коридоров. Источник страха понятен – любая грозившая ей опасность. Вопрос: если бы мы лучше понимали наших детей, а наши дети – нас, пропал бы страх? И если бы пропал, то пропал бы у нас обеих или у меня одной?
10
Она родилась в первый час третьего мартовского дня 1966 года в больнице Св. Иоанна в Санта-Монике. Мы тогда жили в городке Португез-Бенд, милях в сорока к югу от Санта-Моники, и узнали, что можем ее удочерить в тот же день, третьего марта, от Блейка Уотсона – акушера, принимавшего роды, который позвонил вечером. Я была в душе и разрыдалась, когда Джон заглянул в ванную, чтобы передать мне слова Блейка Уотсона. «У меня тут красавица родилась в больнице Святого Иоанна, – сказал Джону Блейк. – Звоню уточнить, возьмете ли вы ее?» Он также сказал, что мать девочки приехала из Тусона и прожила всю беременность у калифорнийских родственников. Час спустя мы заглядывали в окно палаты родильного отделения больницы Св. Иоанна, любуясь новорожденной со жгучими черными волосами и личиком, показавшимся мне похожим на бутон розы. На полоске бумаги в идентификационном браслете у нее на запястье вместо имени было выведено две буквы – «Н. И.», что означало «нет информации» – стандартный ответ больничной администрации на любые вопросы об оставленных матерями младенцах. Кто-то из нянечек повязал в ее жгучие черные волосы розовый бант. Впоследствии, следуя модной тогда теории, рекомендовавшей родителям объяснять приемным детям, почему они «выбрали» именно их, Джон сочинил для Кинтаны историю о том, как мы с ним пришли в родильный дом «выбирать» себе дочку. «Нам не эту дайте, – якобы обратился он к медсестре (история всегда разыгрывалась им в лицах). – Нам вон ту. Которая с бантом».
– А покажи, как ты попросил «не эту», – включалась в игру Кинтана, и мы радовались тому, как мудро мы поступили, решив ей обо всем рассказать. Сегодня далеко не все специалисты по усыновлению считают, что детям следует говорить о том, как их «выбрали», но в 1966-м правильность такого подхода никто не решался оспаривать. – Ну пожа-а-алуйста… Покажи, как ты попросил ту, которая с бантом.
И спустя какое-то время: «А покажи, как ты говорил по телефону с доктором Уотсоном». В рассказе Джона Блейк Уотсон успел приобрести мифический статус.
И потом: «А покажи, как ты заглянул к маме в душ».
Даже душ стал частью истории о том, как мы ее «выбирали».
3 марта 1966 года.
Вечером по дороге из больницы мы заехали в Беверли-Хиллз поделиться новостью с братом Джона Ником и его женой Ленни. Ленни сказала, что может сходить со мной утром в «Сакс»[23]23
Saks Fifth Avenue – сеть дорогих магазинов элитной дизайнерской моды.
[Закрыть] за детскими вещичками. Произнося это, она выуживала остатки льда из хрустального ведерка, чтобы добавить в коктейль. Коктейлями в нашей семье полагалось отмечать любое сколько-нибудь выдающееся событие. Да и невыдающееся тоже. Сейчас кажется – зачем было столько пить, – но в 1966-м этим вопросом никто не задавался. Лишь перечитав свои ранние рассказы, в которых один из героев непременно смешивает себе коктейль на первом этаже, насвистывая какой-нибудь шлягер (чаще всего про девушку из Уиннетки[24]24
Big noise blew in from Winnetka – шлягер Гила Родина и Боба Кросби на музыку Боба Хэггарта и Рэя Бодука, написанный в 1940 году. В шестидесятые получил вторую жизнь после исполнения Пегги Ли и Бетт Мидлер.
[Закрыть]), я ужаснулась тому, как много мы пили и как легко к этому относились. Вручив мне бокал, Ленни отправилась с хрустальным ведерком на кухню за новой порцией льда. «В „Саксе“ распродажа, – бросила она через плечо. – Если потратить восемьдесят долларов, кроватку дадут бесплатно».