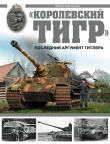Текст книги "Королевский тигр"
Автор книги: Джинни Эбнер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Лет пять спустя Анна, сидя в своей деревянной будке на холме и поглядывая вдаль, однажды в просвете между банкой с огурцами, сыром под стеклянным колпаком и засиженными мухами жестянками дешевых леденцов увидела длинную череду пестро размалеванных цирковых фургонов, которая подтянулась ближе и встала у подножия холма на большом лугу.
Мицци была хорошенькая девчушка, с тонкими, в отца, чертами и такой же, как у него, изящной удлиненной фигурой – для пятилетнего ребенка она казалась на удивление рослой и стройной, – от матери же она унаследовала густые кудрявые волосы и яркие губы. Анна знала, чего хочет, когда в будний день нарядила дочку в свеженакрахмаленное платьице и воскресные чулочки и расплела ей косы, чтобы волосы блестящей волнистой гривой легли на плечи, оттеняя хорошенькое личико. Она взяла девочку за руку и зашагала с ней к цирку, в своих сапогах и юбках, – точь-в-точь нянька-крестьянка избалованного ангелочка.
Фокусник узнал ее сразу.
– Ну чего ты опять хочешь? – спросил он с досадой, но вместе с тем неуверенно, потому что и сам понимал, что по истечении целых пяти лет не может быть речи о каком-то «опять».
Но Анна мигом поставила его на место, и ее тон не допускал никакого сомнения в полнейшем безразличии ее чувств.
– Я? Ничего. – Короткое презрительное молчание. – Это она вот хочет познакомиться со своим отцом. – И с этими словами Анна решительно подтолкнула к нему девочку.
– А она прехорошенькая! – сказал он в замешательстве.
Анна одобрительно кивнула, как будто именно это всегда утверждала и сейчас как раз намерена представить доказательство своей правоты.
А Мицци сделала то, что было твердо заучено дома, – шагнула навстречу незнакомому человеку, вежливо присела, посмотрела на него чистейшими детскими глазами и сказала:
– Желаю доброго здравия, папенька!
Старомодно-почтительное приветствие и красота ребенка оказали свое действие. Когда через несколько недель цирк уехал, отец забрал Мицци с собой. Он решил дать ей превосходное воспитание и сделать из нее вундеркинда. Началась жизнь, полная тяжелых физических упражнений, иногда случались и побои, однако не чаще, чем доставалось ей дома от матери. После изнурительных тренировок ее суставы стали податливыми и гибкими, и она бесстрашно пробовала работать на канате и с лошадьми, а также выступать как танцовщица. Увы, плоть была бодра, но дух немощен – слишком слаб даже для профессии, основанной на искусном владении своим телом: Мицци не хватало понятливости. Она унаследовала от матери медлительность и окаменелую неповоротливость мышления, и все с нею было так же, как с огромными животными, вымершими из-за того, что их голова находилась слишком далеко от конечностей, – прежде чем она успевала сообразить, что нужно сделать движение, чтобы не потерять равновесие, она уже срывалась и падала на сетку, прежде чем успевала понять, что это к ней летит пестрый обруч или шар, было поздно, и шар, упав, катился по песку.
– Доходит как до жирафы, – отзывался отец-фокусник о ее способностях.
К восьми годам она выросла слишком большой и уже не годилась на роль златокудрого эльфа, чья изящная грациозность служила прелестным контрастом грубоватой клоунаде, обеспечивая номеру успех у публики, и с тех пор отец утратил к девочке всякий интерес, а вскоре, дав денег, отправил домой, чтобы она смогла пойти в школу.
Но и школа не принесла ей радостей и успехов, что выпадают нормальным детям, так же как цирк не смог одарить ее блестящими и мучительно трудно дающимися триумфами, что достаются созданиям, чуждым обывательской заурядности. Высокий рост Мицци, бросавшийся в глаза тем более, что все одноклассницы были годом-двумя младше, служил поводом для частых насмешек. Одинокая, как тополек посреди лугов, неприкаянно возвышалась она среди других детей. Издевки, отличавшиеся искушенным городским злоязычием, которых она не могла понять до конца, ибо на это ей не хватало соображения, но которые с болью угадывала, изо дня в день обдавали брызгами ее слишком длинные ноги, меж тем как ее бедная глупенькая головка не могла по-настоящему усвоить пройденных уроков, и вскоре личико Мицци в печальной вышине приобрело удивленное и обиженное выражение, которое так на нем и застыло на всю жизнь. И только на уроках гимнастики, которая в те времена считалась самым второстепенным и несерьезным предметом, ей удавалось вызвать восхищение других детей благодаря своей акробатической гибкости. Поэтому и дома она по собственному почину дополнительно занималась гимнастикой, чтобы не лишиться единственной радости, которой побаловала ее судьба.
Ей не исполнилось еще двенадцати лет, как она уже начала сверху смотреть своим удивленным печальным взглядом на мать, статную и рослую. Анна от тяжелой работы раздалась вширь и сделалась как бы меньше ростом, она стала теперь крепко сбитой, вроде громоздкого ящика, однако для женщины все равно была очень высокой.
Старушка, от которой ей досталась квартира и лавка, умерла, все по закону принадлежало Анне, и она могла считать себя относительно богатой. Но тут настали времена экономической депрессии, и десятки безработных, которые целыми днями просиживали на холме с куском хлеба со смальцем и бутылкой ячменного кофе, за игрой в карты или починкой одежды, меж тем как их дети запускали самодельных воздушных змеев, гоняли тряпичный мяч или дрались, лишь очень редко могли позволить себе купить пятьдесят граммов кислых леденцов или бутылку пива и булочку с сосиской.
Ненасытный аппетит долговязой Мицци теперь преследовал мать даже во сне. И однажды она с помощью чиновника на пенсии, хозяина крохотного садового участка на склоне холма, написала письмо, которое чуть не целый год скиталось за цирком по разным городам, пока наконец не догнало ее волшебника. Она сообщала в этом письме, что Мицци стала большой и очень хорошенькой, и спрашивала, не найдется ли для нее какой-нибудь работы в цирке.
Вот так получилось, что Мицци вскоре снова попала в цирк и спустя несколько лет начала выступать под звучным именем Моны Белинды вместе с отцом, став в его номере девушкой, которую распиливают; иначе говоря, на каждом представлении ее, одетую в расшитое блестками трико, укладывали в длинный ящик, распиливали надвое, а затем снова соединяли благодаря чудесам черной магии.
***
Над вершиной холма, откуда открывался широкий вид на большой луг, садовые участки, свалки и домишки поселка – по левую руку, на огромные кварталы новых жилых домов – по правую, и дальше за ними – на горбатый, заслоняющий горизонт хребет Лайнцкого лесного заповедника, непрестанно дул ветер. То был не резкий ветер и не зефир лирического свойства, но терпкий и дерзкий, задорный ветер городской окраины, в самый раз для босоногих детей, бегущих за воздушными змеями, вечно голодных и вечно чумазых. И этот же ветер до времени испещрил щеки Анны бессчетными тонкими темными черточками, иссушил ее кожу и задубил загаром, как будто ей было предназначено еще при жизни перейти в состояние мумии.
Так, впрочем, все они выглядели, все, кто целыми днями лежал в траве на холме, играл в карты и в ожидании перемен прозябал в бессмысленном препровождении времени, в своей нежеланной свободе, свободе безработных. Но свобода безработного – не более чем невидимая клетка. В этой клетке сидели они на ветреной, поросшей травой вершине, которая поневоле заменяла им природу и подлинную человеческую действительность, валялись на старых пальто, положив рядом на траву бутылку с кофе и хлеб, меж тем как их силы, посаженные на цепь фактов, рвались с цепи, стремились сорваться, дорваться до какой-либо пользы, но эта воля все слабела и слабела, и наконец отупело ложилась на землю рядом со спящим убогим существом, в точности как пригнанный ветром насквозь промокший под дождем измятый бумажный клочок. А потом мускулы воли все больше тощали, так же как таяли без дела мускулы на их праздных руках.
С виду они мало чем отличались от Анны: до времени высохшие, бесцветные, более исхудалые в своей городской нужде, чем она в своей деревенской, такие же, как она, ожесточенные, хитрые и решившиеся ни за что не подохнуть с голоду, но без ее стоического безразличия и неподвижности. Порой громыхали глухие раскаты, и угрюмый ропот слышался там, где они собирались в толпу. Эти бунтари, возмущенные и не принимающие неотвратимого, чаще всего были теми, кто лишь недавно обрел свободу безработных. В этих новичках жизнь с еще внятной силой проявляла себя в виде гнева и той надежды, что заключена в гневе.
Однако мудрость неумолимо предъявляет жизни свой вопрос: для чего? Чем меньше проживешь, учит она, тем лучше. Тот, кто не рвется с цепи, – не прикован. Он вправе с миром опочить голодной смертью. Неужели он не может посидеть спокойно какое-то время? Всего-то – пока жизнь идет. Вот-вот пройдет все, будто ничего и не было.
Молодой подсобный рабочий Йозеф Кутиан не относился к тем, кто замышлял силой добиться права на иное, более достойное человека существование. Великий вопрос «для чего?» подхватил его на усталые и мягкие крылья. И он бездумно плыл куда-то. Отчаяние его почти достигло границы мудрости, той границы, на которой стояла Анна, недвижная, как межевой замшелый камень, что отмечает границу меж полем живого гнева и пустошью ожесточенного терпения, поросшей надменно колким чертополохом.
В тот день, когда Кутиана выставили на улицу и ждать было нечего, даже пособия по безработице, он пропил последние деньги в лавчонке Анны. Она ничего не имела против, потому что он сперва платил за каждую бутылку и лишь потом забирал ее и уходил к деревянному столу возле кустов. Плату она всякий раз брала сразу же, не доверяя ему, хотя ей из будки было хорошо видно, как он сидит, поставив локти на стол и понурив голову. Вскоре пить ему стало не на что, а выпитого все еще было недостаточно, чтобы он смог забыть о своей беде, и тут он спросил Анну, не отпустит ли она еще бутылку, в кредит.
– Нет, – отрезала Анна. – Кредита нет ни для кого.
Он уставился на нее мутными глазами, однако обуздал безотчетный порыв разнести в щепки ее прилавок. Она внимательно пригляделась к нему и разглядела, что человек он незлобивый.
– Можете помочь мне вечером собрать прилавок, – сказала она. – Хватит с меня на нынешний год, уже слишком холодно становится.
Он кивнул и в качестве аванса получил бутылку пива и булочку с сосиской, а потом до вечера проспал на скамейке под холодным сентябрьским ветром.
Анна время от времени подходила и разглядывала его лицо, как будто пыталась расшифровать какой-то замысловатый текст, текст контракта, в котором могли оказаться ловушки и неожиданные подвохи. Лицо было грубое, но не злое. Она и тело окинула испытующим взглядом: ноги были кривые и короткие, но необыкновенно сильные, плечи широкие, и голова на короткой шее сидела крепко. Те, что с тощей шеей и торчащим кадыком, были коршуны, те, у которых шея длинная и гибкая, – гусаки, а с кряжистым затылком – хорошие тягловые волы. Руки его она рассмотрела так, как на ярмарке скота оценивают стоимость животного. Руки были худые, но в суставах узловатые, мосластые, жилистые.
Она вернулась за прилавок и подсчитала все, загибая на левой руке пальцы для всего плохого, чего всегда следует ждать, и на правой – для скудной выгоды, которую, может быть, удастся извлечь из всего плохого.
В течение лета доходов от лавчонки кое-как хватало на жизнь, зимой же Мицци регулярно присылала матери немного денег. Иногда и фокусник добавлял от себя банкноту, на дрова. Всего этого двоим не хватило бы. Но можно было развести огород позади дома, можно было получить разрешение на сбор хвороста, ходить в лес по ягоды и по грибы и носить на рынок, перед Рождеством тайком срубить пару елочек на продажу, а весной продавать цветы.
Со всем этим ей трудно было бы управляться в одиночку, и уж тем более, если одновременно хозяйничать в лавке. В конце концов она пришла к выводу, что мужчина в доме – не слишком большое зло.
Вечером она разбудила Кутиана и сообщила ему – по частям, когда они складывали будку и прилавок – итог своих подсчетов. Она поставила ему два условия: не пить и не приставать к ней с «этим», потому что ей «давно не интересно». Он согласился. То, что теперь он мог ночевать не в ночлежке, а в сырой комнате, что Анна будет готовить для него и латать его одежду, уже означало подъем по социальной лестнице. Он был ей искренне благодарен и оказался услужливым и изобретательным при выискивании новых источников мелкого дохода. И пил мало, – в сущности, пьяницей он не был, коль скоро не находилось серьезных причин искать выход в спасительном беспамятстве…
Солнце уже зашло за покосившимся коньком крыши, и только раз-другой еще плеснуло водянисто-желтым струистым светом на печную трубу, обдав ее брызгами, как от сильной струи, бьющей по железной решетке у водной колонки, когда поднимаешь с нее полное ведро. Стена дома и огород лежали в тени. Пестрые краски словно подернулись пеленой золы.
Старая Анна поднялась со скамьи и пошла в дом. В подворотне она привычно остановилась и обернулась посмотреть, не забыла ли чего, грабли или тяпку.
Цветок тыквы на ночь закрылся.
«Что вывихнутая нога, что вывихнутая жизнь, все снова вправится», – подумалось ей. Жизнь… Вообще, жизнь… Она волновалась, и мельтешила, и изменялась в пустом тщеславии, она тянулась мимо, как бродячий цирк, и все-то вот так тянулось мимо – пестрые фургоны, поля репы, воздушные змеи на сентябрьском ветру, безработица и новая работа, полные пивные бутылки, и бутылки пустые…
Она застыла как камень, что грузен и пуст, и так далек от счастья и горя, и от всего этого цирка.
Снова взвыла вдали сирена скорой помощи. Машина остановилась в конце улицы у дома престарелых. Из белого ящика с красным крестом вытащили носилки. К ним было что-то пристегнуто ремнями, что-то сухонькое и хрупкое, уже переставшее быть телесным. Только неимоверно усталые угасшие глаза, полные животного страха и человеческой покорности, говорили о том, как живы еще ощущения в этом сжавшемся комочке, выброшенном за ненадобностью из огромного материального склада природы.
«И до нас дойдет черед, – подумала Анна. – До всех дойдет черед». И эта мысль принесла ей удовлетворение, подобно глубоко потаенному мстительному чувству: ее, старой Анны, спокойное одобрение неизбежности смерти служит порукой тому, что смертны все на свете – и богачи и бедняки, и те, кто страдал, и счастливцы.
Бабушки, как Кутиан уже фамильярно называл Анну, в тот день не было дома, с корзиной цветов она ходила из одного кафе в другое. Была весна.
В дверь постучали, и Кутиан открыл. На пороге стояла незнакомая дама.
Мицци, входя в кухню, пригнулась, потом же она выпрямилась во весь свой рост, и Кутиану пришлось смотреть на нее снизу вверх. Он застыл на месте, потеряв дар речи. Ничего подобного он еще не видел – этот фантастический рост, эти шелковистые, сплошь скрученные в тугие колечки волосы, напудренная нежная кожа, и еще платье, более яркое и вырезанное глубже, чем те, к каким он привык в своем окружении. Ему показалось, что в их жалкую кухоньку явилось неземное создание и все вокруг померкло и потускнело в нищенском сером убожестве.
На щеке у нее алел большой шрам, он тянулся вдоль щеки, спускался по шее на ключицу и тонкой огненной змейкой исчезал между полных грудей. Кутиан взглядом то и дело пробегал по легким и ловким извивам этой алой змеи, насколько они были видны, но сразу же смущенно отворачивался, потому что наглость и привычка бесцеремонно глазеть на других были ему совсем не свойственны – до той поры он никогда не жил достаточно беззаботной жизнью, чтобы часто заглядываться на женщин.
Если человек никогда ничего не видел, кроме скудной и серой необходимости, а судьба вдруг нежданно-негаданно преподносит ему нечто совершенно излишнее и бесполезное – женщину двухметрового роста, женщину, которой гораздо больше, чем необходимо для любви и жизни, необыкновенную красоту, да притом целых два метра этой красоты, и вдобавок со шрамом, какого нет ни у кого, кроме нее, с неповторимым орденом судьбы, происхождение и смысл которого, по-видимому, необъяснимы, – разве такой человек не должен потерять голову, что с величайшим трудом научилась складывать полезные вещи, но не в силах постичь умножение красоты и возведение в степень того, что безмерно?
Она была первой женщиной, от которой он не мог оторвать взгляд, она повергла его в безмерное изумление. Рассмотреть этот феномен женственности удавалось лишь в два приема: сначала благоговейно-смущенный взгляд Кутиана устремлялся снизу вверх, на лицо, затем, как под гипнозом, легкими касаниями скользил вдоль красного шрама все ниже, до груди; или, если она стояла к нему спиной, взгляд бежал вверх, вдоль удлиненных лодыжек, развязно, как проходимец-бродяга, задевая ее тело, и доходил до ямки под коленом. И отсюда, стоило ей наклониться – а при ее росте это случалось часто, – еще чуть выше, до приподнявшегося края подола, но никогда – дальше, до середины тела, ибо путь от земли до середины ее бедер и без того был долог и развратно, пугающе прекрасен.
Одним словом, для Кутиана Мицци снова была Моной Белиндой, распиленной пополам, разделенной надвое красавицей. Он не мог даже охватить всю ее сверху донизу одним взглядом, она не вмещалась ни в одну человеческую меру, ни в какое поле зрения. Он видел либо только ее голову и грудь, вроде воскового манекена в витрине парикмахерской, либо тренированные стройные ноги. То, что находилось посередине, ради чего вообще мужчины, в зависимости от своих склонностей, смотрят в лицо женщины или на ее ноги, для Кутиана было табу.
Он ни разу не посмел туда взглянуть даже потом, когда в темноте ночей слепая сила природных инстинктов, Бог его знает как, все же достигла своей вечно одной и той же цели и случилось то, что обыкновенно случается, если мужчина и женщина в тесноте крохотной квартиренки вынуждены жить бок о бок друг с другом.
Обладать этой красавицей было сродни святотатству. И то, что он, такой вот кривоногий коротышка, мог безнаказанно осквернять эту богиню, доставляло ему непристойное наслаждение, однако даже совершая святотатство, он не осмеливался взглянуть на себя самого со стороны. Днем же он едва осмеливался заговорить с нею, и, как и раньше, оставался никудышным случайным постояльцем, снимающим койку, вором, который тайком прокрался в притвор храма, чтобы с наступлением ночи упиться мнимым торжеством над священной статуей.
И после того как все случилось, Мона Белинда прежних времен не смогла простить этого себе сегодняшней – Мицци. Медленно, как всегда слишком медленно и слишком поздно, лишь смутной догадкой, так и не поднявшейся до ее сознания, в мелкие, мечтательно-сонные заводи ее души просочилось гадливое чувство, гнилые фунтовые воды болот, кишащие гнусными тварями. И нынешняя жизнь показалась ей болотом. Медленно, неделя за неделей она вытаскивала из болотной жижи свое прошлое.
Любовь, алый риск, рдяный риск – быть поглощенной.
Супружество, униженность как мирная гавань – спасение от безмерности.
И теперь вот проституция. Ни страсти, ни рассудка не было в этой небрезгливой потребности.
И тогда она начала мстить Кутиану. Однажды он, осмелев, спросил, откуда у нее такой странный шрам, и она ответила:
– Набросился один. Я не хотела, но он был сильнее… – И ее взгляд не допускал сомнения в том, что насилие и жестокость того, более сильного, для нее и сегодня значат больше, чем ласки Кутиана.
– Хочешь прожить жизнь, как я? – спросила Анна, когда заметила, что живот Мицци круглится материнством. Мицци как будто не слышала – в последнее время ее мысли часто блуждали где-то далеко, но как бы там ни было, она не возразила, когда старая женщина сказала: – Лучше всего будет, если ты выйдешь за Кутиана.
Потом Анна призвала Кутиана к ответу. Тот начал было перечить:
– Вовсе не от меня он! Наверное, от того же, от кого у нее шрам.
– Шрам? Шрам у нее из-за того, что я, когда была в тягости, испугалась. Я загляделась и хлопнула себя ладонью по шее, вот у нее на этом месте и осталось красное родимое пятно, с самого рождения.
– Да она сама говорила, что на нее набросился один и… – В нем все клокотало, ярость подавленной ревности рвалась на волю.
– Коли не хотите жениться, можете уходить. – Анна осталась непоколебимой. Все было ложь и шантаж, но она по опыту знала, что такими средствами добьешься большего, чем прямотой и кротостью.
Лайнцкий заповедник представляет собой открытую местность, горбатый холм с лесами, лугами и лесными дорогами, пусть обнесенный каменной стеной с запирающимися на ночь воротами, но все же достаточно просторный для экскурсий и прогулок. Заблудиться здесь невозможно, на всех дорогах указатели. По воскресеньям заповедник наводнен туристами, но на неделе там полная тишина, и когда неторопливо бредешь уединенными лесными тропами, то может случиться, что вдруг, всплескивая треск ветвей, мимо промчится могучий олень. Или замедлишь шаг у края поляны – и вдруг увидишь молодую косулю с изящной короной рогов над бесконечно грациозной кроткой и гордой головкой. Косуля замирает и, втянув ноздрями воздух, отворачивает чуткую умную мордочку от грубого и шумного, дурно пахнущего чудища о двух ногах, но страха по-настоящему не испытывает, ибо знает, что здесь она под защитой. Медленно и надменно она исчезает в кустарнике, и кажется, слышишь голос из сказки: «Кто из моего копытца попьет, косулей станет…»
Но легче косуле обернуться ангелом, чем кривоногому кряжистому существу, узловато вывихнутому под тяжким грузом бытия, стать косулей, созданием столь легким и шелковисто-ускользающим.
Впрочем, урод на краю поляны и не сумел бы оценить красоту животного, он думал лишь о том, что здесь, на беду, нельзя устроить западню, потому что по лесу непрерывно кружат лесничие на велосипедах.
У Кутиана рот наполнился слюной при мысли о нашпигованном, с подливкой, жарком из косули. Он, конечно, сумел бы соорудить из проволоки какую-никакую петлю, но косуля была слишком велика. Вот маленького кабаненка можно было бы спрятать под плащом и перебросить через стену в подходящем месте, после чего с невинным видом выйти из ворот и уж потом незаметно забрать свою добычу. Конечно, тут нельзя использовать обычную проволочную петлю, нужен настоящий капкан, который убивает насмерть, потому что кабанята пронзительно визжат, а уж если кабаненок заверещит, то и все стадо бросится наутек, фырча и хрюкая, и глухое топотанье их коротких, прямых, как чурбачки, ножек услышат сторожа и прикатят на своих велосипедах раньше, чем он успеет перерезать горло пойманному зверю, припрятать дорогой капкан и дать тягу.
Неволя зверей здесь была легка, а вот свобода человека, эта сомнительная свобода беспрепятственно подыхать с голоду, была мучительна. Людей все-таки чересчур много, гораздо больше, чем зверей, которые попадаются все реже. Люди – это не редкость, во всяком случае такие, как Кутиан, – чего уж в нем редкого.
Эта мысль вновь вернула Кутиана к убожеству его жизни. Мицци начала становиться редкостью. Она больше не хотела его. Это приводило его в ярость, особенно потому, что он никогда не находил в себе мужества, чтобы применить к ней силу. Поймать бы эту дылду, с ее холодными глазами, с ее высокомерной белой плотью, да в проволочную петлю, чтоб она не могла оказать сопротивления, не то сама же и удавится… а уж тогда, вот тогда-то!..
Его глаза блестели. Дрожащими от вожделения, но послушными жестокой воле осторожными руками он расставил смертоносную ловушку в зарослях на кабаньей тропе и залег в засаде. Этот капкан он украл со склада у одного торговца железным старьем, очистил от ржавчины и починил. Для его намерений капкан вообще-то был великоват.
Но он слишком мало смыслил в браконьерстве и устройстве ловушек. Звери как будто чуяли его, или что-то их предостерегало, они прибегали издалека, топоча в подлеске, и уже, казалось, слышно было, как они фыркают, но вдруг все стихало, а затем они поворачивали и убегали прочь. В конце концов Кутиан начал опасаться, что лесничие, совершая объезд леса, прикатят сюда и в чем-нибудь его заподозрят. Такие как он всегда подозрительны людям их склада. Он решил уйти и вернуться часа через два. Но когда он вернулся, на дороге, как раз недалеко от места, где был капкан, стоял один из служащих заповедника, и потому Кутиан медленно прошел мимо. Он почувствовал, что лесничий смотрит ему вслед, а едва он с невинным видом прошел сотню шагов, как бы гуляя, блюститель обогнал его на велосипеде. Он проехал вперед до просеки, там развернулся и покатил обратно, и, проезжая, бросил на Кутиана пристальный взгляд.
Уж не нашли ли они капкан? Кутиан испугался и, обозленный, ушел из леса.
На следующий день он снова пришел на старое место, но капкана не было и в помине. То ли капкан обнаружили и забрали, то ли он все-таки плохо запомнил место. А может быть, здесь, где-нибудь в чаще, прячется сторож, чтобы схватить его с поличным. Кутиан вытащил бумажный стаканчик и, притворившись, будто собирает землянику, обшарил все вокруг. Но с каждым разом, как ему снова казалось, что он наконец нашел то место, он чувствовал все более сильные сомнения в своей способности ориентироваться, и в конце концов сдался. Капкана, который он так ловко украл и так умело привел в порядок, нигде не было.
Наверное, кто-то другой с помощью его капкана скоро разживется жирным куском к обеду. При этой мысли Кутиан страшно озлобился, но никакого продолжения она пока не получила.
Мальчику исполнилось пять лет, и сообразно своим малым силенкам он пока что не уходил далеко от дома в своих разведывательных походах. Зоопарк он тогда еще для себя не открыл. С некоторых пор бабушка всегда брала его с собой на холм, где могла присматривать за ним, не покидая своего места за прилавком.
Однако в тот день он из чистого упрямства воспользовался благоприятной возможностью убежать домой. Ему с самого начала хотелось остаться дома и изводить мать непрерывным плаксивым нытьем, пока она не согласится поиграть с ним. Мать болела, что в последнее время бывало часто. Болела – это значило, что она в странной апатии лежала на кровати и не реагировала ни на ругань, ни на уговоры бабки. Когда она находилась в таком состоянии, отец делался для нее мишенью, прыгунчиком-дергунчиком, приводимым в движение нехитрым механизмом, вроде тех жестяных фигурок, что можно видеть в тире. Изредка она безмолвно била по мишени взглядом своих круглых глаз, и та, как заколдованная, застывала на месте, опрокидывалась, принималась бормотать что-то невразумительное или даже проливала слезы от пьяной чувствительности, а потом, издав последний замирающий скрежет, умолкала. Недаром мать часто называла отца «жестяным болваном из тира». Добившись таким способом, чтобы ее оставили в покое, она опять впадала в апатию. Ее взгляд скользил прочь от Кутиана, в лице появлялось что-то зыбкое и расплывчатое, и она погружалась в себя. Кутиан в ответ на это снова принимался греметь пустыми бутылками, громко ругался и бросал на нее вызывающие взгляды. Если она не обращала на него внимания, он вопрошал тоном повелителя: что она, с ума сошла? Что она, за дурака его держит? Все сплошь вопросы, после которых, в сущности, должен стоять восклицательный знак, но, поскольку мужество в последний момент ему изменяло, после вопросов все-таки наскоро ставился смиренно-умеренный знак вопроса. Если бы все шло по воле Кутиана, он наорал бы на нее, может быть, даже избил. Но не по воле Кутиана все шло. И все в доме это знали.
Маленький Йозеф из всего, что происходило между этими людьми, понял только одно: отец боится матери. А так как он всем сердцем желал отцу именно столь незавидного положения, то любил мать в такие минуты особенно сильно. Он прижимался к ней, надоедал нытьем и всячески показывал отцу, как много мать ему спускает, потому что в ее присутствии отец не осмеливался его ударить.
Чаще всего сцена кончалась тем, что Кутиан, кипя от злобы, уходил из дому и где-нибудь напивался. А мальчик тогда пробирался к матери. Он прижимал рахитичный животик к краю кровати, капризничал, клянчил, нетерпеливо топал ногами или дергал мать за волосы. В сущности, в его выходках и настырной неотвязной надоедливости выражало себя глубочайшее безутешное одиночество, и, если обычно он в отношениях со всеми остальными упрямо отстаивал свое право на это одиночество, как на собственность, от которой не отдал бы ни крошки в угоду чужому любопытству и назойливости, то здесь, перед своей матерью, все дальше и дальше удалявшейся в белую пустоту, он чувствовал: ее безучастность была одинокой, как заснеженная вершина над зеленой равниной, его же одиночество, напротив, было не привилегией или собственностью, а бременем глухой безутешной черноты. Столь резко различались белое одиночество больной, которая никого не любила, и черное одиночество того, кого никто не любил.
Вообще он презирал случайные проявления доброты взрослых, которые при этом держались так, будто оказывали ему милость. Но материнской доброты он жаждал. Каждое слово матери, каждый взгляд он впитывал с жадностью, и, если она снисходила до того, чтобы поиграть с ним, на него нападало своего рода буйство чрезмерности, он визжал и кривлялся как клоун – так страстно он желал понравиться ей и проломить эту ненавистную белую стену, которая все больше и больше разъединяла их. У него было совершенно правильное ощущение, что она постепенно замерзает, и он удваивал свои лихорадочные усилия, лишь бы заставить ее вернуться, и иногда ему, и только ему, это ненадолго удавалось.
Правда, бабка прогоняла его еще ревностней, чем ревнивый отец, потому что считала мать больной и нуждающейся в покое, но ему-то было лучше знать: мать вовсе не больна, у нее нет жара, как бывало с ним, когда он, достаточно редко, болел. Наоборот – она становилась все холоднее.
В тот день бабка, насилу одолев упрямство Йозефа, увела его с собой на холм, однако вскоре он ухитрился от нее удрать и медленной рысцой побежал домой по бетонным плитам тротуара между однообразных аккуратных домов нового квартала и круглоголовых стриженых кленов. Зной изнурял до бессилия, но, как все, кто рано свыкся с обыденностью мучений и трудностей, этот пятилетний ребенок стоически переносил гнетущую предгрозовую духоту, укусы мух, палящее солнце, тупую боль в усталых ногах и с равномерной скоростью бежал вперед, ни о чем не думая. Пока о них не думаешь, усталость, трудности, зной, голод или мороз почти не ощущаются, нужно только не давать себе даже минутной передышки, когда сразу начинаешь чувствовать разницу, и нельзя сбавлять темп, иначе дорога будет тянуться бесконечно.