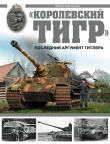Текст книги "Королевский тигр"
Автор книги: Джинни Эбнер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Чувства доктора были вышколены так, что немедленно доносили мозгу обо всем, что могло иметь отношение к врачебным обязанностям.
– Что случилось? – спросил он, подойдя.
– Малыш спрыгнул с барьера и расшибся, – ответил кто-то.
Клингенгаст протолкался вперед и снял шляпу перед сторожем:
– Я врач.
Мальчик был бледен, но не плакал и не стонал, он только уставился на сочувствующую публику и врача неподвижным и мрачно-угрюмым взглядом своих раскосых желтоватых глаз.
– Думаю, ничего страшного, – сказал сторож. – Но все-таки будьте так добры, пойдемте со мной, надо посмотреть, нет ли перелома.
Они втроем вошли в квартиру служителя. Мальчика уложили на кровать, и едва врач взялся за его щиколотку, он немедленно попытался оказать сопротивление и начал лягаться.
– Ну-ка лежи спокойно, – велел Клингенгаст. – Сейчас все пройдет.
Он вправил вывихнутый сустав, затем сказал с одобрением:
– Молодец! Даже не вскрикнул. Ну что, все еще больно?
Мальчик презрительно фыркнул носом и не ответил. Врач начал бинтовать щиколотку бинтом из аптечки служителя.
– Это ваш мальчик? – спросил он.
– Нет. Я вообще не знаю, чей он. Иногда он помогает мне тут, у зверей.
– Как тебя зовут? – обратился врач к ребенку.
– Йозеф.
– Йозеф, и все? А может быть, у тебя все-таки есть еще и фамилия?
Предполагалось, что этот вопрос прозвучит шутливо-иронически, однако ему почти никогда не удавался такой тон, ни с детьми, ни с пациентами определенного типа, которые…
Мальчик злобно-насмешливо прищурился на него. Потом, с ухмылкой обернувшись к служителю, как бы заговорщицки привлекая того на свою сторону, сказал:
– Ишь чего придумал!
Однако у служителя и в мыслях не было потрафлять подобным затеям. Он взглядом осадил мальчишку, и тот, почувствовав отпор, наконец соизволил ответить:
– Йозеф Кутиан меня звать.
– Кутиан, вот как? Кутиан. А где ты живешь? – Клингенгаст внимательно разглядывал мальчика и словно бы что-то обдумывал.
– В Лайнце. За шлагбаумом. Наш переулок теперь никак не называется, потому что там все снесли. Кроме нашего дома.
– Это в квартале между железнодорожными путями и домом престарелых?
– Ну да.
– А ведь это далековато отсюда?
– Ничего не далековато!
– Мальчику сейчас лучше не ходить, – сказал Клингенгаст служителю. – Я отвезу его домой на машине. Вероятно, мне разрешат подогнать машину сюда, на территорию, чтобы забрать пациента?
– Конечно! – сказал служитель. – Вы и правда не откажете в любезности? Я был бы очень вам признателен, я, понимаете ли, отчасти чувствую себя ответственным за парнишку. Ну что, Йозеф? На машине поедешь! Сейчас я позвоню на главный вход и предупрежу контролера, он вас пропустит.
Разом примолкшего и присмиревшего, взволнованного предстоящим небывалым приключением малыша отнесли в машину. О боли в ноге он совершенно забыл.
Ехать на машине и правда показалось совсем не так далеко, как обычно, когда мальчик всю дорогу трусил неторопливой рысцой, нигде не останавливаясь. Они переехали через железнодорожные пути, по правую руку перед ними вырос за шлагбаумом новый городской квартал с высокими жилыми домами и зелеными газонами, но слева, не доезжая до пустыря, на месте будущей строительной площадки стояло нечто вроде легкого павильончика, в котором был молочный магазин, а сразу за ним показалась приземистая и скособоченная, полуразвалившаяся лачуга.
– Вот здесь, – мальчик указал как раз на обветшалый домишко с большими пятнами плесени по грязно-желтой штукатурке и узкими, глубоко посаженными оконцами, которые, подобно ввалившимся глазам, темнели на дряблых стенах. Широкие деревянные ворота со старинным символом солнца на створках вели внутрь без крыльца или ступенек, открываясь в прохладную, мощенную камнем подворотню, которая из-за полного отсутствия света походила на пещеру и дохнула навстречу вошедшим неописуемой смрадной смесью – запахами отбросов, гнили, кухонного чада и сырой земли. Мальчик заколотил кулаком по железной двери справа от входа, которая была не заперта и, вздрогнув, поддалась под ударами. Дверь открылась в беспросветно темную прихожую, размерами не больше чем два на два метра, и из этой каморки они, толкнув деревянную дверь, прошли в узкую кухню, куда через маленькое оконце проникало достаточно света, чтобы беспощадно обнажилось все ее убожество. Врач окинул беглым взглядом старую кафельную плиту с открытой вытяжкой, несколько полок, завешенных грязной матерчатой занавеской с красными цветами, мужской башмак с коркой засохшей глины, стоящий посреди кухни на кирпичном полу, будто севшая на мель лодка, множество пустых бутылок и всевозможный хлам, который, судя по виду, был подобран на свалке и кое-как приведен в порядок.
Проем без дверей вел в следующую комнату. Мальчик заковылял туда, и врач, пройдя следом и остановившись у входа, с легкой брезгливостью заглянул в помещение, которое, видимо, служило для семейства спальней: сырая квадратная комната с тремя грубо сколоченными кроватями и всего одним стулом, со столом и шкафом, дверца которого не закрывалась, так как шкаф был о трех ножках и угрожающе кренился.
На одной из кроватей приподнялся мужчина и проворчал хриплым голосом:
– Ну что там еще?
– Я расшибся! – объявил мальчик тоном упрямой самообороны и в подтверждение приподнял перевязанную ногу.
– Паршивец, – буркнул мужчина и, с натугой наклонясь, пошарил под кроватью. В следующий миг второй грязный башмак полетел через комнату в мальчика, но тот проворно пригнулся, и башмак ударился о стену.
– Послушайте-ка, ваш сын… – начал доктор.
Но мужчина, определенно пьяный, перебил:
– Сын, сын! Не мой он, не от меня! – Остальное потонуло в невнятном рычании и протяжном зевке, тут же перешедшем в негромкий храп. Мальчик, по-видимому, ничуть не испугался злобной вспышки отца. Как ни в чем не бывало он, прихрамывая, подошел к кровати и вдруг, остановившись на предельно возможном безопасном расстоянии, быстро нагнулся, резко ткнул спящего кулаком в бок и крикнул:
– Где бабушка? Эй, отец, ты что, не слышишь? Бабушка где?
Мужчина очнулся, злобно двинул кулаком в сторону мальчика, который спокойно и ловко уклонился от удара, и пробормотал:
– В саду. Откуда мне знать… – И снова захрапел.
Мальчик вскрабкался на стул, стоявший под оконцем у дальней стены, и выглянул наружу сквозь прутья решетки.
– Бабушка! – закричал он, и, спустя несколько секунд, снова: – Бабушка! – Но эти призывы были чисто теоретического свойства, он определенно не ждал отклика, потому что знал, что отклика быть не может. – Она плохо слышит, – объяснил он гостю происходящую церемонию. И то ли в порядке доказательства, то ли чтобы непременно исполнить весь ритуал, ничего не упустив, еще раз крикнул: – Бабушка!
Потом он слез со стула и опять повел врача через узкую кухню, темную прихожую и мощеную подворотню, но на сей раз еще дальше, во двор. И там вдруг разом сгинули все ужасы нищеты, и грязи, и безнадежности городской трущобы, и оказалось, что символ солнца на воротах все-таки не обманул.
Потому что за домом, чей конек походил на хребет заезженной клячи, с торчащими чуть не сквозь крышу стропилами и балками, между которыми, как обвисшая конская шкура, провисала сивая дранка, – за домом лежала полоска земли с двумя-тремя кочанами капусты и помидорными грядками вдоль пригретой солнцем стены, с зелеными листьями салата, и даже длинные ползучие стебли тыкв раскинулись здесь на холмике над бывшей навозной кучей. Посреди садика низко склонилась к земле выцветшая груда ветхого тряпья, побуревшие грубые руки пололи сорную траву.
И вот она распрямилась и посмотрела в сторону окна. Ее лицо было худым и широким, очень широким. Как замшелый камень среди полей, покоилось оно на постаменте прямых еще, широких плеч. Но все-таки она была старая и заезженная. Ее груди, бесформенные, как пустые мешки, обвисли над заметно выдававшимся вперед животом. Так, недвижно, простояла она несколько долгих секунд – памятником окаменелому безразличию. Ее глаза смотрели на доктора, который вместе с мальчиком шел через сад со стороны подворотни, – без удивления, без робости, без любопытства. Глаза были серые. Но в выражении было сходство с глазами мальчика – ее безмолвная издевка, ирония той, кому уже нечего терять, а значит, нечего бояться, ее издевка была состарившейся и почтенной, окаменелой формой той же издевки, которая в желтых хищных глазах ее внука еще не утратила способности вспыхивать непокорством и злостью.
– Бабушка, я расшибся! – с торжеством в голосе объявил мальчик и снова помахал своим доказательством – забинтованной ногой.
– Малыш вывихнул ногу, – пояснил врач.
Она молча вытерла руки о передник и надвинула на лоб край сбившегося платка.
– Ему следует лежать в постели, и еще делайте ему компрессы с уксуснокислым глиноземом.
– Вот оно что! – произнесла она с угрюмым осуждением. Затем она неловко и широко перешагнула через грядку с капустой и стала на плотно утоптанной, узкой, едва позволявшей поставить ногу тропинке, сняла передник, отряхнула его и снова повязала.
– Кстати, малыш ни в чем не провинился, – поспешил Клингенгаст уберечь своего подопечного от новых пинков или летающих по воздуху предметов.
Лицо старухи обратилось к мальчику. Ее взгляд словно говорил: «Этот-то? Уж в чем-нибудь наверняка провинился».
– Отец что, не спит? – спросила она однако без гнева, скорей с досадой, – так, как, бывает, рассеянно спрашиваешь, идет ли дождь, а тем временем в лицо уже бьют первые крупные капли.
«Какие они странные, – подумал Клингенгаст. – Всегда все делают и говорят с таким видом, будто понимают, что это совершенно бессмысленно, но, видимо, они чувствуют, что нужно что-нибудь делать и говорить, раз уж ты живешь на белом свете».
– Спит, – ответил мальчик и для иллюстрации изобразил храп.
– Этот господин говорит, что ты должен лечь в кровать.
– Этот господин – господин доктор! – пронзительно крикнул мальчик и ни с того ни с сего бросился на старуху, захрапев и дико размахивая руками, будто хотел ее избить. – А я на машине приехал! Вот тебе!
Она привычно замахнулась, чтобы дать ему подзатыльник, но раздумала, тем более что мальчик все равно уже отскочил на безопасное расстояние.
– Иди, ляг там с отцом. Но смотри не разбуди его.
Как ни странно, мальчик послушался сразу же. Наверное, после истерических прыжков нога у него опять заболела, а может быть, ему расхотелось оставаться тут с бабкой и доктором. Не попрощавшись, он, сильно хромая, ушел в дом.
Врач сел на узкую скамью, которая стояла возле задней стены дома на двух уже подгнивших снизу чурбаках. Старуха медленно подошла, шаркая ногами, и села рядом.
– Уксуснокислый глинозем, – повторил он, цепляясь за спасительные профессиональные знания, которые давали ему превосходство, потому что на него вдруг напала странная и совершенно беспочвенная неуверенность в себе. – Я напишу вот здесь название, а получить его можно в любой аптеке. – И, так как она промолчала, добавил: – Делайте компрессы, и, если возможно, пусть он несколько дней посидит спокойно.
– Он-то да чтоб сидел спокойно! – сказала она наконец, сунула записку в карман передника и снова замолчала.
Здесь, за домом, вообще была удивительная тишина, почти деревенская, – в самом центре густонаселенного городского квартала с громадами жилых домов, автобусами и кафе. Потом на этот остров тишины вторгся шум. Откуда-то совсем издалека донесся вой сирены скорой помощи, но ее надрывный вопль замер, как будто все здесь в саду принималось не слишком всерьез, даже то, что кто-то сражен болезнью и, может быть, его увозят умирать в расположенный поблизости приют для стариков.
Ветер подхватил с земли несколько сухих стебельков и, помедлив, снова уронил на землю. На бывшей навозной куче в переплетениях колких ползучих стеблей звездой горел желтый цветок тыквы. Этот клочок возделанной земли был окаймлен рядком красных и желтых деревенских цветов – анютиных глазок, примул и крокусов, которые ярко пестрели на фоне глухой стены соседнего четырехэтажного дома. Старуха сидела рядом с доктором неподвижно, застыв в молчании. Как странно, что эта каменная глыба старости и безрадостного бытия развела цветы!
Ему очень хотелось расспросить ее кое о чем, но ее молчание, такое негостеприимное на этом принадлежащем ей и ею возделанном клочке земли, вселяло в него робость.
Внезапно она повернула голову, и он увидел ее лицо совсем близко. Она смотрела на него. Тонкие, ожесточенно сжатые губы чуть изогнулись в скупой, хитроватой, беззубой улыбке, как будто она знала что-то, о чем он не мог даже догадываться. Он растерянно улыбнулся в ответ. Потом встал и, прощаясь, снял шляпу.
– Итак, делайте компрессы, – опять смущенно повторил он. – Все не так страшно, как кажется.
– Вы так думаете? – Ее слова прозвучали с потаенным лукавством, язвительно. Но она тут же добавила почти добродушно: – Все вывихнутое когда-нибудь вправляется, господин доктор.
«Странная особа, – подумал Клингенгаст. – Прямо скажем, чудаковатая. И малыш, он тоже не вполне нормален».
Бабка осталась сидеть на скамье. Она задумчиво собрала с платья мелкие бурые соломинки, отсохшие ошметки, которые обычно цепляются за нас, когда мы, проходя мимо, касаемся засохших ветвей. Ее лицо чуть разгладилось за то время, что она праздно просидела в саду на предвечернем солнце. То было изжелта-смуглое лицо с тонкой и частой, как паутина, сетью морщин, которые, однако, нимало не портили его крепкую сухую лепку, – не отмеченное судьбой простоватое лицо старой крестьянки, для которой давно слились в мистическое единство рождения и смерти, солнце и град, счастье и горе.
Она была родом из провинции, одной из тех деревушек, каких множество в Бургенланде, в которых только и есть, что мучнистый проселок вдоль прудов и ручья, два ряда белых домов, соединенных друг с другом полукруглыми арками ворот и обращенных к улице узкой торцовой стороной, да еще белый ряд неспешно переваливающихся откормленных гусей посреди улицы. Образ одной из таких деревень все еще оставался для этой старой женщины тем, что зовется родиной, хотя она не была там уже добрых пятьдесят лет.
Четырнадцатилетней девчонкой она приехала в Вену и поступила на место прислуги. «Тогда этого доктора, молодого парня, еще и на свете не было», – подумала она. И усмехнулась язвительно, как будто бы то, что она настолько старше и оставила позади настолько больший кусок жизни, давало ей тайное преимущество перед ним.
Анна прослужила у хозяев пятнадцать лет, откладывая каждый грош. И спустя пятнадцать лет она одевалась все так же по-крестьянски, носила нижние юбки, сапоги и передник, повязывала голову платком, а зимой накидывала поверх всего черную шерстяную шаль, доставшуюся ей от матери. Пальто у нее никогда за всю жизнь не было.
Она была довольно высокого роста, с толстой косой, со свежим белозубым ртом, ярко-алым на желтовато-смуглом лице. В двадцать лет она обручилась с одним парнем из рабочих и сразу же привела его показаться хозяйке, после чего он получил разрешение приходить по воскресеньям и пить кофе вечером у нее на кухне. Каждый выходной день Анны они ходили гулять в Пратер или на Каленберг[1]1
Пратер – венский увеселительный парк; Каленберг – высокий холм на окраине Вены, с которого открывается красивый вид на город, излюбленное место прогулок венцев. – Прим. перев.
[Закрыть] и тогда изредка целовались. Ничего больше ему не перепадало, ведь в те времена еще не было принято, чтобы парню до свадьбы перепадало что-то большее, и она ничуть об этом не жалела. Она принимала его ухаживания, но без большой страсти, просто потому, что был он порядочный и трезвый человек, а когда-нибудь надо ведь замуж выходить.
Шло время, ей минуло двадцать пять, а там и тридцать лет.
Как пестрые картинки волшебного фонаря, явилось несколько сцен прошлого, каждая из которых стала в ее жизни решающим поворотом.
И самой первой – рынок. Вот она стоит, в платке и переднике, с тяжелой корзиной в руке, между прилавков, заваленных грудами ощипанных кур, среди коробов переложенных паклей яиц, среди горок зеленого салата и корзиночек, доверху наполненных абрикосами, красными яблоками и сливами. И внезапно на нее нахлынуло такое же чувство, как когда-то дома, когда она поднимала голову, разогнувшись над грядками репы и от длинной, залитой солнцем белой дороги в глазах рябило и мельтешило, а она все смотрела, смотрела, пока не начинала вдруг с каким-то изумлением осознавать самое себя, – вот она здесь, на коленях, возле этой дороги, неподвижная как камень, а дорога бежит и бежит вдаль, пританцовывая, подпрыгивая на невысоких подъемах, все дальше бежит в бесконечность.
Это же чувство нахлынуло на нее и теперь: она стоит тут, посреди рынка, словно сто лет назад вот так, стоя, заснула, а растут и меняются только краснобокие яблоки и сизовато-зеленые кочаны. Вокруг все цветет, зреет и увядает, она же, и только она одна, все так же неподвижно стоит на месте.
«Малохольная она», – так иногда укоризненно говорила ее милость хозяйка.
Она стояла на дороге у людей, и в конце концов случилось то, что и должно было случиться – в рыночной толчее кто-то налетел с размаху на ее корзину, и лежавшее с самого верху красное яблоко покатилось на землю. Она встрепенулась, очнувшись от мечтательного забытья, неловко наклонилась, чтобы поднять яблоко, и тут из корзины покатились кочаны капусты, а следом запрыгали лиловые луковицы.
Растерявшись, она поставила полупустую корзину на землю, присела и начала подбирать овощи из-под ног равнодушно спешащих мимо людей. Вот только красного яблока было не достать – оно укатилось далеко, к двум невообразимо элегантным остроносым светло-желтым мужским туфлям, которые едва о него не споткнулись.
– Иисусе! – прошептала она и на коленях поползла вперед, к яблоку. И тогда до уровня ее глаз опустилась голова с напомаженными и блестящими черными волосами, с белым как молоко, немыслимо ровным пробором, и изящная мужская рука с золотой печаткой на длинном указательном пальце подхватила яблоко, подняла – и вдруг не стало красного яблока! Но так же неожиданно оно прыгнуло сверху в ее корзину, которая по-прежнему стояла рядом с нею на мостовой, и ее слуха достиг голос, напомаженно-мягкий и ласково шелковистый, как те черные волосы.
Она не поняла, что сказал ей этот голос, подняла глаза и увидела густые черные усы, какие и у нее на родине носили молодые парни, и тогда она немножко осмелела, хотя во всем остальном заговоривший с нею был благородным господином, от желтых туфель до белой полоски пробора. Она изумленно уставилась на него и в смятении едва сумела пробормотать спасибо.
– Встань, прелестное дитя! – сказал господин доброжелательно. Она торопливо поднялась с колен, в полной растерянности. Он отряхнул перчатками, которые держал в руке, пыль с ее передника, и тут словно по волшебству еще два краснощеких яблока прыгнули из ее широкого подола прямо в корзину.
Оторопев, она хлопнула себя левой рукой по щеке – жест, которым у нее выражался испуг или внезапное изумление, – тогда как раскрытый рот оставался безмолвным, ибо путь от переживания до внятно произнесенного слова лежал неблизкий и извилистый, а ей на самом деле была свойственна не мечтательная рассеянность, а крайне замедленная реакция, отчего она и не могла одолеть этот путь, отчего и остался у нее, как его сокращенное обозначение, лишь этот безмолвный жест.
Потом, все так же молча, с горящими щеками, опустив густые светлые ресницы, она семенила рядом с желтыми туфлями, в то время как благородный господин, к ее глубочайшему смущению, нес корзину и говорил без умолку, будто водопад.
И еще прежде, чем она успела прийти в себя настолько, чтобы наконец тоже хоть что-то сказать, вдруг оказалось, что она стоит перед виллой на Ягдшлоссгассе, с корзиной в одной руке и контрамаркой на вечернее цирковое представление в другой. А усатый элегантный господин легкой упругой походкой удаляется и исчезает за углом.
И всегда-то она где-нибудь стояла, иногда на коленях, неподвижная как камень. Жизнь, пританцовывая и мельтеша, проносилась мимо, она же стояла на месте со своими круглыми глазами и оторопело-безмолвно раскрытым ртом. По крайней мере, так было, пока она оставалась молодой, – а молодой она оставалась до одного совершенно определенного дня, потом же минула ее молодость за одну ночь, – молодой, и глупой, и оторопелой, как гусыня, которую подхватили под крылья, чтобы унести и зарезать.
Что было дальше, точно вспомнить теперь уже не удавалось, да и тогда, давно, все расплывалось в чаду и дыму его колдовских фокусов и в тумане счастья, которого сегодня старуха уже не могла понять и только, укоризненно качая головой, припоминала – была она у тех двоих, молодых в те времена: любовь. Любовь? Ох, глупая она гусыня!
Но одна картина глубоко врезалась в ее память и осталась по сей день более реальной, чем соблазнившее ее ослепительное горячее счастье, уже утратившее силу за давностью лет.
То была раковина для посуды в прекрасной светлой кухне того дома, где она служила, с золотым латунным краном, который она все пятнадцать лет по субботам нежно чистила сидолом. Потому что колдовство текущей во всякое время воды, чудо, которое вызывалось простым движением руки и так же, одним движением, прекращалось, было для нее одним из великих чудес городской жизни, – ведь еще семилетней девчонкой она таскала от деревенского колодца тяжелую бадью, и ей, от тяжести скособочившейся и пошатывающейся, плескалась в деревянные башмаки холодная вода. Горячая и холодная вода без забот, сидол и мыльные хлопья, сияние чистой посуды и блеск латуни, – они наполняли ее жизнь красотой и радостью. Мытье посуды она считала праздным и радостным послеобеденным занятием, в точности так же, как ее милости хозяйке нравилось в часы досуга вязать из ниток тонкую паутинку звездочек.
Но в тот особенный день, наклонившись над мирно дымящейся водой, оставшейся после мытья посуды, она увидела плавающие на поверхности ошметки овощной кожуры, жирный пар ударил ей в ноздри, вдруг подкатила к горлу тошнота, и в ту же минуту она поняла, что с ней такое. Да, это был позор, однако позор, какой случается сплошь да рядом и от которого еще никто не умер.
Вечером, когда пришел жених, у нее было заплаканное лицо. Он вот уже несколько недель как заподозрил неладное, потому что у нее не находилось времени для него, а если они все-таки оставались вдвоем, она не знала, о чем с ним разговаривать. И теперь он без труда добился у нее признания. Сперва он обругал ее, потом разревелся, а под конец полез к ней. Но она так резко очнулась от прежней своей малахольности, что поняла, хоть и не имела ни малейшего опыта в подобных делах: если уступлю, то, пожалуй, заставлю его жениться. Но вдруг она разозлилась оттого, что кто-то, кто вовсе не был ее соблазнителем и до сих пор вообще ни на что не осмеливался, теперь, когда она попала в беду, вздумал ее соблазнить. Не сознавая ясно почему, она почувствовала отвращение к этому шакалу, кравшемуся следом за хищным зверем, чтобы подъедать остатки. Ее отпор привел его в такое бешенство, что он забылся и начал орать, и на крик явилась ее милость хозяйка, и вся история вышла наружу. Впрочем, раньше или позже это все равно случилось бы.
Ее уволили, дав неделю отсрочки.
Первым делом она попыталась разыскать фокусника, но у того не было времени, чтобы выслушать ее, – до начала представления не оставалось и минуты, а она была не способна придумать и произнести вслух связную фразу даже за пять минут. На свидание, которое он, лишь бы отделаться, назначил ей на следующий день, он не пришел. И она поняла, что ей придется самой о себе заботиться. На другое утро, еще до истечения предоставленного ей срока, она, решившись разом кинуться с головой в необратимый поток, покинула дом и ушла со своим узелком и сберкнижкой. Она чувствовала в себе растущие силы, которых должно хватить, чтобы сделать возможным все, что необходимо.
Искать новое место не имело смысла – через месяц-два все станет видно, и ее снова выгонят. Она вышла на окраину, поднялась на открытый ветрам холм позади последних домов городского квартала и села там в траве, выбрав такое место, чтобы сверху смотреть на огромный остроконечный шатер бродячего цирка.
Она принялась размышлять, и на это ушло немало времени, ибо таким занятием ей никогда раньше не приходилось утруждать себя при тогдашней наполненности и прочности ее жизни.
Старуха – хозяйка деревянной лавчонки, в которой она летом продавала сласти и прохладительные напитки, – вышла из-за прилавка и заговорила с Анной. Пока цирк находился в городе, она не закрывала лавку допоздна, ведь после представления еще можно было рассчитывать на покупателей. Вот и Анна со своим цирковым чародеем тоже раз или два заглядывали сюда. Сначала они распили у старухи бутылку пива, потом ушли подальше, в кусты. Сегодня она в первый раз была здесь одна. Старуха мигом смекнула что к чему, да и узелок с пожитками Анны говорил сам за себя.
Уже через час было принято доброе и разумное решение относительно ближайшего будущего Анны. Старуха жила в маленькой квартирке, и Анна заняла в ней сырую комнату со шкафом, перекошенная дверца которого уже тогда не закрывалась. Со временем она должна была встать за прилавок, так как старуха чувствовала, что уже слаба и не может вести дело в одиночку. Пока она еще жива, Анна будет за ней ухаживать, а потом ей достанется в наследство и лавка, и жилье.
Это было что-то вроде пожизненной ренты, которая могла принести выгоду им обеим.
Поздним вечером Анна повязала голову чистым платком и опять пошла в цирк, чтобы сообщить обо всем своему волшебнику. На самом деле ей не верилось, что он на ней женится, – такой элегантный господин, да к тому же фокусник! Она не могла по-настоящему взять в толк, как это ей выпала честь быть опозоренной таким человеком. Быть может, они сошлись благодаря легкому оттенку диалекта в его речи, – это был тот самый говор, которым отличалась речь Анны. Может быть, благодаря потускневшему воспоминанию о деревне с двумя рядами белых домов и одним – откормленных белых гусей вдоль ручья и о женщине в грубых высоких сапогах, в бумазейных нижних юбках, с широким, блестевшем на солнце смуглым лицом, которая была его матерью и жила в той деревне, находившейся, как и родная деревня Анны, в Бургенланде. Может быть, он поддастся, когда узнает, как много она скопила и что крыша над головой, постель и деньги на первое время ею обеспечены. Да только он, конечно, все равно на ней не женится, но уж от отцовства отказаться не сможет, и ей тогда не придется стать одной из тех, которые даже не знают, от кого заводят детей.
Так вот быстро учишься рассчетливости, так короток путь от мечты до реальности – мостик над бездной беды.
Ее сапоги неуклюже ковыляли через вытоптанный множеством ног цирковой луг, но – широкая ладонь в испуге взлетела и с размаху прижалась к щеке – большого шатра не было. В свете факелов и огней кругом стояли готовые к отъезду пестрые фургоны, люди выкрикивали друг другу какие-то команды, скатывали канаты, свет и тени метались по столбам, брезентовым полотнищам и клеткам.
Она почти ожидала чего-то подобного. Не может цирк вечно оставаться все в том же городе. На ощупь находя дорогу, она пробралась вперед между неведомых гигантов и диковинных предметов, споткнулась о железную цепь, протянутую над землей к деревянному чурбаку, потеряла равновесие, едва не ударившись животом о тележное дышло, и тут, ища опоры, взмахнула руками и ухватилась за жесткие железные прутья. Внезапно прямо перед ее лицом вспыхнуло два зеленых огня, в ноздри ударило смрадным дыханием, и вдруг раздались раскаты грозного рычания, перерастающие в яростный рев. Она отдернула руки от прутьев решетки, словно те были раскаленными, и, онемев от ужаса, с силой хлопнула себя ладонью по щеке. Потом в глазах у нее потемнело, сердце замерло, – она едва не потеряла сознание.
Но тут неведомо откуда появился фокусник, он высоко поднял фонарь и посветил, чтобы увидеть, кому это могло что-то понадобиться здесь, возле уже погруженных на повозки клеток с хищниками. Королевский тигр, злобно рыча, попятился в глубь клетки. В луче света его шерсть удивительно мерцала черным и золотым, и грозно блестели белые клыки. Тень тигра зигзагом скользнула вверх по прутьям решетки. На несколько мгновений весь мир словно обратился в непроглядно черную темницу, полную жути и ужаса, и золотые полосы тигра хлестали в ней, свирепо и с царственной мощью, ударами золотого бича.
Анна почувствовала странную тяжесть под коленями, вызванную не только страхом, – ибо к ужасу примешивалась сосущая сладкая слабость, непостижимая сладость, кружащая голову и увлекающая в кипучий водоворот. Она опустилась на сваленные грудой куски парусины и скорчилась, сжалась в комок, не в силах оторваться от злобных зеленых тигровых глаз.
И это тоже был тот самый момент, но на сей раз – пережитый с предельной остротой, миг изумленного самосознания, на сей раз – угаданный уже заранее. Отяжелевшая и вялая, она лежала как наполовину ушедший в землю камень посреди полей, со своей окаменело-оцепенелой душой и сердцем-камнем, что грузен и пуст, меж тем как земля продолжала свое вращение.
Его увещания, что тигр заперт в клетке и не сделает ей ничего плохого, прошелестели над ней, неуслышанные и непонятые. Ласковый голос стал наконец холодным и нетерпеливым. Тогда она пришла в себя и, опомнившись, подумала о своей жизни, своем положении, о том, что привело ее сюда, но все это теперь показалось ей словно бы чьей-то чужой судьбой, о которой она где-то прочитала равнодушно. Наверное, поэтому и слова ее не оказали никакого действия, ведь она отстаивала не себя, а некую Анну, которую знала когда-то давно. Он обещал, что скоро приедет опять, а там будет видно.
Она не поверила ни единому слову, но все это уже стало ей до странности безразлично. Она была одна со своей судьбой, далеко от него. Позже ей часто казалось, будто от королевского тигра ей что-то передалось, и это в последующие годы придавало ей сил, чтобы выстоять. Сперва учишься думать, потом – пускать в ход когти. Смирение, тихое, широкое, недвижно коленопреклоненное крестьянское смирение девушки-прислуги из далекой провинции, словно унесло ветром, и унесло навсегда.
Побуждаемая, пускай и не слишком сильным, чувством долга, она заботилась о старушке, у которой теперь жила, однако еще при жизни своей новой хозяйки сумела окончательно прибрать к рукам квартиру, патент на торговлю и складной прилавок. Когда появился ребенок, маленькая Мицци, она и ее стала бесцеремонно навязывать старухе, если у нее самой не было времени заниматься девочкой. Не горячась, с разумной сдержанностью она бранилась со старухой, порой держала ее в черном теле, порой, напротив, подкармливала, смотря по настроению. То были отношения из тех, что полны мелочной вражды и ненависти, и вынужденного лицемерного дружелюбия, и неизбежных жертв, отношения, при которых победитель и побежденный то и дело меняются местами и всякий раз победа используется для того, чтобы мелкими унижениями и неприятностями взять реванш за прежние поражения. Ибо нужда учит, когда просить, а когда и давить.