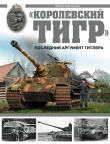Текст книги "Королевский тигр"
Автор книги: Джинни Эбнер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Джинни Эбнер. Королевский тигр
Тот мальчуган с большими светлыми глазами – он опять стоял в толпе зевак перед клеткой королевского тигра.
Служитель узнал его сразу же. Несмотря на то, что у этой жалкой фигурки была инстинктивная способность ничем не выделяться, теряться в людской массе, сливаться со стенами, вдоль которых он неприметно скользил, и тенью мелькать среди темных теней в аллеях, когда ближе к вечеру он убегал домой. Тот, кому не случилось поглядеть мальчишке прямо в глаза, наверняка и самого его не заметил вовсе. Служитель же однажды ненароком взглянул в эти глаза, а раз увидев, забыть их было невозможно. И хотя именно глаза привлекли внимание служителя, однако теперь выяснилось, что цвет их запомнился ему неверно – может быть потому, что раньше мальчик все время держался в тени, сегодня же, в этот солнечный, светлого золота день весны, он стоял на солнце, и оно светило ему прямо в лицо. Глаза оказались не темные, как думал служитель, а желтые. И зрачки были невероятно большие, черные блестящие кружочки на светлой радужке глаз.
У многих зверей, с которыми служитель в течение всего года имел дело чаще, чем с людьми, – ведь только в теплые месяцы толпа народу наводняла зоопарк, – глаза были желтые или желто-зеленые, прежде всего у птиц и у хищников. У людей глаза такого цвета были большой редкостью и привлекали внимание, а то и вызывали опаску, однако было бы смешно сравнивать тщедушного мальчугана с коварным жестоким волком, коршуном, леопардом. Не было в нем ничего похожего на царственность этих зверей, скорей уж он походил на многих других мальчишек-попрошаек, что живут в кварталах бедноты. Служителю невольно пришло в голову, что этот худенький мальчонка, наверное, был бы счастлив, имей он крышу над головой, вдоволь еды и постоянный уход, подобно королевскому тигру, который, судя по всему, вызывал у мальчика жгучее любопытство.
Он уже начал подумывать, не заговорить ли с мальчиком, не позвать ли, если тот окажется скромным и симпатичным, к себе, в служебную пристройку возле террариума со змеями и слоновника, не поделиться ли с ним обедом. Но мальчик стоял в самой гуще народа, со всех сторон стиснутый бесцветно-скучной массой посетителей, одевшихся сегодня по-воскресному нарядно и пришедших сюда погулять, насладиться весенним солнцем, зеленью парка, а заодно и тем приятным чувством, что появлялось при виде диковинных, здесь не опасных тварей, к которым они приближались с известным плебейским высокомерием, как цари и царицы всей Природы. Служитель не любил, когда люди смотрели на него с особым вниманием. Смотрел за всем он и только он, он был тем, кто присматривал здесь за всеми живыми тварями, которые, едва ли замечая его самого, уделяли внимание приносимой им пище – и то лишь в силу темного инстинкта голода, без благодарности, радости или недовольства.
Не любил он людей. С ними было скучно, ведь они не обладали тем ярким своеобразием, которое он находил у зверей, – они все как один были двуногими, прямоходящими, с шеями приблизительно одинаковой длины, с кожей более или менее одного цвета и вида, с одинаковыми, подстриженными под одну гребенку привычками, симпатиями, мнениями.
Он попробовал представить себе, что у респектабельной дамы, стоящей в первом ряду зевак, уши вдруг сделались подвижными, с кисточками на концах, как у рыси. По светлой жилетке толстяка, что стоял рядом с этой дамой, он мысленно провел яркие полосы, как у зебры. Маленькой розовощекой девчушке он прицепил бы на пробу розовый хвост фламинго. Но затем строгим взмахом руки служитель оборвал досужую игру своей фантазии, как бы перечеркнув творческий порыв. Все эти люди имели бы невероятно смешной вид, будь они наделены пышным великолепием зверей. И только того мальчишку с желто-зелеными раскосыми глазами на плоском личике эти хищно горящие огоньки ничуть не портили.
Вскоре толпа поредела, разочарованная и даже слегка обиженная тем, что тигр неподвижно лежал в своей клетке и ничего не выражающими глазами смотрел словно сквозь этих людей. Не ушел только мальчик. Служитель подошел к нему, указал на табличку над дверцей клетки и, поскольку было очевидно, что ребенок еще не умеет читать, пояснил:
– Это королевский тигр.
Мальчик робко кивнул.
– А других зверей ты уже знаешь? – спросил служитель.
– Я всех зверей знаю, – ответил мальчик. – Из моей книжки с картинками.
– Так у тебя, значит, есть книжка с картинками? И ты уже умеешь читать?
– Нет. Мне бабушка читает.
– И что же там написано про королевского тигра?
Мальчик вдруг с молниеносной быстротой отскочил, нырнул под цепочку, удерживающую публику на безопасном расстоянии от зверей, и вдоль самых прутьев решетки перебежал к другой стороне клетки.
– А вот и не скажу! – насмешливо крикнул он, снова проворно проскочил под цепочкой, ловко, как ящерка, юркнул в толпу зевак и с бесцеремонной настырностью расталкивая людей, проложил себе дорогу, обезьяньими гримасами отвечая на возмущенные возгласы: «Эй, нельзя ли поосторожнее!» или «Ну что за негодник!», а потом во всю прыть помчался прочь по каштановой аллее, только пятки засверкали, – кривоногий, крошечный, но полный кипучей энергии.
Служитель покачал головой и отвернулся.
«Дети, – подумал он, – странные они, дети. Уж если зажмут в лапах любимое лакомство, то никому на свете не отдадут ни кусочка и злобятся, если ты хотя бы просто посмотришь на них или подойдешь слишком близко, когда они что-нибудь грызут или обгладывают. И что там такое написано про тигра, в той детской книжке, о чем этот гном не хочет рассказать никому на свете?»
А потом он забыл про мальчика, до следующего воскресенья.
Но в следующее воскресенье, когда он снова увидел его в толпе перед клеткой, где мальчик стоял, наверное, уже целый час, лишь изредка переминался, перенося тяжесть с одной худенькой ножки на другую, и не сводил глаз с лениво развалившегося на земле тигра, любопытство служителя вновь ожило. Необъяснимая строптивость мальчугана пробудила в нем давно забытое желание – без применения силы преодолевать пугливость и злобу в другом существе.
Потому что когда-то в молодости служитель зоопарка был укротителем хищников и выступал в большом бродячем цирке с прославленным номером. Особенность его номера состояла в том, что на арену выходили звери разной породы, которые на свободе были заклятыми врагами, всегда готовыми растерзать друг друга. Вдобавок он работал без хлыста и пики, удерживая зверей в повиновении лишь силой своего взгляда и голосом, потому что во время выступления, ни на минуту не умолкая, что-то тихо говорил им. Как живо помнилось ему мощное напряжение всех сил, которое требовалось, когда, заметив легчайшее подрагивание шерсти на холке хищника, он тотчас же устремлял на взбунтовавшегося зверя повелительный взгляд, сосредоточив всю волю на безмолвном приказе, но при этом ни на секунду не ослабляя пристального внимания к другим хищникам и не выпуская их из своего мощного силового поля. Какой до изнурения трудной, но и насколько полной острых ощущений была его жизнь, когда он становился одновременно тигром и антилопой, медведем и слоном, коброй и грифом, и кем-то еще, во много крат большим, – центром, из которого в плоть каждой твари устремлялась непреодолимая воля и приказание, что поражало их и подчиняли всецело, властно, но без насилия.
Так неужели сегодня он не добьется послушания от одичавшего уличного мальчишки?
Он дождался полудня, когда любопытство толпы переключилось на более мирные объекты и она, не задерживаясь подолгу возле клеток, быстрее потекла в сторону ресторана. И тогда, направив на мальчика спокойный и твердый взгляд и вдруг словно помолодев на добрых десять лет, он по-цирковому горделиво выпятил грудь под служебной курткой и, поигрывая мускулами, подошел к мальчику.
– А ты не хочешь пойти поесть?
Он протянул руку. И тут случилось нечто удивительное. Мальчишка пригнул голову и неторопливо, но проворно увернулся, отступив на два шага, его верхняя губа приподнялась, он ощерил мелкие острые резцы и издал тихое предостерегающее шипение. На несколько секунд он замер – весь подобравшийся, готовый дать отпор и не отступить, твердо глядя желтыми глазами в глаза служителя. И вдруг сдался. Напряжение ослабло. Он ссутулился, отвел глаза и молча покачал головой.
– Хочешь пойти ко мне и выпить кофе с бутербродом? – спросил служитель, следя за тем, чтобы в его голосе не прозвучало что-то вроде просьбы.
Снова лишь слабое, но вздрагивающее от затаенного протеста отрицательное движение. Служитель пожал плечами.
– Ну, как знаешь. – Он отвернулся. Сзади послышался резкий шорох – оглянувшись, служитель увидел, что мальчик мчится прочь, высоко вскидывая пятки и поднимая фонтанчики пыли. Отбежав на такое расстояние, где он мог чувствовать себя в безопасности, мальчишка резко остановился, обернулся назад и принялся корчить служителю рожи. Он отплясывал неописуемый обезьяний танец, издавал какие-то дикие звуки, выкрикивал что-то насмешливое. Когда же служитель не погрозил кулаком, как того ждал мальчик, и не бросился за ним вдогонку, дразниться сразу стало неинтересно. Мальчик глубоко засунул руки в обвисшие карманы болтающихся над острыми коленками коротких штанов и медленно поплелся прочь, поддавая пыль босыми ногами. Потом вдруг пронзительно свистнул, нагнулся и, подняв камень, со всей силы швырнул им в каменную стену, отделявшую зоопарк от города и с молниеносной быстротой скрылся за воротами.
Служитель остался доволен тем, как прошел начальный этап приручения, потому что уже через два часа мальчик снова стоял перед той же клеткой. Ничего другого и не следовало ожидать. Завораживающая сила, исходившая от королевского тигра, соединилась с магией, которой поразил мальчика служитель. Еще ни разу не случалось в жизни этого мальчугана, чтобы его не поколотили, когда он плохо себя вел. Бабка запросто отвешивала ему затрещины, для нее это давно сделалось чем-то вроде привычки, в силу которой люди совершают какие-то напрасные, но вроде бы необходимые действия. Била она его беззлобно. Так отгоняют назойливую муху, которая, однако, снова и снова как ни в чем не бывало садится на тарелку с пудингом. Отец обычно бил его впрок, потому что заранее угадывал в злобно-насмешливых, горящих желтыми огоньками глазах мальчика желание устроить какую-нибудь каверзу, бил прежде, чем тот успевал ее устроить, а когда потом он все-таки ее устраивал, опять бил, чаще всего довольно лениво, и позволял – или не позволял – ему ускользнуть, это зависело от степени недовольства отца своими воспитательными мерами и еще от степени его опьянения. Когда он бывал не слишком пьяным, дело могло обернуться скверно, если же отец едва держался на ногах, все сводилось к нескольким беспомощным попыткам поймать мальчишку, а потом он с руганью отказывался от своего намерения и только бормотал невнятные угрозы насчет «другого раза», о которых обычно тут же и забывал.
Для мальчика и безуспешная погоня за ним, и затрещины служили знаком бессилия взрослых. Они били его, потому что иным способом не могли справиться с ним, пусть даже таким маленьким, с его диким нравом и упрямством. Он не слишком серьезно относился к этим тумакам и не обижался на взрослых. Он их презирал. Он презирал отца безжалостно, холодно, рассудочно. В презрение к бабке примешивалась капля жалости.
Книжка с картинками, единственная игрушка, которая у него была, сохранилась в доме еще со времен бабкиной молодости. Невероятно истрепанная и грязная, для него она была подлинным сокровищем. Он то и дело заставлял бабку читать вслух, добиваясь этого тем, что сначала битый час кривлялся и шумел, бросался старухе под ноги, так что она теряла равновесие и едва не валилась на пол, щипал ее и дергал за передник, пока старуха, отчаявшись, не бралась за книгу, чтобы наспех протараторить несколько стишков, напечатанных под картинками, лишь бы этот дьяволенок хоть пять минут посидел спокойно.
Вообще-то он давно знал все стихи наизусть и свои ухищрения использовал исключительно как предлог, чтобы вволю побесноваться, до того как начнется чтение. Иногда он сразу же выхватывал книгу из бабкиных рук и сам перелистывал страницы, наизусть выкрикивая стихи, или с кривляньем распевал их на разные голоса. Под конец он швырял книгу в угол, еще разок на бегу толкал бабку и уносился вон из дома, на улицу или в зоопарк.
Между зоопарком и книгой с картинками была хоть и странная, однако бесспорная связь, пожалуй, в точности такая же, какая существует между сном и явью. В книге были нарисованы звери из зоопарка, и эти звери разговаривали между собой, но не так, как обычно разговаривают друг с другом люди, а языком возвышенным, торжественным и благородным. Они изъяснялись словами, которых мальчик никогда не слышал ни от бабки, ни от отца. Например, господин Вол говорил своему сыну: «Усвой, невежа, наконец, изящные манеры!» Тогда как отец мальчика в ответ на его грубости только и знал что орать: «А ну заткнись!»
Вначале мальчик думал, что в книжке все создания такие же придуманные и ненастоящие, как и слова, но однажды он открыл для себя зоопарк и обнаружил, что эти удивительные существа действительно живут на свете, все-все, даже королевский тигр, его любимец, тот, что в книжке говорил своему маленькому, едва не погибшему от голода облезлому детенышу:
– Перед тобою твой отец, я, королевский тигр!
Весь Черный край подвластен мне и величавый Нигер!
Мальчик мгновенно отождествил себя с облезлым тигренком, как только увидел клетку со старым королевским тигром и впервые встретил его невозмутимый взгляд. Не раз он старался каким-нибудь способом заставить заговорить этого безмолвного, могучего и благородного зверя, своего отца, – кидал в клетку камешки, плясал и прыгал перед решеткой, гримасничал. В его глазах падение любых могущественных существ начиналось тогда, когда они теряли самообладание от подобных проделок. Но такими дешевыми трюками королевского тигра было не вывести из равновесия, он не выставлял себя на посмешище, ибо не пытался схватить мальчика, не бил лапами по прутьям решетки, он даже ни разу не зарычал. Он пребывал в величественном спокойствии, преисполненный непоколебимого авторитета в своем недоступном царстве – в Черном краю, который мальчик не мог хоть как-то представить себе, и потому в его душе этот Черный край был окутан мраком, непроницаемым и непостижимым.
С тех пор как он увидел во властном взгляде служителя такую же внушающую трепетное почтение невозмутимость, равнодушную ко всевозможным озорным проделкам, мальчик пришел к убеждению, что служитель тоже родом из незримого Черного края… «И величавый Нигер»? Может быть, служитель как раз и есть этот самый Нигер собственной персоной.
Он спросил у бабушки, кто такой Нигер. Но она только проворчала:
– Не знаю. Прозвание такое.
Служитель продолжил дрессировку, часто он устремлял на мальчика пристальный взгляд, причем всегда такой холодный и гипнотически неподвижный, как будто смотрел сквозь него, и под этим взглядом у мальчика появлялось странное жутковатое чувство, от которого ослабевала его беззастенчивая самоуверенность. Он и надеялся и боялся, что служитель опять заговорит с ним и отругает за плохое поведение. Но этого не происходило, и вскоре мальчик дошел уже до того, что начал под взглядом служителя втягивать голову в плечи. Больше всего ему тогда хотелось броситься ничком на землю и тихонько заскулить, но он все-таки не поддавался этому нелепому и унизительному порыву.
Как-то раз, ближе к вечеру, когда до закрытия зоопарка оставалось уже немного времени, служитель подошел к мальчику. Тот застыл от страха и дурного предчувствия и рад был бы убежать, но его тоненькие кривые ножки словно приросли к земле, и даже рук он не мог вынуть из карманов, чтобы в крайнем случае, пустив в ход кулачки, защититься от того, что, по-видимому, должно было вот-вот разразиться.
Некоторое время служитель молча смотрел на него, затем его суровый неподвижный взгляд смягчился, и он сказал:
– Хочешь пойти со мной и помочь мне кормить зверей?
Это неожиданно доброе и великодушное предложение потрясло мальчика, его глаза заблестели от невероятной, фантастической надежды.
– Пошли, – сказал служитель и протянул руку, но не коснулся кулачка мальчика – рука замерла на полдороге, и вторую половину этого пути мальчик должен был одолеть сам. Прошло несколько секунд, прежде чем его недоверчивость, упрямство, страх быть пойманным в ловушку и обычная злобная насмешка над всяким проявлением доброжелательности взрослых отступили перед надеждой на небывалое счастье – он пойдет с Нигером в Черный край, ему позволят покормить его всемогущего отца, королевского тигра!
С прежде неведомой ему готовностью к беспрекословному повиновению он наконец вложил свой крепко сжатый кулачок в сильную и теплую ладонь служителя.
С тех пор мальчик почти целыми днями всюду ходил со служителем и помогал ему кормить зверей, чистить клетки и загоны. Оказалось, что он смышленый и легко усваивает свои новые обязанности. В его тщедушной фигурке было, как выяснилось, когда он начал таскать ведра с кормом, куда больше силы и выносливости, чем можно было предположить, глядя на него. Страха он, казалось, вообще не ведал. Приходилось строго следить, чтобы он не забирался, даже не помышляя о какой бы то ни было осторожности, в клетки хищников, не было у него страха, и тогда, когда, несмотря на запрет наставника, он голыми руками проталкивал через решетку куски мяса и подсовывал их чуть не вплотную к рычащей оскаленной пасти.
Служитель знал, конечно, что здесь, в зоопарке, звери давно уже живут в неволе. Они были апатичными, их дикие инстинкты притупились, как нож, которым слишком долгое время резали хлеб насущный. Едва ли можно было ждать от них чего-то страшного. Однако служителя удивило то, что звери ни разу не зарычали на его нового маленького спутника, а ведь его запах, новый для них, должен был пробудить в них злобную подозрительность или давно уснувшую кровожадность. Казалось, они чувствуют к мальчишке такое же почтение, как к нему самому, их старому знакомому, кормильцу и слуге.
«Это и есть тайна бесстрашия», – подумал служитель.
И с острым чувством раскаяния и тоски ему вспомнилась одна-единственная секунда страха, которая много лет назад стала кошмарным финалом его карьеры укротителя.
***
Доктор решил съездить куда-нибудь за город. День стоял ясный и безветренный, а значит, как раз подходящий для праздного времяпрепровождения. Быть может, частица привольного покоя, который, по-видимому, всюду царит в природе, куда еще не добрались люди, окажет благотворное воздействие на его нервы. С некоторых пор его тяготили скрываемая от всех неудача и какое-то неуловимое уменьшение веры в себя, хотя он и был достаточно дисциплинированным, чтобы работать по-прежнему аккуратно и добросовестно. Это чувство беспокойства было связано, по-видимому, с одной пациенткой, которая ожесточенно сопротивлялась испытанным методам лечения, несмотря на то что именно к ней он по непостижимым причинам чувствовал особенный интерес. Впрочем, возможно, то, что его сила слабела, а ее сопротивление росло, было как раз следствием его личного участия в ней…
Но вдруг он почувствовал, что природа – все-таки не то, что ему требуется при его теперешнем состоянии. В лесной тиши его мыслям будет не успокоиться, там они лишь быстрее помчатся по кругу бесплодных навязчивых размышлений. Он был человеком мысли – не медитации. Приняв решение, доктор поставил машину подле ворот зоопарка и вышел. В праздно плывущей густой толпе людей, чья будничная целеустремленность благодушно растворилась и рассеялась в неторопливом бесцельном гулянии, он тоже праздно поплыл по течению, с легким чувством, что и ему позволено сойти с колеи долга. И захотелось хоть на час отвлечься от мыслей о работе.
В синевато-зеленой листве каштанов светлели бело-розовые свечки цветов, похожие на восковые декоративные деревца, и там и сям на серой земле лежали мелкие лепестки с тонко изогнутым краем. Врач праздно брел вслед за публикой от одной клетки к другой, рассеянно поглядывал на зверей и читал таблички, на которых были написаны названия животных и стран, откуда они родом. Понемногу он почувствовал освобождение от треволнений минувшего утра.
«Никак, ну никак мне не перестать! – вдруг подумал он, удивляясь и одновременно иронизируя над собой. – Сегодня один из редких свободных дней, которыми я могу себя побаловать, а чем я занимаюсь?! Провожу этот день среди клеток и решеток, за которыми сидят взаперти существа, в чьих глубинах дремлет тот же древнейший мрак, что наполняет души моих пациентов в психиатрической лечебнице. Кто знает, сколь многие из этих зверей – с точки зрения животного – впали в безумие из-за того, что их насильно держат в огороженных загонах вопреки естеству их инстинктов?
Хотя… Почему я решил, что звери сходят с ума, если их свобода немного урезана, но никакой жестокости нет, а обращение с ними хорошее и питание обильно? Ведь и люди когда-то без большого вреда для себя прошли процесс укрощения и заключения в клетки, внутренние и внешние. Конечно, решетки вызывают у них известную неприязнь, однако жить за решеткой им нравится. Всякий человек живет за решеткой. И он ведь – тоже. Он – так еще и по своей воле. Ведь он не позволяет себе даже той здоровой и простительной несдержанности, что подталкивает перегруженных работой мужчин срывать дома на жене накопившееся раздражение, которое в конце концов должно ведь находить какой-то выход. Где же еще от него избавишься? И кто еще сумеет понять этот, так сказать, совершенно неличный характер подобной раздражительности, если не собственная жена, ведь она-то должна бросить на другую чашу весов все бесчисленные, известные лишь ей знаки внимания и хорошие свойства супруга, которыми она может вознаградить себя за любые случайные срывы».
Однако дома он не распускался. Не шел на такой риск, потому что подозревал – его нервная раздражительность была не такой уж обезличенной, как он пытался убедить себя. С некоторых пор она уже вполне недвусмысленно обратилась на Мелитnу, на мелкие черточки, которых он раньше вообще не замечал или, напротив, ценил как нечто положительное, – скажем, ее привычка читать газету в его присутствии, словно совершенно позабыв о его существовании, – впрочем, нет, она отнюдь не забывала о нем, так как обычно читала газету не совсем про себя, а порой бросала и ему крохи прочитанного, сдобренные собственным взглядом на вещи, причем каждый раз отрывала его от гораздо более серьезного, требующего гораздо большей сосредоточенности чтения, которым был занят он. Да еще это ее неизменно отрицательное отношение ко всему, что выше или ниже среднего уровня, касалось ли дело одежды или чувств, или вопросов мировоззрения, политики и религии. Она была разумна, а поскольку и он был так же разумен, то всегда знал заранее, какой окажется ее реакция на то или иное событие. Она была хорошо сложена, среднего роста, миловидная, хотя и не красивая; она всегда делала только то, что было необходимо, и ничего сверх этого. Она не была ни скупой, ни расточительной, не бездельничала, но и не имела каких-то устремлений. Единственное, что вызывало у нее довольно живой интерес, были газетные сообщения об убийствах и страшных происшествиях, тогда как детективные романы она напрочь отвергала, потому что «в них нет ни капли правды».
Он поймал себя на мысли, что это странно и похоже на симптом – то, что убийства и насилия доставляют ей удовольствие лишь тогда, когда речь идет о действительно содеянных убийствах и реально происшедших изнасилованиях. Лишь они давали ей повод к моральному негодованию.
После ужина, если они не шли в кино и не принимали у себя гостей, она обычно читала газеты и с большими интервалами – обязательно в тот момент, когда он уже почти забывал о ее присутствии, – поверх газетной страницы, даже не поднимая глаз, делилась с ним своими соображениями о прочитанном.
«Против этого, строго говоря, нечего возразить», – подумал он, как всегда стараясь относиться к ней справедливо.
Вот только интонация, эта типичная для нее интонация, она доводила его до белого каления, потому что в ней слышалась невысказанная, полная самодовольства мысль: «Господи, благодарю Тебя, что я не такая, как они!» – независимо от того, шла ли речь о причудах моды, о попытке самоубийства, предпринятой молодым человеком из-за любви к ничтожеству, об авангардистских эскападах современных художников, об отчаянном шаге безработного или о воровстве домашней прислуги. Не говоря уже об убийцах и сексуальных маньяках.
Она непрестанно благодарит Бога, в которого вовсе не верит, за то, что именно ей и только ей было назначено стать женой доктора, госпожой Мелиттой Клингенгаст, урожденной Мюльбауэр, и при этом она совершенно не замечает, что такая заурядная внешность (метр семьдесят при шестидесяти килограммах веса), строгий костюм, всегда свежевыглаженная блузка, аккуратная прическа и весьма хороший аттестат зрелости вовсе не являются высшей целью творения и конечным итогом всех космических и земных пертурбаций.
«Я в последнее время несправедлив к ней, – мысленно одернул он себя. – Разве я не женился на ней как раз ради всего этого? Она нормальна, спокойна, порядочна, уверена в себе, у нее хорошая внешность, она не позволяет себе никаких экстравагантностей. Разумеется, разумеется. Вот если бы только не было у нее этой ужасающей убежденности в великой ценности собственной посредственности!
А почему, собственно, это плохо?
Потому что… ну, пожалуй, хоть потому, что я нервничаю, сам себе действую на нервы. И потому, что я – точно такая же посредственность, как она». (Он действительно тоже был метр семьдесят ростом при весе шестьдесят восемь килограммов, но не был толстым, а просто был более широк в кости.)
Доктор остановился перед загоном с жирафами и, поглощенный своими мыслями, рассеянно смотрел сквозь решетку на трех огромных животных, которые стояли на дальнем конце огороженной площадки и словно бы жались друг к дружке, плавно поворачивая маленькие головки на длинных шеях и поглядывая вокруг кротким взором. Красивый рисунок пятнистой шкуры и чрезмерно удлиненные пропорции тела в сочетании с заячьими ушками, как бы растущими на коротких стебельках, – все это делало трех жирафов похожими на букет крапчатых орхидей. В них определенно было что-то от растений, какая-то мягкость, в этих кротких чудных тварях с каким-то причудливым, каким-то доисторическим что ли обликом, исполненным меланхолического очарования и беззащитности.
Кто-то рядом с доктором бросил за ограду кусочки еды. Один жираф приблизился, покачиваясь на ходу, и, чтобы поднять лакомство, неуклюже раздвинул передние ноги, будто покосившиеся разбитые колья изгороди, и с трудом дотянулся носом до земли. При такой позе красота жирафа обратилась в гротескный шарж.
В эту минуту мимо пробежал мальчик. Он держал в руке палку и на бегу провел ее концом вдоль прутьев решетки загона. Раздался треск, как от пулеметной очереди.
Жираф в испуге бросился прочь во весь опор, но размеры площадки не позволили пуститься по прямой такими большими скачками, и он помчался по кругу, чтобы в бешеной гонке избавиться от завладевшего им страха, но уже через каких-нибудь двадцать скачков – диковинных па, словно бы заснятых замедленной съемкой, – снова очутился там, где настиг его испуг. С разбегу он резко остановился, всеми четырьмя копытами упершись в землю и в страхе так сильно подался назад, что, казалось, вот-вот он опрокинется и рухнет, как падающая башня, – и снова бросился бежать, все по тому же кругу, все в том же темпе. То было плавное, стремительное в своей протяженной замедленности бегство.
Какого-то особенно отчетливого отношения к животным у доктора никогда не было. Жирафов он не раз видел на рисунках, в цирке и зоопарке. Но никогда раньше он не обращал внимания на удивительную походку этих животных, чья быстрота находилась в бесконечном противоречии с их башенной высотой и растительным очарованием всего их облика.
Для чего все?.. Для чего?.. Что-то неведомое коснулось его, какой-то вопрос из глубокой древности, какое-то недоступное пониманию предостерегающее безмолвное сомнение.
Пытаясь схватить это мимолетно задевшее его ощущение, он принялся ловить его на удочку разума, бросая наживку понятий и дефиниций, но на крючок ничего не попалось. Он почувствовал себя так, словно, следуя мгновенному безотчетному импульсу, запустил руку в воду, чтобы поймать золотую рыбку, и вот теперь брезгливо вытащил руку из воды, замочив чистую манжету, – рыбка ускользнула. И в результате он только выставил себя на посмешище.
Невольно он оглянулся по сторонам, поправил галстук и, как бы настаивая на своем праве быть таким, какой он есть, надел шляпу, которую до тех пор нес в руке, затем нарочито размеренным шагом направился дальше.
Да какое ему дело до этого жирафа! Без малейшего ущерба для себя можно прожить весь свой век, даже не подозревая о том, что где-то на свете водятся жирафы, крапчатые экзотические плоды на длинных колеблющихся стеблях, которым свойственно, вдруг испугавшись чего-то, пускаться наутек.
Ведь в конце концов, он не лев на охоте и не сторож зверинца, он – доктор Карл Клингенгаст, председатель двух научных обществ, врач широко известной клиники, что на Розовом холме, женат, гражданин Австрии, католического вероисповедания, сорока лет от роду и метр семьдесят ростом. Слава Богу…
«…Что я не такой, как они?! Да кто это "они"? Какие еще "они"? Уж не жирафы ли?» – подумал он, окончательно сбитый с толку.
А дальше его мысли пустились вскачь, как шахматный конь. «Вполне возможно, что меня так ожесточает против Мелитты как раз наше с ней огромное сходство – разве может кто-нибудь все время смотреть на свое зеркальное отражение?» Но эту мысль он тут же отбросил без обиняков: «Глупости! Разве я хочу, чтобы у моей супруги была пятнистая шея и подвижные заячьи уши на стебельках?» Увы, шахматному коню приходится долго кружить, чтобы сложными обходными путями вернуться к тому месту, откуда началась скачка.
Но тут его спасло от навязчивых размышлений некое событие внешней жизни. Впереди была кучка народа, и люди взволнованно теснились вокруг какого-то центра; подойдя ближе, он увидел в толпе мужчину в форменной фуражке и со служебным значком на лацкане куртки, который держал на руках мальчика, причем тот был уже далеко не таким малышом, каких носят на руках.