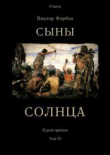Текст книги "Книга Нового Солнца. Том 2"
Автор книги: Джин Вулф
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 47 страниц)
48. ЗЕМЛИ СТАРЫЕ И НОВЫЕ
Лодки Эаты нигде не было видно. Может показаться нелепым, если я, как мне и следует, напишу, что плыл целый день и большую часть следующей ночи, но все было именно так. Вода, которую все называли соленой, вовсе не казалась соленой мне; я пил ее, когда хотелось пить, и она освежала меня. Я почти не испытывал усталости; когда же все-таки уставал, то отдыхал, лежа на волнах.
Я и так уже снял с себя почти всю одежду, кроме штанов, а теперь избавился и от них. По старой, никогда не подводившей меня привычке я, прежде чем расстаться с ними, проверил карманы; в них оказались три медные монетки – подарок Имара. Надписи и лица на монетах стерлись, к тому же они заметно потемнели – в общем, выглядели такими древними, какими и были на самом деле. Я позволил им проскользнуть у меня меж пальцев вместе со всем Урсом.
Дважды я видел больших рыб, которые, вероятно, таили в себе опасность; но они ни разу не угрожали мне. Водяных женщин, из которых Идас, наверное, была самой маленькой, я не встречал. Не видел я и Абайи, их повелителя. Ни Эребуса, ни каких-либо иных чудовищ.
Явилась ночь, ведя за собой бесчисленный караван звезд, и я, лежа на спине, не отрывал от них пристального взгляда, а теплые ладони Океана покачивали меня. Сколько же богатых миров пролетело тогда надо мной! Однажды, бежав от Абдиеса и устроившись на ночь у скалы, я смотрел на эти же звезды и пытался представить себе их спутники и как на них могут жить люди, возводя города, которые меньше наших знают о зле. Теперь я понял, как наивны подобные мечты, ибо повидал иной мир и нашел его еще более странным, чем все, что я мог себе вообразить. Не распространялось мое воображение ни на причудливый экипаж, который я встретил на корабле Цадкиэля, ни на рыскунов; и все же все они, как и я, были родом из Брии; и Цадкиэль не погнушался взять их к себе на службу.
Я отгонял эти грезы, но они являлись помимо моей воли. Рядом с некоторыми звездами, которые сами казались лишь еле тлеющими угольками, несущимися в ночи, я вроде бы различал звездочки еще меньшие; и пока я глядел на них, передо мной проходили вереницы смутных воспоминаний, прекрасных и мучительных. Потом, тучи закрыли звезды, и я заснул.
С наступлением утра я увидел, как ночь Ушас спадает с лика Нового Солнца. Ни в одном мире Брии не нашлось бы зрелища более изумительного, и даже на Йесоде я не видел такой дивной красоты. Юный царь, сверкающий златом неведомых рудников, шагал по волнам; и столь пригож был его образ, что, раз увидев его, уже не станешь смотреть ни на кого другого.
Волны танцевали для него и взметали десятки тысяч брызг к его стопам, и каждую он превращал в бриллиант. Набежала большая волна – ибо набирал силу ветер, – и я взмыл на ней, как ласточка взмывает в потоке весеннего воздуха. На вершине волны я задержался чуть меньше вздоха, но с этого пика я заглянул ему в лицо и не ослеп, а признал в нем свое. С тех пор такого уже не случалось со мной и, возможно, не случится никогда. Между нами, на расстоянии пяти с лишним лиг от меня, из моря поднялась ундина и приветственно вскинула ему навстречу руку.
Потом волна спала, и я опустился вместе с ней. Если бы я подождал, думаю, подоспела бы вторая волна и вознесла бы меня еще раз; но многому – а тому мгновению особенно – не дано повториться. Поэтому, дабы впечатления низшего порядка не затмили предыдущее, я нырнул в насыщенную солнцем воду, погружаясь все глубже, в надежде испытать способности, открытые мною лишь прошлой ночью.
Они остались при мне, хотя и полусонное состояние, и желание покончить с жизнью покинули меня. Мир мой теперь полнился самой нежной, чистейшей голубизной, был выстлан охрой и снабжен золотым балдахином. Мы с солнцем плавали в пространстве и свысока улыбались своим сферам.
Проплыв некоторое время – не могу сказать, сколько вздохов, ибо я вовсе не дышал, – я вспомнил про ундину и вознамерился отыскать ее. Я еще не избавился от страха, но понял наконец, что таких, как она, не всегда следует бояться; и хотя Абайя строил злые умыслы против прихода Нового Солнца, век, когда моя смерть могла повлиять на ход событий, миновал. Я погружался все глубже и глубже, поскольку вскоре сообразил, что снизу гораздо легче разглядеть любой объект, передвигающийся на светлом фоне морской поверхности.
Потом все мысли об ундине улетучились. Подо мной раскинулся иной, незнакомый мне город, тот, что никогда не был Нессусом. Башни его растянулись на дне Океана, и лишь подножия некоторых из них еще стояли вертикально; давние останки кораблекрушений лежали среди башен, древних уже тогда, когда остовы погибших кораблей еще были славными новыми судами, спускавшимися на воду под радостные крики, с разноцветными вымпелами на снастях и танцующей командой на баке.
Рыская среди павших твердынь, я находил сокровища – великолепные самоцветы и блестящие металлы, – столь благородные, что они выдержали испытание вечностью. Но я не нашел того, что искал, – названия города и имени забытого народа, который возвел его, а после отдал Океану, как отдали мы Океану город Нессус. Черепками и ракушками я скоблил притолоки и пьедесталы; много слов было начертано там, но я не мог разобрать ни одной буквы.
Несколько страж я плавал и обшаривал эти руины, не поднимая глаз; наконец огромная тень пала на засыпанную песком улицу подо мной, и, взглянув наверх, я увидел ундину, чьи волосы извивались, точно щупальца кракена, а тело казалось днищем корабля; она промелькнула надо мной и исчезла в ослепительном сиянии солнечного пламени.
Тотчас я позабыл о руинах. Выбравшись снова на воздух, я, словно ломантин, выдул из легких воду и пар и тряхнул головой, чтобы убрать волосы с глаз. Ибо, вынырнув, я заметил берег – низкий бурый берег, от которого меня отделяла полоса воды меньше, чем та, что когда-то пролегала меж Ботаническими Садами и берегом Гьолла.
Прошло едва ли больше времени, чем потребовалось мне, чтобы обмакнуть в чернила перо, как под моими ногами уже была твердая земля. Я выбрался из моря, сохранив к нему любовь, как прежде упал со звезд, продолжая любить их; и в самом деле, во всей Брии нет места, которое не заслуживало бы любви, когда оно уже не таит в себе угрозы для жизни, если только человек не приложил к этому руку. Но эту землю я любил более всего, ибо ей я был обязан своим рождением.
Но до чего страшная это была земля! Ни травинки не росло на ней. Песок, несколько камней, множество ракушек и густой черный слой ила, который спекся и потрескался на солнце, покрывали ее. В памяти снова всплыли строки пьесы доктора Талоса, чтобы мучить меня:
«Его земли износились, подобно дряхлой женщине, давно утратившей красоту и плодовитость. Грядет Новое Солнце, и когда оно взойдет, земли старого мира поглотит море, как уходят на дно потерпевшие крушение суда. Но из моря поднимутся новые земли – полные золота, серебра, меди и железа. Земли, сияющие алмазами, рубинами, бирюзой, которые накопило море за неисчислимые миллионы столетий».
Я, кичившийся тем, что помню абсолютно все, забыл, что эти слова произносили демоны.
Тысячу раз я испытывал искушение и даже больше чем искушение вернуться в Океан; вместо этого я устало потащился на север вдоль берега, который, казалось, тянулся бесконечно, не меняясь, на север и на юг. Штормовые волны выбрасывали на песок бревна строевого леса и вывороченные с корнем деревья, похожие на пугала; среди них порой попадались обрывки тряпья и обломки мебели. Я наткнулся на сломанную ветку, такую свежую, что листья на ней еще не пожухли; словно она и не ведала, что весь ее мир остался в прошлом. «Унеси меня в опавшую пущу!..» Так пела мне Доркас, когда мы остановились лагерем возле брода, и эти слова она написала на покрытом тонким слоем серебра стекле в нашем покое в Винкуле Тракса. Как всегда, Доркас оказалась мудрее, чем мы думали.
Постепенно линия берега прогнулась, образовав обширную бухту, такую огромную, что внутренняя его кромка терялась вдали. За лигой искрящегося водного пространства я видел противоположный берег бухты. Я мог бы легко переплыть на ту сторону, но мне не хотелось окунаться в воду.
Новое Солнце уже почти скрылось за поднимающимся плечом мира, и хотя об отдыхе в колыбели из волн у меня сохранились самые приятные воспоминания, я не спешил повторить свой опыт, как не испытывал желания и заснуть мокрым на берегу. Я решил устроиться на месте, по возможности развести костер и поесть, если удастся найти еду; впервые за минувший день мне пришло в голову, что я ничего не ел с той самой скудной трапезы, которую мы разделили в лодке.
Топлива здесь хватило бы на целую армию, но сколько я ни искал среди него бочонков с водой или ящиков с провиантом, о которых говорил Эата, они мне не попадались; через две стражи единственной находкой, которой я мог похвастаться, была полупустая закупоренная бутылка терпкого красного вина – прощальный привет из какой-нибудь дешевой таверны, наподобие той, где умер дядя Макселлиндис. Ударяя камнем о камень и выбрасывая те, от которых было мало толку, я в конце концов высек слабую искру; но тщетно я пытался подпалить собранный мной сырой материал. Когда Новое Солнце скрылось и огни звезд принялись молча потешаться над моими бесплодными усилиями, я сдался и лег спать, слегка согретый вином.
Я не думал, что снова увижу Афету. Но я ошибался, ибо мне довелось увидеть ее в ту ночь: она глядела на меня с неба, сверху вниз, как тогда, когда мы с Бургундофарой покидали Йесод. Я моргнул и открыл глаза шире, но вскоре различил лишь зеленый диск Луны.
Мне казалось, что я не сплю, но рядом со мной сидела Валерия, оплакивая затонувший Урс; ее сладкие теплые слезы падали на мое лицо. Я проснулся и обнаружил, что мне тепло и мокро – Луна скрылась за тучами, которые пролились легким дождем. Неподалеку от берега бесхозная дверь обещала мне мало-мальское укрытие. Я заполз под нее, заслонил лицо рукой и заснул снова, мечтая никогда не просыпаться.
В который раз зеленый свет залил берег. На фоне Луны, все увеличиваясь в размерах, порхало точно мотылек то крылатое чудовище, которое вытащило меня из обломков флайера Старого Автарха; впервые я понял, что вместо крыльев оно имело ночниц. Оно неуклюже приземлилось на растрескавшийся ил среди белых волков.
Не помню, как я очутился на его спине, а потом соскользнул вниз. Залитые лунным светом волны сомкнулись вокруг меня, и я увидел под собой Цитадель. Я ошибался, полагая, что башни обрушились: они стояли невредимы, и между ними плавали рыбы, большие, как корабли; если бы не вода и не гирлянды водорослей, все выглядело бы в точности, как прежде. Я похолодел, решив на мгновение, что мне суждено напороться на их острые шпили. Большое орудие, мишенью которого я стал, когда меня доставили к префекту Приске, выпалило снова, и его снаряд прорезал Океан с ревом парового котла.
Снаряд достиг цели, но умер не я – исчезла затонувшая Цитадель, растаяла как сон, которым она и была, и я увидел, что, миновав пролом в стене, вплываю в настоящую Цитадель. Верхушки ее башен поднимались над волнами; и среди них, по шею в воде, сидела Ютурна и ела рыбу.
– Ты выжила! – окликнул я ее и почувствовал, что это тоже всего лишь сон.
Она кивнула.
– А ты – нет.
Я совсем ослаб от голода и страха, но все же спросил:
– Так, значит, я умер? И попал в страну мертвых?
Она покачала головой:
– Ты жив. – Я сплю.
– Нет. Ты… – Она помолчала, пережевывая, на огромном лице не отражалось ничего. Когда она вновь заговорила, рыбки – не те огромные рыбины из моего сна, а серебристые существа не больше окуня, стали выпрыгивать из воды у ее подбородка, хватая на лету кусочки, падавшие с ее губ. – Ты свел счеты с жизнью или же пытался сделать это. В какой-то мере тебе это удалось.
– Я сплю и вижу сон.
– Нет. Ты уже не спишь. Так ты умер бы, если бы мог.
– Все потому, что я не мог видеть мучений Теклы, да? Теперь я наблюдал за гибелью Урса и сам был его убийцей.
– Кем ты был, – спросила она меня, – когда стоял перед Престолом Правосудия иерограммата?
– Человеком, который еще не уничтожил все, что любил.
– Ты был Урсом, и поэтому Урс жив.
– Это Ушас! – крикнул я.
– Пусть так. Но Урс живет в Ушас и в тебе.
– Мне надо подумать, – сказал я. – Пойти куда-нибудь и подумать. – Я не собирался ни о чем просить, но в собственном голосе услышал неприкрытую мольбу.
– Так ступай.
Я в отчаянии поглядел на полузатопленную Цитадель.
Ютурна махнула рукой, как деревенская баба, указывающая дорогу заплутавшему путнику, обозначив направления, которых я прежде не замечал.
– Туда – будущее, туда – прошлое. Это граница мира, и за ней – другие миры твоего солнца и миры других солнц. Вот ручей, берущий свое начало в Йесоде и впадающий в Брию.
Мою нерешительность как рукой сняло.
49. АПУ-ПУНХАУ
Воды были уже не по-ночному черными, а приобрели темно-зеленый оттенок; казалось, я различаю в них бессчетные пряди трав, стоящие вертикально и колеблющиеся под напором течения. Голод постоянно возвращал меня к мысли о рыбе Ютурны; но на моих глазах Океан убывал, становился все прозрачнее и светлее, каждая его мельчайшая капелька отделялась от соседних, пока то, что лежало передо мной, не обернулось обыкновенным туманом.
Я сделал вдох и набрал в легкие не воду, а воздух. Я шагнул и ступил на твердую почву.
То, что прежде было морем, превратилось в пампу, поросшую высокой, по пояс, травой – море травы, чьи берега терялись в белой клубящейся дымке, словно там, бесшумно и неистово, танцевало мрачное сборище призраков. Ласки тумана не напугали меня, хоть они и были влажными и липкими, словно объятия привидения из полуночной сказки. Надеясь найти еду и согреться, я двинулся вперед.
Говорят, путник, блуждающий в темноте, и особенно тот, кто блуждает в тумане, начинает описывать круги на ровном месте. Возможно, со мной случилось то же самое, хотя я все же так не думаю. Слабый ветер волновал туман, и я старался, чтобы он все время дул мне в спину.
Когда-то я, возомнив себя неудачником и упиваясь своим несчастьем, шагал с улыбкой на устах вдоль Бечевника. Теперь я знал, что тогда началось путешествие, которое, в конечном счете, возвело меня в ранг палача Урса; и хотя задача моя была выполнена, мне казалось, что я никогда уже не буду счастлив – впрочем, возможно, спустя всего стражу или две я почувствовал бы себя вполне счастливым, если бы только ко мне вернулся мой теплый плащ подмастерья.
Наконец Старое Солнце Урса взошло за моей спиной и, увенчанное золотом, поднялось во всем своем великолепии. Призраки бежали перед ним; я увидел просторную пампу, бесконечный шепчущийся зеленый Океан, по которому прокатывались тысячи волн. Бесконечный – это значит, что вплоть до надменной цепи высоких гор на востоке человеческая нога еще не ступала здесь.
Я шел на запад, на ходу осознавая, что я, побывав Новым Солнцем, сам скрылся бы за горизонтом, если бы только мог. Возможно, тот, кто был Старым Солнцем, испытывал те же чувства. Ведь было же Старое Солнце в «Эсхатологии и генезисе» доктора Талоса, и хотя мы ни разу не доиграли наше представление до конца, доктор Талос, который сам стал странником в западных землях, собирался однажды сыграть эту роль.
По пампе разгуливали длинноногие птицы, но они убегали всякий раз, когда я подходил слишком близко. Однажды, сразу после рассвета, я увидел пятнистую кошку; но она была сыта и ускользнула прочь. На ясном голубом небе черными крапинками кружили кондоры и орлы. Голод мучил меня не меньше, чем их; и время от времени мне чудился немыслимый для этих мест запах жареной рыбы, навеянный, без сомнения, воспоминанием о захудалой гостинице, в которой я впервые встретился с Балдандерсом и доктором Талосом.
Клиент в камере может продержаться без воды дня три или даже больше, так учил нас мастер Палаэмон; но у того, кому приходится тащиться под солнечными лучами, времени гораздо меньше. Наверное, я умер бы еще до заката, если бы не нашел его, когда моя тень уже тянулась за мной длинным шлейфом. Это был узенький ручеек, едва ли шире, чем предстал перед моим взором ручей за пределами Брии, и он так глубоко зарылся в пампу, что я не замечал его, пока едва не скатился в русло.
Ловко, как обезьяна, я спустился по каменистому склону и утолил жажду нагретой солнцем водой, мутной и с привкусом ила для того, кто пил чистую морскую воду. Если бы ты, читатель, вдруг оказался рядом и предложил бы мне продолжить путь вместе, я, наверное, лишил бы тебя жизни. Я тяжело опустился среди камней, не в силах ступить ни шагу больше, и заснул прежде, чем успел закрыть глаза.
Но, должно быть, ненадолго. Неподалеку фыркнула большая кошка, и я проснулся, трясясь от страха, более древнего, чем первое человеческое жилище. В детстве, когда я спал с другими учениками в Башне Сообразности, до нас часто доносилось такое фырканье из Медвежьей Башни, и оно ничуть не пугало меня. Все дело, по-моему, в стенах или же в их отсутствии. Тогда я понимал, что одни стены защищают меня, а другие – держат в заточении смилодонов и атроксов. Теперь я знал, что никаких стен нет, и при свете звезд насобирал в кучу камней. Я твердил себе, что камни нужны мне в качестве метательных снарядов, но на самом деле (и сейчас мне это ясно) я неосознанно готовил материал для стены.
До чего же странная штука! Плавая на глубине и ступая по морскому дну, я мнил себя чуть ли не богом и уж по крайней мере существом, стоящим выше человека; теперь же я казался себе тварью низшего порядка. Однако, поразмыслив, я решил, что это вовсе не так уж странно. Здесь, вероятно, я очутился во времени гораздо более раннем, чем то, в котором Зак вершил свои дела на борту корабля Цадкиэля. Здесь Старое Солнце еще не потускнело, и даже те факторы, которые отбрасывали тени такие же длинные, как та, что волочилась за мной, когда я подошел к оврагу, могли не оказывать на меня влияния.
Наконец наступил рассвет. От солнца предыдущего дня кожа моя во многих местах обгорела; я остался в овраге, где временами попадалось немного тени, и, двигаясь по руслу ручья, набрел на тушу пекари, убитого на водопое. Я оторвал от нее кусок мяса, прожевал и запил мутной водой.
Около полудня вдали показалась первая пампа. Овраг был глубиной элей в семь, но аборигены соорудили серию маленьких дамб, словно ступени лестницы, завалив речушку камнями. Колесо, увешанное кожаными бурдюками, жадно черпало воду, вращаемое двумя низкорослыми бурокожими людьми, которые крякали от удовольствия каждый раз, когда бурдюк опорожнялся в глиняный желоб.
Они окликнули меня на языке, которого я не знал, но не пытались остановить. Я помахал им рукой и продолжил путь, удивившись, что они орошают свои поля, хотя прошлой ночью среди созвездий на небе были отчетливо видны кроталы – зимние звезды, несущие звон заледеневших ветвей.
Я миновал десятка два таких колес, прежде чем вышел к городу, где от воды поднималась каменная лестница. По лестнице спускались женщины, чтобы простирнуть белье и наполнить водой кувшины; внизу они остановились поболтать. Женщины уставились на меня; я протянул к ним руки, тем самым демонстрируя, что не вооружен, хотя моя нагота говорила об этом достаточно красноречиво.
Но до чего страшная это была земля! Ни травинки не росло на ней. Песок, несколько камней, множество ракушек и густой черный слой ила, который спекся и потрескался на солнце, покрывали ее. В памяти снова всплыли строки пьесы доктора Талоса, чтобы мучить меня.
Они затараторили между собой на каком-то певучем наречии. Я поднес руку ко рту, показывая, что голоден, и худощавая женщина, чуть выше остальных, кинула мне полоску старой грубой ткани, чтобы я повязал ее вокруг бедер, – женщины, в сущности, повсюду одинаковы.
Как и у тех мужчин, что я видел прежде, у этих женщин были маленькие глазки, тонкие губы и широкие плоские скулы. Лишь спустя месяц или даже больше я понял, чем они так отличались от автохтонов, которых я видел на Сальтусской Ярмарке, на рынке в Траксе и в других местах: эти люди имели гордость и были гораздо менее склонны к насилию.
У лестницы овраг расширялся и не давал тени. Когда я понял, что никто из женщин не собирается покормить меня, я поднялся по ступеням и сел на землю в тени одного из каменных домов. Здесь меня так и подмывает поведать о разного рода мыслях, которые на самом деле посетили меня позже, когда я уже пожил в этом каменном городе. По правде говоря, в тот момент я ни о чем не думал. Я слишком устал и проголодался, к тому же был не вполне здоров. Просто-напросто я испытывал облегчение оттого, что выбрался из-под палящих солнечных лучей и могу больше не двигаться.
Потом рослая женщина вынесла мне лепешку и кувшин воды, поставив их в трех кубитах от моей протянутой руки, и спешно удалилась. Я съел лепешку, выпил воду и до утра проспал прямо в уличной пыли.
На следующее утро я прошелся по городу. Дома его были сложены из речного камня, скрепленного грязевым раствором. Крыши из тонких бревен, покрытых толстым слоем грязи вперемешку с соломой, маисовыми стеблями и обертками початков, были почти плоскими. У одной двери какая-то женщина дала мне полусгоревшую, обвалянную в муке лепешку. Мужчины, которых я встречал, не обращали на меня внимания. Позже, узнав этот народ получше, я понял, что они поступали так из-за необходимости объяснять все увиденное ими; не имея ни малейшего понятия, кто я и откуда взялся, они просто притворялись, что не видят меня.
В тот вечер я пришел и сел на прежнее место, но когда явилась рослая женщина, на этот раз оставив лепешку и кувшин воды чуть ближе, я взял их и последовал за ней в ее дом, один из самых старых и маленьких. Она испугалась, когда я отдернул рваную циновку, служившую ей дверью, но я устроился есть и пить в углу и всячески стремился показать, что не сделаю ей ничего плохого. В ту ночь у ее очага мне было гораздо теплее, чем на улице.
Починку дома я начал с того, что разобрал и заново сложил те участки стен, которые вот-вот готовы были обвалиться. Женщина одно время наблюдала за моей работой, потом ушла в город. Она не возвращалась до вечера.
На следующий день я отправился следом и увидел, что она вошла в большой дом, где принялась молоть маис, стирать одежду и подметать пол. К тому времени я уже выучил названия самых простых вещей и помогал ей всякий раз, когда мне удавалось понять смысл работы.
Этот дом принадлежал шаману. Он служил божеству, чья устрашающая статуя была установлена на востоке, сразу за городской чертой. Поработав на семью шамана несколько дней, я узнал, что основной акт богослужения совершался каждое утро перед моим приходом. Тогда я стал подниматься пораньше и приносил хворост к алтарю, где он сжигал муку и масло, а на пиру в день летнего солнцестояния перерезал глотку коипу под топот танцоров и грохот маленьких барабанчиков. Так я жил среди этих людей, стараясь по мере сил подражать их обычаям.
Древесина здесь была в цене. Деревья не росли в пампе, они ютились лишь по краям людских полей. Очаг рослой женщины, как и все остальные, топился стеблями, кочерыжками и обертками маисовых початков пополам с высушенным на солнце навозом. Порою стебли маиса подбрасывались даже в огонь, который каждый день с песнями и заклинаниями разжигал шаман, ловя лучи Старого Солнца в свою священную чашу.
Я перестроил стены дома рослой женщины, но, похоже, мало что мог сделать с крышей. Бревна были тонкими и старыми, некоторые из них дали опасные трещины. Одно время я думал поставить вместо подпорки каменный столб, но с ним дом стал бы слишком тесным.
Поразмыслив, я разломал всю провисающую конструкцию и заменил ее перекрестными сводами, как те, что я видел в пастушеской хижине, где оставил некогда накидку Пелерин, – сводами из речных камней свободной кладки, сходящимися к центру дома. Запасные камни, утоптанную землю и бревна со старой крыши я использовал при сооружении своеобразных подмостков, необходимых в процессе строительства каждой арки, и укрепил стены, чтобы они выдержали распирающую силу, для чего натаскал с реки еще камней. Пока шло строительство, нам с женщиной приходилось спать под открытым небом, но она согласилась на это без единой жалобы; зато когда все было готово и я, как прежде, покрыл похожую на улей крышу землей и плетеными циновками, она получила новый дом, высокий и прочный.
В самом начале, когда я ломал старую крышу, никто не обращал на меня особого внимания; но вот первый этап был завершен, я приступил к возведению сводов, и люди стали приходить с полей поглазеть на работу, а иные даже помогали мне. Когда же я разбирал последние подмостки, явился сам шаман, приведший с собой старейшину города.
Они бродили вокруг дома, пока не стало ясно, что подпорки уже не держат крышу, и только тогда внесли внутрь факелы. Наконец, когда моя работа подошла к концу, они усадили меня и стали забрасывать вопросами, активно жестикулируя, поскольку я еще очень плохо знал их язык.
Я как мог объяснил им все, для наглядности сложив на полу маленький макет из плоской гальки. Тогда они перешли к расспросам обо мне: откуда я явился и зачем поселился среди них. Я так давно не разговаривал ни с кем, кроме рослой женщины, что разом выложил им большую часть своей истории, запинаясь и чудом подбирая нужные слова. Я не ожидал, что мне поверят; достаточно было того, что меня хоть кто-то выслушал.
Выбравшись наконец на улицу, чтобы указать на солнце, я обнаружил, что, пока я распинался и царапал на грязном полу свои грубые чертежи, наступил вечер. Рослая женщина сидела у двери, и ее черные волосы трепал свежий, прохладный ветер пампы. Шаман и старейшина тоже вышли, и при свете их чадящих факелов я увидел, что она не на шутку напугана.
Я спросил, в чем дело, но не успела она открыть рот, как шаман завел длинную речь, из которой я понимал хорошо если каждое десятое слово. Когда он закончил, эстафету принял старейшина. Привлеченные их речами, вокруг собрались жители соседних домов. Одни держали охотничьи копья – ибо это был не воинственный народ, другие – тесла и ножи. Я повернулся к женщине и спросил, что происходит.
Она злобно зашипела в ответ, объяснив, что, по словам шамана и старейшины, я имел наглость утверждать, будто привожу с собой день и гуляю по небу. Теперь нас продержат здесь до тех пор, пока день не явится без моей помощи; когда же это случится, мы умрем. Она заплакала. Должно быть, слезы катились по ее впалым щекам; если так, то я не заметил их в мерцающем свете факелов. Удивительно, но я вообще не видел никого из этого народа плачущим, даже маленьких детей. Ее сухие частые всхлипы тронули меня больше, чем все слезы, которые я повидал в своей жизни.
Мы долго ждали возле ее дома. Появились новые факелы; топливо и горячие угли, принесенные из соседних домов, дали нам немного света. Однако ноги мои закоченели от холода, идущего от земли.
Единственная наша надежда заключалась в том, чтобы потянуть время и помотать нервы этим людям. Но, оглядев их лица, которые вполне могли сойти за деревянные маски, обмазанные бледно-коричневой глиной, я понял, что их терпение не истощится и за целый год, не говоря уж о короткой летней ночи.
Если бы я только мог свободнее изъясняться на их языке, я попытался бы заронить в них страх или хотя бы втолковать, что я хотел сказать на самом деле. Слова – увы, слова не их языка, а моего – отдавались эхом в моем сознании, давая мне невольную пищу для размышлений. А знал ли я сам, что означают эти слова? Эти или какие угодно другие? Разумеется, нет.
В отчаянии, движимый тем самым неутолимым стремлением к чистому самовыражению, что заставило меня писать и переписывать повесть, которую я отдал в переплет и схоронил в библиотеке мастера Ультана, а после вышвырнул в пустоту, я принялся жестикулировать, снова пересказывать свою историю, но на этот раз – без помощи слов. Мои руки баюкали младенца, которым был я сам, и тщетно боролись с течением Гьолла, пока ундина не спасла меня. Никто не порывался остановить меня, и вскоре я встал, дабы воспользоваться не только руками, но и ногами, изображая, как я иду пустыми гулкими коридорами Обители Абсолюта и пускаю в галоп боевого коня, который пал подо мной в Третьей Битве при Орифии.
Казалось, я слышу музыку; и спустя некоторое время я действительно услышал ее, потому что многие из тех, кого привлекли сюда речи старейшины и шамана, принялись напевать с закрытым ртом, отбивая по земле торжественный ритм древками копий с каменными наконечниками и роговыми ручками тесел; кто-то заиграл на свирели. Пронзительные ноты роились вокруг меня словно пчелы.
Наконец я заметил, как некоторые посматривают на небо и толкают друг друга локтями. Думая, что они завидели первые бледные лучи утренней зари, я тоже посмотрел туда, но увидел лишь Крест и Единорога – летние созвездия. Тогда шаман и старейшина распростерлись передо мной на земле. В тот же миг, по невероятно удачному совпадению, Урс обернулся к солнцу. Тень моя пала на них.