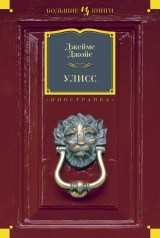
Текст книги "Улисс (часть 1, 2)"
Автор книги: Джеймс Джойс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц)
Джойс Джеймс
Улисс (часть 1, 2)
Джеймс Джойс
Улисс
(часть 1, 2)
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *
1
Сановитый, жирный Бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва. Желтый халат его, враспояску, слегка вздымался за ним на мягком утреннем ветерке. Он поднял чашку перед собою и возгласил:
– Introibo ad altare Dei [и подойду к жертвеннику Божию (лат.)].
Остановясь, он вгляделся вниз, в сумрак винтовой лестницы, и грубо крикнул:
– Выходи, Клинк! Выходи, иезуит несчастный!
Торжественно он проследовал вперед и взошел на круглую орудийную площадку. Обернувшись по сторонам, он с важностью троекратно благословил башню, окрестный берег и пробуждающиеся горы. Потом, увидев Стивена Дедала, наклонился к нему и начал быстро крестить воздух, булькая горлом и подергивая головой. Стивен Дедал, недовольный и заспанный, облокотясь на последнюю ступеньку, холодно смотрел на дергающееся булькающее лицо, что благословляло его, длинное как у лошади, и на бестонзурную шевелюру, белесую, словно окрашенную под светлый дуб.
Бык Маллиган заглянул под зеркальце и тут же опять прикрыл чашку.
– По казармам! – скомандовал он сурово.
И пастырским голосом продолжал:
– Ибо сие, о возлюбленные мои, есть истинная Христина, тело и кровь, печенки и селезенки. Музыку медленней, пожалуйста. Господа, закройте глаза. Минуту. Маленькая заминка, знаете, с белыми шариками. Всем помолчать.
Он устремил взгляд искоса вверх, издал долгий, протяжный призывный свист и замер, напряженно прислушиваясь. Белые ровные зубы кой-где поблескивали золотыми крупинками. Златоуст. Резкий ответный свист дважды прозвучал в тишине.
– Спасибо, старина, – живо откликнулся он. – Так будет чудненько. Можешь выключать ток!
Он соскочил с площадки и с важностью поглядел на своего зрителя, собирая у ног складки просторного халата. Жирное затененное лицо и тяжелый овальный подбородок напоминали средневекового прелата, покровителя искусств. Довольная улыбка показалась у него на губах.
– Смех да и только, – сказал он весело. – Это нелепое твое имя, как у древнего грека.
Ткнув пальцем с дружелюбной насмешкой, он отошел к парапету, посмеиваясь. Стивен Дедал, поднявшись до конца лестницы, устало побрел за ним, но, не дойдя, уселся на край площадки и принялся наблюдать, как тот, пристроив на парапете зеркальце и обмакнув в пену помазок, намыливает шею и щеки.
Веселый голос Быка Маллигана не умолкал:
– У меня тоже нелепое – Мэйлахи Маллиган, два дактиля. Но тут звучит что-то эллинское, правда ведь? Что-то солнечное и резвое, как сам бычок. Мы непременно должны поехать в Афины. Поедешь, если я раздобуду у тетушки двадцать фунтов?
Он положил помазок и в полном восторге воскликнул:
– Это он-то поедет? Изнуренный иезуит.
Оборвал себя и начал тщательно бриться.
– Послушай, Маллиган, – промолвил Стивен негромко.
– Да, моя радость?
– Долго еще Хейнс будет жить в башне?
Бык Маллиган явил над правым плечом свежевыбритую щеку.
– Кошмарная личность, а? – сказал он от души. – Этакий толстокожий сакс. Он считает, что ты не джентльмен. Эти мне гнусные англичане! Их так и пучит от денег и от запоров. Он, видите ли, из Оксфорда. А знаешь, Дедал, вот у тебя-то настоящий оксфордский стиль. Он все никак тебя не раскусит. Нет, лучшее тебе имя придумал я: Клинк, острый клинок.
Он выбривал с усердием подбородок.
– Всю ночь бредил про какую-то черную пантеру, – проговорил Стивен. Где у него ружье?
– Совсем малый спятил, – сказал Маллиган. – А ты перетрусил не на шутку?
– Еще бы, – произнес Стивен с энергией и нарастающим страхом. – В кромешном мраке, с каким-то незнакомцем, который стонет и бредит, что надо застрелить пантеру. Ты спасал тонущих. Но я, знаешь ли, не герой. Если он тут останется, я ухожу.
Бык Маллиган глядел, насупясь, на бритву, покрытую мыльной пеной. Соскочив со своего возвышения, он торопливо стал рыться в карманах брюк.
– Драла! – пробормотал он сквозь зубы.
Вернувшись к площадке, он запустил руку в верхний карман Стивена и сказал:
– Позвольте одолжиться вашим сморкальником, вытереть нашу бритву.
Стивен покорно дал ему вытащить и развернуть напоказ, держа за угол, измятый и нечистый платок. Бык Маллиган заботливо вытер лезвие. Вслед за этим, разглядывая платок, он объявил:
– Сморкальник барда. Новый оттенок в палитру ирландского стихотворца: сопливо-зеленый. Почти ощущаешь вкус, правда?
Он снова поднялся к парапету и бросил долгий взгляд на залив. Ветерок шевелил белокурую, под светлый дуб, шевелюру.
– Господи! – сказал он негромко. – Как верно названо море у Элджи: седая нежная мать! Сопливо-зеленое море. Яйцещемящее море. _Эпи ойнопа понтон_ [по винноцветному морю (греч.)]. Ах, эти греки, Дедал. Надо мне тебя обучить. Ты должен прочесть их в подлиннике. _Талатта! Талатта_! [Море! Море! (греч.)] Наша великая и нежная мать. Иди сюда и взгляни.
Стивен встал и подошел к парапету. Перегнувшись, он посмотрел вниз на воду и на почтовый пароход, выходящий из гавани Кингстауна.
– Наша могущественная мать, – произнес Бык Маллиган.
Внезапно он отвел взгляд от моря и большими пытливыми глазами посмотрел Стивену в лицо.
– Моя тетка считает, ты убил свою мать, – сказал он. – Поэтому она бы мне вообще запретила с тобой встречаться.
– Кто-то ее убил, – сумрачно бросил Стивен.
– Черт побери, Клинк, уж на колени ты бы мог стать, если умирающая мать просит, – сказал Бык Маллиган. – Я сам гипербореец не хуже тебя. Но это ж подумать только, мать с последним вздохом умоляет стать на колени, помолиться за нее – и ты отказываешься. Нет, что-то в тебе зловещее...
Оборвал себя и начал намыливать другую щеку. Всепрощающая улыбка тронула его губы.
– Но бесподобный комедиант! – шепнул он тихонько. – Клинк, бесподобнейший из комедиантов.
Он брился плавно и осмотрительно, в истовом молчании.
Стивен, поставив локоть на шершавый гранит, подперев лоб ладонью, неподвижно смотрел на обтерханные края своего черного лоснистого рукава. Боль, что не была еще болью любви, саднила сердце его. Во сне, безмолвно, она явилась ему после смерти, ее иссохшее тело в темных погребальных одеждах окружал запах воска и розового дерева, а дыхание, когда она с немым укором склонилась над ним, веяло сыростью могильного тлена. Поверх ветхой манжеты он видел море, которое сытый голос превозносил как великую и нежную мать. Кольцо залива и горизонта заполняла тускло-зеленая влага. Белый фарфоровый сосуд у ее смертного одра заполняла тягучая зеленая желчь, которую она с громкими стонами извергала из своей гниющей печени в приступах мучительной рвоты.
Бык Маллиган заново обтер бритву.
– Эх, пес-бедолага! – с участием вздохнул он. – Надо бы выдать тебе рубашку да хоть пару сморкальников. А как те штаны, что купили с рук?
– Как будто впору, – отвечал Стивен.
Бык Маллиган атаковал ложбинку под нижней губой.
– Смех да и только, – произнес он довольно. – Верней будет, с ног. Дознайся, какая там пьянь заразная таскала их. У меня есть отличная пара, серые, в узкую полоску. Ты бы в них выглядел потрясающе. Нет, кроме шуток, Клинк. Ты очень недурно смотришься, когда прилично одет.
– Спасибо, – ответил Стивен. – Если они серые, я их не могу носить.
– Он их не может носить, – сказал Бык Маллиган своему отражению в зеркале. – Этикет значит этикет. Он мать родную убил, но серые брюки ни за что не оденет.
Он сложил аккуратно бритву и легкими касаньями пальцев ощупал гладкую кожу.
Стивен перевел взгляд с залива на жирное лицо с мутно-голубыми бегающими глазами.
– Этот малый, с кем я сидел в "Корабле" прошлый вечер, – сказал Бык Маллиган, – уверяет, у тебя п.п.с. Он в желтом доме работает у Конопли Нормана. Прогрессивный паралич со слабоумием.
Он описал зеркальцем полукруг, повсюду просверкав эту весть солнечными лучами, уже сияющими над морем. Изогнутые бритые губы, кончики блестящих белых зубов смеялись. Смех овладел всем его сильным и ладным телом.
– На, полюбуйся-ка на себя, горе-бард! – сказал он.
Стивен наклонился и глянул в подставленное зеркало, расколотое кривой трещиной. Волосы дыбом. Так взор его и прочих видит меня. Кто мне выбрал это лицо? Эту паршивую шкуру пса-бедолаги? Оно тоже спрашивает меня.
– Я его стянул у служанки из комнаты, – поведал Бык Маллиган. – Ей в самый раз такое. Тетушка ради Мэйлахи всегда нанимает неказистых. Не введи его во искушение. И зовут-то Урсулой.
Снова залившись смехом, он убрал зеркальце из-под упорного взгляда Стивена.
– Ярость Калибана, не видящего в зеркале своего отражения, – изрек он. – Как жалко, Уайльд не дожил на тебя поглядеть!
Отступив и показывая на зеркало, Стивен с горечью произнес:
– Вот символ ирландского искусства. Треснувшее зеркало служанки.
Неожиданно и порывисто Бык Маллиган подхватил Стивена под руку и зашагал с ним вокруг башни, позвякивая бритвой и зеркальцем, засунутыми в карман.
– Грех тебя так дразнить, правда, Клинк? – сказал он дружески. – Видит бог, в голове у тебя побольше, чем у них всех.
Еще выпад отбит. Скальпель художника страшит его, как меня докторский. Хладная сталь пера.
– Треснувшее зеркало служанки! Ты это скажи тому олуху из Оксфорда да вытяни из него гинею. Он весь провонял деньгами и считает, что ты не джентльмен. А у самого папаша набил мошну, сбывая негритосам слабительное, а может, еще на каких делишках. Эх, Клинк, если бы мы с тобой действовали сообща, уж мы бы кое-что сделали для нашего острова. Эллинизировали бы его.
Рука Крэнли. Его рука.
– И подумать только, ты вынужден побираться у этих свиней. Я один-единственный понимаю, что ты за человек. Почему ж ты так мало мне доверяешь? Из-за чего все воротишь нос? Из-за Хейнса? Да пусть только пикнет, я притащу Сеймура, и мы ему закатим трепку еще похлеще, чем досталась Клайву Кемпторпу.
Крики юных богатеньких голосов в квартире Клайва Кемпторпа. Бледнолицые: держатся за бока от хохота, хватаются друг за друга, ох, умора! Обри, бережно весть эту ей передай! Сейчас помру! В изрезанной рубашке, вьющейся лентами по воздуху, в съехавших до полу штанах, он, спотыкаясь, скачет вокруг стола, а за ним Эйдс из Магдалины с портновскими ножницами. Мордочка ошалелого теленка, позолоченная вареньем. Не надо, не сдирайте штаны! Не набрасывайтесь на меня, как бешеные!
Крики из распахнутого окна вспугивают вечер во дворе колледжа. Глухой садовник в фартуке, замаскированный лицом Мэтью Арнольда, продвигается по темному газону с косилкой, вглядываясь в танцующий рой травинок.
Нам самим... новое язычество... омфал [пуп; пуп земли (греч.)].
– Ладно, пусть остается, – сказал Стивен. – Так-то он ничего, только по ночам.
– Тогда в чем же дело? – наседал Бык Маллиган. – Давай рожай. Я-то ведь напрямик с тобой. Что у тебя такое против меня?
Они остановились, глядя туда, где тупая оконечность мыса Брэй-Хед покоилась на воде, словно голова спящего кита. Стивен осторожно высвободил руку.
– Ты хочешь, чтобы я сказал тебе? – спросил он.
– Да, в чем там дело? – повторил Бык Маллиган. – Я ничего не припоминаю.
Говоря это, он в упор посмотрел на Стивена. Легкий ветерок пробежал по его лицу, вороша светлую спутанную шевелюру и зажигая в глазах серебряные искорки беспокойства.
Стивен, удручаясь собственным голосом, сказал:
– Ты помнишь, как я пришел к тебе домой в первый раз после смерти матери?
Бык Маллиган, мгновенно нахмурившись, отвечал:
– Как? Где? Убей, не могу припомнить. Я запоминаю только идеи и ощущения. Ну и что? Чего там стряслось, бога ради?
– Ты готовил чай, – продолжал Стивен, – а я пошел на кухню за кипятком. Из комнат вышла твоя мать и с ней кто-то из гостей. Она спросила, кто у тебя.
– Ну? – не отступал Бык Маллиган. – А я что сказал? Я уже все забыл.
– А ты сказал, – ответил Стивен ему, – "Да так, просто Дедал, у которого мамаша подохла".
Бык Маллиган покраснел и стал казаться от этого моложе и привлекательней.
– Я так сказал? – переспросил он. – И что же? Что тут такого?
Нервным движением он стряхнул свое замешательство.
– А что, по-твоему, смерть, – спросил он, – твоей матери, или твоя, или, положим, моя? Ты видел только, как умирает твоя мать. А я каждый день вижу, как они отдают концы и в Ричмонде, и в Скорбящей, да после их крошат на потроха в анатомичке. Это и называется подох, ничего больше. И не о чем говорить. Ты вот не соизволил стать на колени и помолиться за свою мать, когда она просила тебя на смертном одре. А почему? Да потому, что в тебе эта проклятая иезуитская закваска, только она проявляется наоборот. По мне, тут одна падаль и пустая комедия. Ее лобные доли уже не действуют. Она называет доктора "сэр Питер Тизл" и хочет нарвать лютиков с одеяла. Уж не перечь ей, вот-вот все кончится. Ты сам не исполнил ее предсмертную просьбу, а теперь дуешься на меня, что я не скулил, как наемный плакальщик от Лалуэтта. Абсурд! Допустим, я и сказал так. Но я вовсе не хотел оскорбить память твоей матери.
Его речь вернула ему самоуверенность. Стивен, скрывая зияющие раны, оставленные словами в его сердце, как можно суше сказал:
– Я и не говорю, что это оскорбляет мою мать.
– Так что же тогда? – спросил Бык Маллиган.
– Это оскорбляет меня, – был ответ.
Бык Маллиган круто повернулся на каблуках.
– Нет, невозможный субъект! – воскликнул он.
И пошел прочь быстрым шагом вдоль парапета. Стивен остался на месте, недвижно глядя на мыс и на спокойную гладь залива. Море и мыс сейчас подернулись дымкой. В висках стучала кровь, застилая взор, и он чувствовал, как лихорадочно горят его щеки.
Громкий голос позвал снизу, из башни:
– Маллиган, вы где, наверху?
– Сейчас иду, – откликнулся Бык Маллиган.
Он обернулся к Стивену и сказал:
– Взгляни на море. Что ему до всех оскорблений? Бросай-ка лучше Лойолу, Клинк, и двигаем вниз. Наш сакс поджидает уже свой бекон.
Голова его задержалась на миг над лестницей, вровень с крышей.
– И не хандри из-за этого целый день. У меня же семь пятниц на неделе. Оставь скорбные думы.
Голова скрылась, но мерный голос продолжал, опускаясь, доноситься из лестничного проема:
Не прячь глаза и не скорби
Над горькой тайною любви,
Там Фергус правит в полный рост,
Владыка медных колесниц.
В мирном спокойствии утра тени лесов неслышно проплывали от лестничного проема к морю, туда, куда он глядел. У берега и мористей водная гладь белела следами стремительных легких стоп. Морской волны белеет грудь. Попарные сплетения ударений. Рука, перебирающая струны арфы, рождает сплетения аккордов. Слитносплетенных словес словно волн белогрудых мерцанье.
Облако медленно наползает на солнце, и гуще делается в тени зелень залива. Он был за спиной у него, сосуд горьких вод. Песня Фергуса. Я пел ее, оставшись дома один, приглушая долгие сумрачные аккорды. Дверь к ней была открыта: она хотела слышать меня. Безмолвно, с жалостью и благоговением, я приблизился к ее ложу. Она плакала на своем убогом одре. Над этими словами, Стивен: над горькой тайною любви.
Где же теперь?
Ее секреты в запертом ящичке: старые веера из перьев, бальные книжечки с бахромой, пропитанные мускусом, убор из янтарных бус. Когда она была девочкой, у ее окошка висела на солнце клетка с птицей. Она видела старика Ройса в представлении "Свирепый турка" и вместе со всеми смеялась, когда он распевал:
Открою вам,
Что рад бы сам
Я невидимкой стать.
Мимолетные радости, заботливо сложенные, надушенные мускусом.
Не прячь глаза и не скорби.
Сложены в памяти природы, вместе с ее детскими игрушками. Скорбные воспоминания осаждают его разум. Стакан воды из крана на кухне, когда она собиралась к причастию. Яблоко с сахаром внутри, испеченное для нее на плите в темный осенний вечер. Ее изящные ногти, окрашенные кровью вшей с детских рубашонок.
Во сне, безмолвно, она явилась ему, ее иссохшее тело в темных погребальных одеждах окружал запах воска и розового дерева, ее дыхание, когда она склонилась над ним с неслышными тайными словами, веяло сыростью могильного тлена.
Ее стекленеющие глаза уставились из глубин смерти, поколебать и сломить мою душу. На меня одного. Призрачная свеча освещает ее агонию. Призрачные блики на искаженном мукой лице. Громко раздается ее дыхание, хриплое, прерывающееся от ужаса, и, став на колени, все молятся. Взгляд ее на мне, повергнуть меня. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat [да окружат тебя лилиями венчанные сонмы исповедников веры, и хоры ликующих дев да возрадуются тебе (лат.); из католической молитвы за умирающих)].
Упырь! Трупоед!
Нет, мать. Отпусти меня. Дай мне жить.
– Эгей, Клинк!
Голос Быка Маллигана раздался певуче в глубине башни, приблизился, долетев от лестницы, позвал снова. Стивен, еще содрогаясь от вопля своей души, услышал теплый, щедрый солнечный свет и в воздухе за своей спиной дружеские слова.
– Будь паинькой, спускайся, Дедал. Завтрак готов. Хейнс извиняется за то, что мешал нам спать. Все улажено.
– Иду, – сказал Стивен, оборачиваясь.
– Давай, Христа ради, – говорил Маллиган. – И ради меня, и ради всеобщего блага.
Его голова нырнула и вынырнула.
– Я ему передал про твой символ ирландского искусства. Говорит, очень остроумно. Вытяни из него фунт, идет? То бишь, гинею.
– Мне заплатят сегодня, – сказал Стивен.
– В школьной шарашке? – осведомился Маллиган. – А сколько? Четыре фунта? Одолжи нам один.
– Как угодно, – отвечал Стивен.
– Четыре сверкающих соверена! – вскричал с восторгом Бык Маллиган. Устроим роскошный выпивон на зависть всем раздруидам. Четыре всемогущих соверена.
Воздев руки, он затопал по каменным ступеням вниз, фальшиво распевая с лондонским простонародным акцентом:
Веселье будет допоздна,
Мы хлопнем виски и вина,
В день Коронации
Мы славно покутим!
Веселье будет допоздна,
И все мы покутим!
Лучи солнца веселились над морем. Забытая никелевая чашка для бритья поблескивала на парапете. Почему я должен ее относить? Может, оставить тут на весь день, памятником забытой дружбе?
Он подошел к ней, подержал с минуту в руках, осязая ее прохладу, чувствуя запах липкой пены с торчащим в ней помазком. Так прежде я носил кадило в Клонгоузе. Сейчас я другой и все-таки еще тот же. Опять слуга. Прислужник слуги.
В мрачном сводчатом помещении внутри башни фигура в халате бодро сновала у очага, то скрывая, то открывая желтое его пламя. Мягкий дневной свет падал двумя снопами через высокие оконца на вымощенный плитами пол, и там, где снопы встречались, плыло, медленно вращаясь, облако дыма от горящего угля и горелого жира.
– Этак мы задохнемся, – заметил Бык Маллиган. – Хейнс, вы не откроете дверь?
Стивен поставил бритвенную чашку на шкафчик. Долговязый человек, сидевший на подвесной койке, направился к порогу и отворил внутреннюю дверь.
– А у вас есть ключ? – спросил голос.
– Ключ у Дедала, – отозвался Бык Маллиган. – Черти лохматые, я уже задыхаюсь!
Не отрывая взгляда от очага, он взревел:
– Клинк!
– Ключ в скважине, – сказал Стивен, подходя ближе.
Ключ с резким скрежетом дважды повернулся в замке, и тяжелая наружная дверь впустила долгожданные свет и воздух. Хейнс остановился в дверях, глядя наружу. Стивен придвинул к столу свой чемодан, поставив его торчком, и уселся ждать. Бык Маллиган шваркнул жарево на блюдо рядом с собой. Потом отнес блюдо и большой чайник к столу, поставил и вздохнул с облегчением.
– Ах, я вся таю, – произнес он, – как сказала свечка, когда... Но тес! Про это не будем. Клинк, проснись! Подавай хлеб, масло, мед. Присоединяйтесь, Хейнс. Кормежка готова. Благослови, Господи, нас и эти дары твои. Черт побери, молока нет!
Стивен достал из шкафчика масленку, хлеб и горшочек с медом. Бык Маллиган, усевшись, вскипел внезапным негодованием.
– Что за бардак? – возмутился он. – Я ж ей сказал – прийти в начале девятого.
– Можно и без молока обойтись, – сказал Стивен. – В шкафчике есть лимон.
– Да пошел ты со своими парижскими замашками! – отвечал Бык Маллиган. Я хочу молочка из Сэндикоува.
Хейнс, направляясь к ним от дверей, сообщил:
– Идет ваша молочница с молоком.
– Благодать божия! – воскликнул Бык Маллиган, вскакивая со стула. Присаживайтесь. Наливайте чай. Сахар в пакете. А с треклятой яичницей я больше не желаю возиться.
Он кое-как раскромсал жарево на блюде и раскидал его по трем тарелкам, приговаривая:
– In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti [во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.)].
Хейнс сел и принялся разливать чай.
– Кладу всем по два куска, – сказал он. – Слушайте, Маллиган, какой вы крепкий завариваете!
Бык Маллиган, нарезая хлеб щедрыми ломтями, замурлыкал умильным старушечьим голоском:
– Как надоть мне чай заваривать, уж я так заварю, говаривала матушка Гроган. А надоть нужду справлять, уж так справлю.
– Боже правый, вот это чай, – сказал Хейнс.
Бык Маллиган, нарезая хлеб, так же умильно продолжал:
– _Уж такой мой обычай, миссис Кахилл_, это она говорит. А миссис Кахилл на это: _Ахти, сударыня, только упаси вас Господи делать оба дела в одну посудину_.
На кончике ножа он протянул каждому из сотрапезников по толстому ломтю хлеба.
– Это же фольклор, – сказал он очень серьезно, – это для вашей книги, Хейнс. Пять строчек текста и десять страниц комментариев насчет фольклора и рыбообразных божеств Дандрама. Издано сестрами-колдуньями в год великого урагана.
Он обернулся к Стивену и, подняв брови, спросил его с крайней заинтересованностью:
– Не можете ли напомнить, коллега, где говорится про посудину матушки Гроган, в "Мабиногионе" или в упанишадах?
– Отнюдь не уверен, – солидно отвечал Стивен.
– В самом деле? – продолжал Бык Маллиган прежним тоном. – А отчего же, будьте любезны?
– Мне думается, – сказал Стивен, не прерывая еды, – этого не найти ни в "Мабиногионе", ни за его пределами. Матушка Гроган, по всей вероятности, состоит в родстве с Мэри Энн.
Бык Маллиган расплылся от удовольствия.
– Прелестно! – произнес он сюсюкающим и слащавым голосом, показывая белые зубы и жмурясь довольно. – Вы так полагаете? Совершенно прелестно!
Затем, вдруг нарочито нахмурясь, он хрипло, скрипуче зарычал, рьяно нарезая новые ломти:
На старуху Мэри Энн
Ей плевать с высоких стен,
Но, задравши свой подол...
Набив рот яичницей, он жевал и мычал.
В дверях, заслоняя свет, появилась фигура женщины.
– Молоко, сэр!
– Заходите, сударыня, – сказал Маллиган. – Клинк, подай-ка кувшин.
Старушка вошла и остановилась около Стивена.
– Славное утречко, сэр, – сказала она. – Слава Богу.
– Кому-кому? – спросил Маллиган, поглядев на нее. – Ах да, конечно!
Стивен, протянув руку за спину, достал из шкафчика молочный кувшин.
– Наши островитяне, – заметил Маллиган Хейнсу как бы вскользь, нередко поминают сборщика крайней плоти.
– Сколько, сэр? – спросила старушка.
– Одну кварту, – ответил Стивен.
Он смотрел, как она наливает в мерку, а оттуда в кувшин, густое белое молоко, не свое. Старые сморщенные груди. Она налила еще мерку с избытком. Древняя и таинственная, она явилась из утреннего мира, быть может, вестницей. Наливая молоко, она расхваливала его. В сочных лугах, чуть свет, она уже доила, сидя на корточках, ведьма на поганке, скрюченные пальцы проворны у набухшего вымени. Мычанием встречала ее привычный приход скотинка, шелковая от росы. Бедная старушка, шелковая коровка – такие прозвища давались ей в старину. Старуха-странница, низший род бессмертных, служащая своему захватчику и своему беззаботному обманщику, познавшая измену обоих, вестница тайны утра. Служить или укорять, он не знал; однако гнушался заискивать перед нею.
– И впрямь прекрасное, сударыня, – согласился Бык Маллиган, наливая им в чашки молоко.
– Вы, сэр, отведайте, – сказала она.
Уступая ей, он сделал глоток.
– Если бы все мы могли питаться такой вот здоровой пищей, – объявил он звучно, – в этой стране не было бы столько гнилых зубов и гнилых кишок. А то живем в болоте, едим дешевую дрянь, а улицы вымощены навозом, пылью и чахоточными плевками.
– А вы, сэр, на доктора учитесь? – спросила старушка.
– Да, сударыня, – ответил Бык Маллиган.
Стивен слушал, храня презрительное молчание. Она покорно внимает зычному голосу своего костоправа и врачевателя, меня она знать не знает. Голосу, который отпустит ей грехи и помажет для погребения ее тело, кроме женских нечистых чресл, сотворенное из плоти мужской не по подобию Божию, в добычу змею. И тому голосу, что сейчас заставляет ее умолкнуть, с удивлением озираясь.
– Вы понимаете, что он говорит? – осведомился у нее Стивен.
– Это вы по-французски, сэр? – спросила старушка Хейнса.
Хейнс с апломбом обратил к ней новую тираду, еще длинней.
– Это по-ирландски, – объяснил Бык Маллиган. – Вы гэльский знаете?
– Я так и думала по звуку, это ирландский, – сказала она. – А вы не с запада, сэр?
– Я англичанин, – ответил Хейнс.
– Он англичанин, – повторил Бык Маллиган, – и он считает, в Ирландии надо говорить по-ирландски.
– Нет спору, надо, – сказала старушка, – мне и самой стыд, что не умею на нашем языке. А люди умные говорят, язык-то великий.
– Великий – это не то слово, – заявил Бык Маллиган. – Он абсолютно великолепен. Плесни нам еще чайку, Клинк. Не хотите ли чашечку, сударыня?
– Нет, сэр, спасибо, – отвечала старушка, повесив на руку бидон и собираясь идти.
Хейнс обратился к ней:
– А счет у вас есть? Маллиган, надо бы заплатить, верно?
Стивен снова наполнил чашки.
– Счет, сэр? – неуверенно переспросила она. – Это значит, семь дней по пинте по два пенса это семь раз по два это шиллинг два пенса да эти три дня по кварте по четыре пенса будет три кварты это выходит шиллинг да там один и два всего два и два, сэр.
Бык Маллиган вздохнул и, отправив в рот горбушку, густо намазанную маслом с обеих сторон, вытянул вперед ноги и начал рыться в карманах.
– Платить подобает с любезным видом, – сказал улыбаясь Хейнс.
Стивен налил третью чашку, слегка закрасив ложечкой чая густое жирное молоко. Бык Маллиган выудил из кармана флорин и, повертев его в пальцах, воскликнул:
– О, чудо!
Он пододвинул флорин по столу к старушке, приговаривая:
– Радость моя, для тебя все, что имею, отдам.
Стивен вложил монету в ее нежадную руку.
– За нами еще два пенса, – заметил он.
– Это не к спеху, сэр, – уверяла она, убирая монету. – Совсем не к спеху. Всего вам доброго, сэр.
Поклонившись, она ушла, напутствуемая нежным речитативом Быка Маллигана:
– Я бы с восторгом весь мир
К милым повергнул стопам.
Он обернулся к Стивену и сказал:
– Серьезно, Дедал. Я совсем на мели. Беги в свою школьную шарашку да принеси оттуда малость деньжонок. Сегодня бардам положено пить и пировать. Ирландия ожидает, что в этот день каждый выполнит свой долг.
– Что до меня, – заметил Хейнс, поднимаясь, – то я должен сегодня посетить вашу национальную библиотеку.
– Сперва поплавать, – заявил Бык Маллиган.
Он обернулся к Стивену и самым учтивым тоном спросил:
– Не сегодня ли, Клинк, день твоего ежемесячного омовения?
И пояснил, обращаясь к Хейнсу:
– Оный нечистый бард имеет правило мыться один раз в месяц.
– Всю Ирландию омывает Гольфстрим, – промолвил Стивен, поливая хлеб струйкой меда.
Хейнс отозвался из угла, легким узлом повязывая шейный платок под открытым воротом спортивной рубашки:
– Я буду собирать ваши изречения, если вы позволите.
Обращено ко мне. Они моются, банятся, оттираются. Жагала сраму. Совесть. А пятно все на месте.
– Это отлично сказано, что треснувшее зеркало служанки – символ ирландского искусства.
Бык Маллиган, толкнув Стивена ногой под столом, задушевно пообещал:
– Погодите, Хейнс, вот вы еще послушаете его о Гамлете.
– Нет, я в самом деле намерен, – продолжал Хейнс, обращаясь к Стивену. – Я как раз думал на эту тему, когда пришло это ветхое создание.
– А я что-нибудь заработаю на этом? – спросил Стивен.
Хейнс рассмеялся и сказал, снимая мягкую серую шляпу с крюка, на котором была подвешена койка:
– Чего не знаю, того не знаю.
Неторопливо он направился к двери. Бык Маллиган перегнулся к Стивену и грубо, с нажимом прошипел:
– Не можешь без своих штучек. Для чего ты это ему?
– А что? – возразил Стивен. – Задача – раздобыть денег. У кого? У него или у молочницы. По-моему, орел или решка.
– Я про тебя ему уши прожужжал, – не отставал Бык Маллиган, – а тут извольте, ты со своим вшивым злопамятством да замогильными иезуитскими шуточками.
– У меня нет особой надежды, – заметил Стивен, – как на него, так и на нее.
Бык Маллиган трагически вздохнул и положил руку Стивену на плечо.
– Лишь на меня, Клинк, – произнес он.
И совсем другим голосом добавил:
– Честно признаться, я и сам считаю, ты прав. На хрена они, кроме этого, сдались. Чего ты их не морочишь, как я? Пошли они все к ляду. Надо выбираться из этого бардака.
Он встал, важно распустил пояс и совлек с себя свой халат, произнося отрешенным тоном:
– И был Маллиган разоблачен от одежд его.
Содержимое карманов он выложил на стол со словами:
– Вот тебе твой соплюшник.
И, надевая жесткий воротничок и строптивый галстук, стыдил их и укорял, а с ними и запутавшуюся часовую цепочку. Руки его, нырнув в чемодан, шарили там, покуда он требовал себе чистый носовой платок. Жагала сраму. Клянусь богом, мы же обязаны поддерживать репутацию. Желаю бордовые перчатки и зеленые башмаки. Противоречие. Я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе. Ветреник Малахия. Его говорливые руки метнули мягкий черный снаряд.
– И вот твоя шляпа, в стиле Латинского Квартала.
Стивен поймал ее и надел на голову. Хейнс окликнул их от дверей:
– Друзья, вы двигаетесь?
– Я готов, – отозвался Бык Маллиган, идя к двери. – Пошли, Клинк. Кажется, ты уже все доел после нас.
Отрешенный и важный, проследовал он к порогу, не без прискорбия сообщая:
– И, пойдя вон, плюхнулся с горки.
Стивен, взяв ясеневую тросточку, стоявшую у стены, тронулся за ним следом. Выйдя на лестницу, он притянул неподатливую стальную дверь и запер ее. Гигантский ключ сунул во внутренний карман.
У подножия лестницы Бык Маллиган спросил:
– А ты ключ взял?
– Да, он у меня, – отвечал Стивен, перегоняя их.
Он шел вперед. За спиной у себя он слышал, как Бык Маллиган сбивает тяжелым купальным полотенцем верхушки папоротников или трав.
– Кланяйтесь, сэр. Да как вы смеете, сэр.
Хейнс спросил:
– А вы платите аренду за башню?
– Двенадцать фунтов, – ответил Бык Маллиган.
– Военному министру, – добавил Стивен через плечо.
Они приостановились, покуда Хейнс разглядывал башню. Потом он заметил:
– Зимой унылое зрелище, надо думать. Как она называется, Мартелло?
– Их выстроили по указанию Билли Питта, – сказал Бык Маллиган, – когда с моря угрожали французы. Но наша – это омфал.
– И какие же у вас идеи о Гамлете? – спросил у Стивена Хейнс.
– О нет! – воскликнул страдальчески Бык Маллиган. – Я этого не выдержу, я вам не Фома Аквинат, измысливший пятьдесят пять причин. Дайте мне сперва принять пару кружек.








