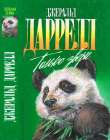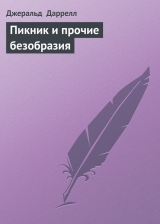
Текст книги "Пикник и прочие безобразия"
Автор книги: Джеральд Даррелл
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Скрипач ответил, что они знают только одну такую мелодию – “В воскресенье нельзя”.
Капитана чуть не хватил удар. Побагровев, он вскинул руки и обратился к публике. Кто-нибудь, вопросил он риторически, когда-нибудь слышал о греческом оркестре, не знающем греческих мелодий?
– М-м-м, – отозвалась публика, как это свойственно публике, когда она не совсем понимает, что происходит.
– Позвать сюда старшего помощника! – взревел капитан. – Где Яни Попадопулос?
Сжав кулаки, сверкая золотым оскалом, он стоял посреди танцевальной площадки с таким грозным видом, что официанты мигом бросились искать старшего помощника, каковой вскоре явил народу свой встревоженный лик, видимо опасаясь, что нос парохода обзавелся еще одной пробоиной.
– Попадопулос, – прорычал капитан, – разве песни Греции – не один из лучших элементов нашего культурного наследия?
– Само собой, – с облегчением ответил Попадопулос, видя, что его служебному положению ничто не угрожает; даже самый безрассудный капитан не мог бы вменить ему в вину какое бы то ни было состояние музыкального наследия Греции.
– Так почему же ты никогда не докладывал мне, – продолжал капитан, сверля взглядом старшего помощника, – что этот оркестр не знает греческих мелодий?
– Они знают, – возразил старший помощник.
– Нет, не знают.
– Но я сам слышал! – настаивал Попадопулос.
– Что они играли? – зловеще вопросил капитан.
– “В воскресенье нельзя”, – торжествующе ответил старший помощник.
Греческое слово “экскрете” (извержение, испражнение) как нельзя лучше выражает способ дать выход обуревающему человека гневу.
– Ската! Ската! – закричал капитан. – К чертям собачьим “В воскресенье нельзя”! Я говорю о культурном наследии Греции, а ты предлагаешь мне песенку про путану. Это культура? Кому это нужно?
– Путаны нужны команде, – заявил старший помощник. – Что до меня, то у меня прекрасная жена…
– Знать не хочу ни о каких путанах, – прорычал капитан. – Неужели на всем корабле нет никого, кто мог бы играть настоящие греческие песни?
– Почему же, – отозвался Попадопулос, – наш электрик Таки играет на бузуки, и у кого-то из механиков, по-моему, есть гитара.
– Приведи их! – рявкнул капитан. – Веди всех, кто умеет играть греческие песни.
– А если все умеют? – сказал педант Попадопулос. – Кто тогда будет управлять судном?
– Исполняй, идиот! – выпалил капитан с такой яростью, что старший помощник побледнел и живо исчез.
Проявив свою власть, капитан вновь обрел хорошее настроение. Вернулся с ослепительной улыбкой к нашему столу и заказал еще напитки. Вскоре из недр парохода явилась пестрая компания полуголых в большинстве людей, вооруженных тремя бузуками, флейтой и двумя гитарами. У одного был даже аккордеон. Капитан остался доволен, однако от услуг аккордеониста отказался.
– Но, капитан, – огорчился тот, – я хорошо играю.
– Это не греческий инструмент, – строго произнес капитан, – его придумали итальянцы. Неужели ты думаешь, что мы играли на итальянских инструментах, когда строили Акрополь?
– Но я хорошо играю, – не сдавался аккордеонист. – Я умею играть “В воскресенье нельзя”.
Хорошо, что казначей поспешил выдворить его из ночного клуба, пока капитан не добрался до бедняги.
Остаток вечера прошел замечательно, лишь несколько мелких происшествий омрачили атмосферу наших культурных развлечений. Исполняя трудный танец хосапико, Лесли при попытке в высоком прыжке ударить себя ладонями по пяткам сместил позвонок, а Ларри растянул голеностоп, поскользнувшись на тыквенных семечках, которыми кто-то заботливо посыпал пол танцевальной площадки. Более болезненно эта забота отозвалась на бармене. Он задумал танцевать, поставив на голову стакан, как ему представлялось, с водой, поскользнулся и шлепнулся на спину. Содержимое стакана выплеснулось ему на лицо; к несчастью, в нем была не вода, а неразбавленная анисовая водка – на вид не отличишь, но для глаз чрезвычайно неприятно. Зрение бармена спас судовой казначей: сохранив присутствие духа, он схватил сифон с содовой водой и направил в лицо бедняги струю такой силы, что глаза того едва не выскочили из орбит, сводя на нет терапевтическое действие соды. Стонущего бармена отвели в его каюту, и танцы возобновились. Веселье продолжалось до утра, когда, подобно догорающей свече, угасло после двух-трех слабых вспышек. Мы устало добрели до своих коек, меж тем как небо из опалового становилось голубым и море расписали полосы тумана.
Жизнь кипела на борту парохода, когда мы поднялись на ноги, следуя призыву собраться в главном салоне. Вскоре там же появился казначей, поклонился маме и Марго, передал привет от капитана и пригласил нас всех подняться на мостик и полюбоваться панорамой порта. Мама милостиво согласилась принять участие в великом событии с таким видом, точно ей было предложено самолично осуществить спуск судна на воду. После короткого, типично греческого завтрака (холодные гренки, холодный бекон и холодные яйца на ледяных тарелках, плюс теплый чай – нет, кофе, почему-то поданный нам в фарфоровом чайнике) мы дружно взошли на мостик.
Капитан, чье слегка потухшее после утомительной ночи лицо отнюдь не утратило своего обаяния, радостно приветствовал нас, вручил Марго и маме по гвоздике, с гордым видом показал нам рулевую рубку, после чего повел нас на палубу, именуемую, согласно утверждениям Ларри, квартердеком. Отсюда нам открылся превосходный вид как на нос, так и на корму нашего “Посейдона”. Старший помощник стоял возле лебедки, обмотанной, словно диковинным ржавым ожерельем, якорной цепью, рядом с ним мы увидели матросов, три из которых, если не больше, входили в состав импровизированного оркестра. Все они приветственно махали нам и посылали воздушные поцелуи Марго.
– Марго, дорогая, – сказала мама, – тебе не следует так уж фамильярничать с этими моряками.
– О, мама, не будь такой старомодной, – отозвалась Марго, возвращая воздушные поцелуи. – Как-никак, у меня есть бывший муж и двое детей.
– Именно расточая воздушные поцелуи незнакомым морякам, ты остаешься с двумя детьми и бывшими мужьями, – мрачно заметила мама.
– А теперь, – сказал капитан, сверкая на солнце золотыми зубами, – приглашаю вас, мисс Марго, посмотреть на наш радар. Это устройство позволяет нам избегать столкновений и катастроф на море. Если бы Улисс располагал радаром, он смог бы плыть гораздо дальше, верно? За Геркулесовы столбы, вы согласны? И мы, греки, могли бы открыть Америку… Идемте.
Он завел Марго в рулевую рубку и принялся объяснять принцип действия радара. Корабль в это время приближался к пристани со скоростью велосипеда, укрощаемого пожилым джентльменом. Старший помощник не сводил глаз с мостика, ожидая команды, точно охотничий пес в стойке перед первой в сезоне куропаткой. Тем временем капитан рассказывал Марго, что при помощи радара греки могли бы открыть не только Америку, но и Австралию. Глядя, как сокращается расстояние между нами и пристанью, Лесли забеспокоился.
– Послушайте, капитан! – крикнул он. – Не следует ли нам отдать якорь?
Капитан отвернулся от Марго, и улыбка на его лице сменилась сугубо официальной миной.
– Прошу вас, мистер Даррелл, не беспокойтесь. Все в полном порядке.
Тут же, подняв глаза, он увидел впереди надвигающуюся на корабль, словно несокрушимый цементный айсберг, высокую пристань.
– Матерь Божья, спаси! – крикнул он по-гречески, выскакивая из рубки. – Попадопулос! Отдать якорь!
Именно этой команды ждал старший помощник. Сразу все зашевелились, загремела якорная цепь, тяжелый якорь шумно шлепнулся в воду, и цепь продолжала греметь, разматываясь. Однако корабль упорно продолжал скользить вперед. Было очевидно, что якорь отдан слишком поздно, чтобы играть присущую ему роль тормоза. Капитан, готовый, как и всякий судоводитель, незамедлительно реагировать в чрезвычайных обстоятельствах, ворвался в рулевую рубку, отдал команду “полный назад!” и резко повернул штурвал, оттолкнув рулевого. Увы, ни блестящая оценка ситуации, ни быстрая реакция, ни мастерство судоводителя уже не могли спасти нас.
Продолжая разворачиваться, “Посейдон” с грохотом врезался в пристань. Учитывая, как медленно мы двигались, я ожидал, что нас лишь чуть-чуть тряхнет. Я ошибался. Казалось, мы напоролись на мину. Семейство Дарреллов кучно упало на палубу. Три тучные леди, которые в это время спускались по трапу, лавиной покатились вниз. Никто не устоял на ногах, даже сам капитан. Ларри рассек себе лоб, мама ушибла ребра, Марго порвала чулки. Капитан живо поднялся на ноги, покрутил штурвал, отдал необходимые команды в машинное отделение, после чего с искаженным яростью лицом вышел на мостик.
– Попадопулос! – заорал он злополучному старшему помощнику, который медленно вставал, вытирая разбитый нос. – Ты – сын путаны, болван, осел! Незаконный отпрыск подзаборного турецкого кретина! Почему не отдал якорь?
– Но, капитан, – промычал старший помощник через окровавленный носовой платок, – ты не отдавал такой команды.
– Неужели я один должен следить за всем здесь на борту! – бушевал капитан. – Управлять кораблем, следить за машиной, собирать оркестр, умеющий исполнять греческие мелодии? Матерь Божья!
Он спрятал лицо в ладонях.
Кругом царила какофония, обычная для греческих ситуаций. Дикий шум, трагическая фигура капитана – казалось, мы стали свидетелями одной из сцен Трафальгарской битвы.
– Да уж, мама, – произнес Ларри, стирая с век капли крови, – это была блестящая идея. Поздравляю тебя. Однако я, пожалуй, полечу домой. Если мы еще благополучно сойдем на берег.
Наконец ходячим раненым разрешили спуститься на пристань, и мы увидели, что “Посейдон” обзавелся с другой стороны новой пробоиной, почти идентичной первой.
– Что ж, теперь хотя бы установилась полная гармония, – мрачно заметил Лесли.
– Ой, смотрите! – воскликнула Марго. – Наши бедные старые музыканты!
Она помахала им, три джентльмена в ответ поклонились нам, стоя на палубе. Мы рассмотрели, что скрипач сильно рассек себе лоб, а переносица владельца тубы была залеплена пластырем. Наши приветствия явно были восприняты как знак поддержки их достоинства, столь прискорбно подорванного унизительной отставкой накануне вечером, три музыканта дружно повернулись лицом к мостику, демонстративно подняли свои тубу, тромбон и скрипку и заиграли.
Сверху до нас донеслись звуки “В воскресенье нельзя”.


ВЫПУСКНИКИ ЧАСТНЫХ ШКОЛ
Венеция – один из красивейших городов Европы, и я часто посещал ее, однако задерживаться не приходилось. Каждый раз я спешил куда-то еще, а потому для настоящего знакомства не оставалось времени. И вот однажды летом, когда царила жара и я здорово устал от работы и ощутил охоту к перемене мест, решил я на неделю съездить в Венецию, отдохнуть и получше изучить город. Сказал себе, что спокойный отдых в такой обстановке – как раз то, что мне нужно. Редко мне доводилось так раскаиваться в принятом решении; знай я, чем все обернется, скорее улетел бы в Нью-Йорк, или Буэнос-Айрес, или Сингапур, чем отправляться в дивную Венецию.
Мой путь пролегал через Францию с ее бесподобными ландшафтами, через аккуратистку Швейцарию, через высокие перевалы, где на обочинах еще лежали безобразные серые сугробы, и дальше вниз, в Италию, к месту назначения. Погода стояла прекрасная до той самой минуты, когда я въехал на мост, соединяющий город с материком. Тут небо, как по мановению волшебного жезла, вместо синего стало черным, с прожилками ярко-голубых и белых молний, и обрушило на землю такие потоки, что никакие “дворники” не спасали и на дороге замерли длинные вереницы автомобилей, упираясь бамперами друг в друга. В обездвиженных ливнем машинах сотни итальянцев бились в истерике, отчаянно сигналя и облегчая душу отборной бранью.
Продвигаясь дюйм за дюймом вперед, я наконец добрался до гаража за мостом. Благополучно пристроив здесь машину, высмотрел дородного носильщика, и под сильным дождем мы понеслись галопом к пристани, где ждал катер, принадлежащий гостинице, в которой я забронировал номер. Дождь хлестал мои чемоданы, и к тому времени, когда мы достигли цели, я рассчитался с носильщиком и вместе с багажом очутился на борту катера, мой тонкий летний костюм больше всего походил на мокрые тряпки. Однако едва мы тронулись в путь, ливень сменился легкой летучей моросью, окутавшей каналы, точно батистовой тонкой вуалью, так что красновато-коричневые и розовые стены домов смотрелись совсем как на прекрасных полотнах Каналетто с их мягкими полутонами.
Быстро промчавшись по Большому каналу, катер пришвартовался к пристани у моей гостиницы. Смолк, поперхнувшись, мотор, в это время мимо нас проплыла гондола, довольно вяло управляемая промокшим насквозь гондольером. Два пассажира были защищены от ненастья большим зонтом, так что я не видел их лиц, однако в ту минуту, когда гондола свернула в боковой канал, ведущий к дому Марко Поло, из-под зонта до моего слуха донесся звонкий женский английский голос (несомненно, продукт Роудин-Скул, одной из ведущих привилегированных частных школ Англии).
– Ну конечно, Неаполь очень похож на Венецию, только воды там меньше, – пропела живая флейта.
Я остолбенел. Стоя на пристани и провожая глазами удаляющуюся гондолу, я говорил себе, что мне почудилось; между тем во всем мире не было второго такого голоса, к тому же способного высказать такое смехотворное суждение. Он принадлежал одной моей подруге, которую я не видел лет тридцать, а именно – Урсуле Пендрагон-Уайт, пожалуй, самой обожаемой изо всех моих подруг, что не мешало ей порой повергать меня в полное смятение.
Меня терзало не только ее безалаберное обращение с английским языком (это она однажды рассказала мне, что ее подруга решилась на промывание, не желая производить на свет неграмотного младенца), но и бесцеремонное вмешательство в частную жизнь ее многочисленных знакомых. Последний случай такого рода, запечатленный в моей памяти, – как она пыталась повлиять на своего друга, который, по ее словам, пил так много, что ему грозила девальвация.
Нет-нет, сказал я себе, не может быть. Урсула благополучно вышла замуж за бесцветного молодого джентльмена и поселилась вместе с ним в Гемпширской глуши. С какой стати ей оказаться в Венеции в такое время года, когда все прилежные фермерские жены помогают мужьям убирать урожай или организуют благотворительные базары в своей деревне. Как бы то ни было, сказал я себе, если это все-таки Урсула, не дай Бог снова войти с ней в соприкосновение. Я приехал в Венецию в поисках мира и покоя, а по прошлому опыту общения с Урсулой слишком хорошо знал, что ее присутствие начисто исключает и то и другое. Как человек, которому довелось во время исполнения творений Моцарта гоняться за щенком китайского мопса в битком набитом концертном зале, я мог немало рассказать о способностях Урсулы без особых усилий ставить людей в невыносимейшее положение. Нет, повторил я, это не Урсула, а если все же она – слава Богу, что не увидела меня.
Гостиница была роскошная, просторный и красиво обставленный номер с видом на Большой канал – весьма комфортабельный. Сбросив мокрую одежду, приняв душ и глотнув спиртного, я увидел, что погода переменилась и Венеция переливается нежными красками в лучах заходящего солнца. Гуляя по многочисленным переулкам, пересекая маленькие мосты над каналами, я вышел наконец на огромную площадь Святого Марка, окаймленную барами. В каждом из них играл свой оркестр, и в прозрачном воздухе кружили сотни голубей, пикируя на щедро рассыпаемую людьми кукурузу на мозаичной мостовой. Сквозь полчища голубей я пробился к Дворцу дожей, с картинами которого мечтал познакомиться. Дворец был набит туристами самых разных национальностей, от японцев, увешанных фотокамерами, как рождественская елка игрушками, до тучных немцев с их гортанной речью и гибких светловолосых шведов. Влекомый потоком человеческой лавы, я медленно плыл из зала в зал, любуясь живописью. Внезапно откуда-то спереди до моего слуха донесся певучий голос.
– В прошлом году в Испании я посмотрела все картины Грюера… такие мрачные, сплошные трупы и все такое. Тяжелое зрелище, не то что здесь. Право же, Канеллони – мой самый любимый итальянский художник. Высший класс!
Конец моим сомнениям – это Урсула. Никакая другая женщина не сумела бы так тесно переплести сыр, макароны и двух живописцев. Осторожно протиснувшись сквозь толпу, я рассмотрел ее характерный профиль, большие ярко-синие глаза, длинный утиный нос с плоским кончиком – очаровательный эффект – и шапку все еще черных волос, правда, с серебристыми нитями. Она была все так же прекрасна, годы милостиво обошлись с ней.
Урсулу сопровождал растерянный мужчина средних лет, с удивлением слушающий ее оценки, соединяющие живопись и кулинарию. По выражению его лица я заключил, что это какой-то недавний знакомый Урсулы, потому что всякий основательно знающий ее человек спокойно воспринял бы ее реплику.
Как ни хороша она была, я сознавал, что ради моего душевного спокойствия лучше не возобновлять знакомство, дабы какая-нибудь каверза не испортила мне весь отпуск. Неохотно покидал я Дворец, решив прийти на другой день, когда Урсула вдоволь насмотрится живописи. Вернувшись на площадь Святого Марка, выбрал кафе поуютнее, полагая, что вполне заслужил право выпить стаканчик бренди с содовой. Все кафе вокруг площади были битком набиты посетителями, и я надеялся, что это позволит мне остаться незамеченным. К тому же я был уверен, что Урсула не узнает меня, даже если увидит – я заметно прибавил в весе, поседел и отрастил бороду.
Итак, я спокойно наслаждался своим бренди под звуки прелестного вальса Штрауса. Ласковое солнце, приятный напиток и умиротворяющая музыка внушили мне ложное ощущение безопасности. Я забыл о присущей Урсуле способности (весьма развитая у большинства женщин, у нее она граничила с волшебством), войдя в наполненное людьми помещение и окинув его беглым взглядом, не только всех разглядеть, но и описать, в чем каждый был одет. Словом, мне вовсе не следовало удивляться, когда сквозь звуки музыки и гомон в кафе до моего слуха донесся ее голос.
– Дорогой! Дорогой! – кричала она, пробираясь ко мне между столиками. – Джерри, дорогой, это я, Урсула!
Я встал, готовый встретить свою погибель. Урсула бросилась в мои объятия, и губы ее слились с моими губами в долгом поцелуе, сопровождаемом стонущими звуками, какие (даже в наш век терпимости) обычно ассоциируются с альковными сценами. Я уже начал опасаться, что итальянская полиция вот-вот арестует нас за нарушение общественного порядка, наконец она с явной неохотой отступила на шаг, продолжая крепко сжимать мои руки.
– Дорогой, – ворковала Урсула, и в ее огромных синих глазах сверкали счастливые слезы, – дорогой… Я не верю своим глазам… увидеть тебя снова после стольких лет… это чудо… о, я так счастлива, дорогой. Как это здорово – увидеть тебя снова.
– Но как ты меня узнала? – спросил я, отдышавшись.
– Как узнала, дорогой? Глупенький, ты нисколько не изменился, – покривила она душой. – К тому же, дорогой, я видела тебя по телевизору, видела фотографии на обложках твоих книг, еще бы мне не узнать тебя.
– Что ж, я очень рад нашей встрече, – сдержанно произнес я.
– Дорогой, мы не виделись сто лет, – отозвалась она, – слишком долго.
Я отметил, что она рассталась с тем растерянным джентльменом средних лет.
– Садись, – предложил я, – выпей стаканчик.
– Конечно, любимый, с удовольствием. – Она элегантно опустилась на стул.
Я подозвал официанта.
– Что ты пьешь? – спросила Урсула.
– Бренди с содовой.
– Фу! – воскликнула она, деликатно передернув плечами. – Отвратительная смесь. Тебе не следует ее пить, это кончится испарением печени.
– Оставь в покое мою печень, – страдальчески вымолвил я. – Ты что станешь пить?
– Мне что-нибудь вроде Бонни Принц Чарльз.
Официант тупо воззрился на нее. Ему еще не доводилось слышать лексические упражнения Урсулы.
– Мадам желает рюмку дюбонне, – объяснил я, – а мне принесите еще бренди.
Я сел, и Урсула, наклонясь над столом, с чарующей улыбкой схватила двумя руками мою руку.
– Дорогой, разве это не романтично? – спросила она. – Мы встречаемся с тобой столько лет спустя в Венеции! В жизни не слышала ничего более романтичного, ты согласен?
– Согласен, – осторожно ответил я. – А где твой муж?
– Как? Разве ты не знаешь? Я развелась.
– Извини.
– Ничего, ничего. Это было даже к лучшему. Понимаешь, после ящура он, бедняга, был уже совсем не тот, что прежде.
Мне не помог даже прежний опыт общения с Урсулой.
– У Тоби был ящур? – спросил я.
– Да… ужасно, – произнесла она, вздыхая, – и он так и не пришел в себя.
– Еще бы. Но ведь ящур у людей – это, должно быть, большая редкость?
– У людей? – Она сделала круглые глаза. – Как тебя понимать?
– Да ведь ты сказала, что Тоби… – начал я, но меня перебил громкий смех Урсулы.
– Глупенький, – вымолвила она, хохоча. – Я говорила про его скотину. Все его племенное стадо, которое он выращивал годами. Ему пришлось всех зарезать, и это страшно подействовало на беднягу. Он начал водиться с недостойными женщинами, пьянствовал в ночных клубах, и все такое прочее.
– Вот уж никогда не думал, – сказал я, – что у ящура могут быть такие серьезные последствия. А Министерству сельского хозяйства известно про этот случай?
– Ты думаешь, это могло бы их заинтересовать? – удивилась Урсула. – Если хочешь, я могу написать им и рассказать.
– Нет-нет, – поспешил я возразить. – Я просто пошутил.
– Ладно. Теперь расскажи мне про твой брак.
– Я тоже развелся.
– Ты тоже? Дорогой, я же сказала, что это романтическая встреча. – Ее глаза затуманились. – Мы встречаемся с тобой в Венеции после расторгнутых браков. Совсем как в романах, дорогой.
– Вряд ли нам следует особенно зачитываться этим романом.
– А какие у тебя дела в Венеции? – спросила она.
– Никаких, – ответил я неосмотрительно. – Просто приехал отдохнуть.
– О, чудесно, дорогой, тогда ты можешь мне помочь! – воскликнула Урсула.
– Нет! – поспешил я ответить. – Это исключено.
– Дорогой, ты еще даже не знаешь, о чем я хочу тебя попросить, – жалобно молвила она.
– И знать не хочу. Все равно не стану помогать.
– Милый, мы столько лет не виделись, а ты сразу, даже не выслушав, так груб со мной, – возмутилась Урсула.
– Ничего. Я знаю по горькому опыту, на какие затеи ты способна, и вовсе не намерен тратить свой отпуск, участвуя в твоих ужасных махинациях.
– Ты противный, – сказала она, и губы ее задрожали, а синие, как цветки льна, глаза налились слезами. – Жутко противный… я тут одна в Венеции, без мужа, а ты не хочешь даже пальцем пошевелить, чтобы выручить меня в беде. Это не по-рыцарски с твоей стороны… ты гадкий… и… противный.
– Ну ладно, ладно, – простонал я, – выкладывай, в чем дело. Только учти, я не стану ни во что вмешиваться. Я приехал сюда провести несколько дней в мире и покое.
– Так вот, – начала Урсула, вытирая глаза и подкрепляясь глотком дюбонне. – Я приехала сюда, чтобы, можно сказать, совершить акт милосердия. Дело чрезвычайно трудное, возможны ослижнения.
– Ослижнения? – не удержался я.
Урсула осмотрелась кругом, проверяя нет ли кого поблизости. Так как поблизости было всего лишь около пяти тысяч веселящихся иностранцев, она посчитала, что может спокойно довериться мне.
– Ослижнения на высоком уровне, – продолжала она, понизив голос. – Это должно оставаться только между нами.
– Ты хочешь сказать – осложнения? – спросил я, желая придать беседе более осмысленный характер.
– Я сказала именно то, что подразумеваю, – сухо ответила Урсула. – Может быть, перестанешь меня поправлять? Эти вечные попытки поправлять меня всегда были одной из твоих худших черт. Это ужасно неприятно, дорогой.
– Извини, – произнес я покаянно. – Валяй, рассказывай, кто там, на высоком уровне кого ослизывает.
– Ну вот. – Она понизила голос так, что ее слова с трудом доходили до меня сквозь окружающий нас гомон. – Тут замешан герцог Толпаддльский. Я потому и приехала в Венецию, что Реджи и Марджери, да и Перри тоже доверяют только мне, и как герцог, разумеется, он просто душка, который страшно страдает от этого скандала, и когда я сказала, что приеду, они, конечно, сразу ухватились за эту возможность. Но ты не должен никому ни слова говорить об этом, дорогой, обещаешь?
– О чем я не должен говорить ни слова? – озадаченно справился я, давая жестом понять официанту, чтобы принес еще выпить.
– Но я ведь только что тебе сказала, – нетерпеливо произнесла Урсула. – О Реджи и Марджери. И Перри. И о герцоге, разумеется.
Я сделал глубокий вдох.
– Но я не знаю этих Реджи, Марджери и Перри. И герцога тоже.
– Не знаешь? – удивилась Урсула.
И я вспомнил, как ее всегда удивляло, что я не знаю никого из широкого скучного круга ее знакомых.
– Нет. А потому, сама понимаешь, я затрудняюсь понять, в чем дело. Могу только представить себе самые разные варианты – то ли все они заболели проказой, то ли герцога поймали на незаконном производстве спиртного.
– Что за глупости ты говоришь, дорогой, – возмутилась Урсула. – У него в роду нет алкоголиков.
Я снова вздохнул.
– Послушай, может быть, ты просто расскажешь, кто из них кому что сделал, учитывая, что я никого из них не знаю и, по правде говоря, предпочел бы не знать.
– Хорошо, – согласилась Урсула. – Перегрин – единственный сын герцога. Ему только что исполнилось восемнадцать, и он славный парень, несмотря на это.
– Несмотря на что? – растерянно спросил я.
– Несмотря на совершеннолетие, – последовал нетерпеливый и не очень вразумительный ответ.
Я решил не трогать очередную загадку.
– Продолжай, – сказал я, надеясь, что дальше все прояснится.
– Так вот, Перри учился в колледже Сент-Джонс… ну, ты знаешь, это жутко шикарная школа, про нее еще говорят, что она лучше Итона Харроу.
– Десять тысяч фунтов за триместр, не считая питание? Как же, слышал.
– Дорогой, туда принимают детей только самых видных родителей, – продолжала Урсула. – Это такое же изысканное заведение, как… как… как…
– Как универмаг “Харродз”?
– Что-то в этом роде, – неуверенно согласилась Урсула.
– Итак, Перри учился в колледже Сент-Джонс, – напомнил я.
– Ну да, и директор не мог на него нахвалиться. И тут вдруг гром среди ясного неба. – Она перешла на выразительный шепот.
– Гром? Что за гром?
– Среди ясного неба, милый, – нетерпеливо пояснила Урсула. – Ты отлично знаешь, и вообще, не прерывай меня, дорогой, дай досказать.
– Я только этого и жду. Пока что я услышал только про какого-то герцогского сынка, про гром и даже не понял толком, при чем тут небо.
– Так помолчи и послушай, я все объясню. Ты совсем не даешь мне говорить.
Я вздохнул.
– Хорошо. Молчу.
– Спасибо, милый. – Она сжала мою руку. – Так вот, значит. До этого грома Перри отлично успевал. Тут в его школу явились Реджи и Марджери. Реджи взяли на должность учителя рисования, он ведь здорово пишет маслом, и гравирует, и все такое прочее, хотя, на мой вкус, он несколько эксцентричен, я даже удивилась, честное слово, что его взяли в такое изысканное заведение, где не очень-то жалуют эксцентриков, сам понимаешь.
– Почему он эксцентрик?
– Ну, скажи сам, милый, разве это не эксцентрично – повесить над камином в гостиной портрет собственной жены в обнаженном виде? Я говорила ему – если уж непременно захотелось вешать ее на стену, лучше повесил бы в ванной, на что он ответил, что сперва подумывал украсить этой картиной комнату для гостей. Как иначе назвать его после этого, милый, если не эксцентриком?
Я не стал говорить ей, что заочно проникся симпатией к Реджи.
– Значит, роль грома исполнил Реджи?
– Да нет же, милый, громом была Марджери. Перри, как только увидел ее, сразу безумно влюбился, она ведь и впрямь хороша собой. Если тебе по вкусу женщины из Полинезии, которых рисовал Шопен.
– Может быть, Гоген?
– Возможно, – неуверенно отозвалась Урсула. – Во всяком случае, она очень мила, разве что малость глуповата. С Перри она повела себя очень глупо, стала его поощрять. И тут ударил еще один гром.
– Еще один гром? – Мужайся, велел я себе.
– Ну да. Эта дурочка, в свою очередь, влюбилась в Перри, а ты ведь знаешь, она ему почти в матери годится, и у нее есть ребенок. Ну, может, в матери и не годится, но ему-то всего восемнадцать, а ей уж точно тридцать, хоть она все время твердит, что двадцать шесть, но все равно, совсем неприличная история вышла. Естественно, Реджи совсем захандрил.
– У него был простой способ решить проблему – подарил бы Перри портрет Марджери, – предложил я.
Урсула укоризненно посмотрела на меня.
– В этом нет ничего смешного, милый, – строго заметила она. – Поверь мне, мы все были в полном смятении.
Я представил себе, какое это должно быть увлекательное зрелище – некий герцог в полном смятении, однако не стал развивать эту тему, а только спросил:
– Ну и что было дальше?
– Так вот, Реджи прижал к стене Марджери, и она призналась, что влюблена в Перри и у них был роман за гимнастическим залом – лучшего места не выбрали! Естественно, Реджи жутко возмутился и наставил ей синяк под глазом, чего, сказала я ему, вовсе не следовало делать. Потом он стал разыскивать Перри, чтобы, полагаю, и ему наставить синяк, но, к счастью, Перри уехал домой на уик-энд, так что Реджи его не нашел, и слава Богу, потому что Перри, бедняга, довольно щуплый, тогда как Реджи здоров как бык и жутко вспыльчив.
Теперь, когда сюжет стал проясняться, я поймал себя на том, что меня интересует продолжение.
– Говори же, что случилось потом? – сказал я.
– Потом случилось самое худшее, – выразительно прошептала Урсула.
Пригубив бокал, она воровато оглянулась, проверяя, не подслушивает ли вся Венеция, выбравшаяся из домов, чтобы опрокинуть стаканчик перед ланчем. Затем наклонилась вперед и потянула меня за руку. Я тоже наклонился.
– Они сбежали, – прошипела она мне на ухо и откинулась на стуле, чтобы лучше видеть, какое впечатление произвели на меня ее слова.
– Ты хочешь сказать – Реджи и Перри сбежали? – спросил я, изображая удивление.
– Балда, – рассердилась она. – Ты отлично понимаешь, что я подразумеваю. Перри и Марджери сбежали. Прошу тебя, перестань надсмеиваться, это очень серьезное дело.
– Прости, – ответил я. – Продолжай.
– Ну вот, – сказала Урсула, сменив гнев на милость. – Сам понимаешь, переполох был ужасный. Реджи пришел в ярость, потому что Марджери не просто сбежала, но и взяла с собой ребенка и няню.
– Прямо какое-то массовое бегство…
– Конечно, – продолжала Урсула, – отец Перри тоже страшно переживал. Каково-то было герцогу простить адюльтерацию своему единственному сыну.
– Но ведь в адюльтере обычно бывает повинен супруг, – возразил я.