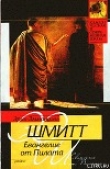Текст книги "Межзвездный скиталец"
Автор книги: Джек Лондон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Здесь, читатель, я должен остановиться и пояснить вам кое-что, чтобы все рассказанное стало вам понятнее. Необходимо это потому, что мне немного остается времени для окончания моих воспоминаний. Скоро, очень скоро меня выведут и повесят! Будь у меня тысяча жизней – все же я не мог бы описать до последних деталей мои переживания в смирительной куртке. Вот почему я должен сократить свое повествование.
Прежде всего скажу – Бергсон прав. Жизнь нельзя объяснить ителлектуальными терминами. Недаром сказал когда-то Конфуций: «Если мы так мало знаем жизнь – что мы можем знать о смерти?» И мы действительно не знаем жизни, если не можем объяснить ее в понятных словах. Мы знаем жизнь только как явление, как дикарь может знать динамо-машину; но мы ничего не знаем об истинной сущности жизни.
Во-вторых, Маринетти не прав, утверждая, что материя – единственная тайна и единственная реальность. Я говорю – и вы, читатель, понимаете, что я говорю авторитетно, – и говорю, что материя – единственная иллюзия. Конт называл мир, который представляется равнозначным материи, великим фетишем – и я согласен с Контом.
Жизнь – реальность и тайна. Жизнь значительно отличается от химической материи, меняющейся в модусах понятия. Жизнь продолжает существовать. Жизнь равна нити, проходящей сквозь все модусы бытия. Я это знаю. Я – жизнь. Я прожил десять тысяч поколений. Я прожил миллионы лет. Я обладал множеством тел. Я, хозяин этого множества тел, уцелел. Я – жизнь. Я – неугасимая искра, вечно вспыхивающая и изумляющая лик времени, вечно творящая свою волю и изливающая свои страсти через скопления материи, называемые телами, которые служили мне временной обителью.
Посмотрите, вот мой палец, столь чувствительный, столь тонкий на ощупь, столь изощренный в разнообразных движениях, столь крепкий и твердый, умеющий сгибаться или коченеть; отрежьте его – я останусь живым. Тело изувечено – я не изувечен. Дух, составляющий меня, остался цел.
Отлично! Отрежьте все мои пальцы. Я – остаюсь я. Дух неразделен. Отрежьте обе кисти. Отрежьте обе руки у плеч! Отрежьте обе ноги у бедер. А я, непобедимый и неразрушимый, живу! Разве я умалился из-за этих увечий? Разумеется, нет! Остригите мне волосы. Срежьте острыми бритвами мои губы, нос, уши – да хоть вырвите глаза с корнем; и все же, замурованный в бесформенном черепе, прикрепленный к изрубленному, изувеченному торсу, в клетке униженной плоти остаюсь я, неизуродованный, неуменьшенный!
О, сердце еще бьется? Отлично! Вырежьте сердце или лучше, бросьте этот последний комок в машину с тысячей ножей и превратите его в окрошку – и я – я – поймите вы это – дух, и тайна, и жизненный огонь – унесусь прочь. Я не погиб! Только тело погибло, а тело – это не я!
Я думаю, что полковник де Рочас был прав, утверждая, что напряжением воли он посылал девушку Жозефину, пока она находилась в гипнотическом трансе, назад через прожитые ею восемнадцать лет, через безмолвие и тьму, предшествовавшие ее рождению, к свету предыдущей жизни, когда она была прикованным к постели стариком, бывшим артиллеристом Жан-Клодом Бурдоном. Я верю, что полковник де Рочас действительно гипнотизировал эту воскресшую тень старика и напряжением своей воли посылал его в обратном порядке через семьдесят лет его жизни в тьму и затем в дневной свет его жизни в образе злой старухи Филомены Картерон.
И не показал ли я вам уже, мой читатель, что в предшествующие эпохи я обитал в разнообразных скоплениях материи: я жил в образе графа Гильома де СенМора, затем шелудивого и безвестного пустынника в Египте и мальчика Джесса, отец которого был начальником сорока повозок в великом переселении на Запад? А теперь, когда я пишу эти строки, не являюсь ли я Дэррелем Стэндингом, приговоренным к смерти узником Фольсомской тюрьмы, а некогда профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже Калифорнийского университета?
Материя – великая иллюзия. Другими словами, материя проявляется в форме, а форма – не что иное, как видение. Где находятся сейчас искрошенные утесы Древнего Египта, на которых я некогда лежал, как дикий зверь, мечтая о Царстве Божием? Где теперь тело Гильома де Сен-Мора, пронзенного насквозь на освещенной луною траве пламенным Гюи де Вильгардуэном? Где сорок огромных повозок, составленных кругом в Нефи? Где мужчины, женщины, дети и тощий скот, помещавшиеся внутри этого круга? Все это не существует, ибо все это были формы проявления текучей материи. Они прошли – и их нет.
Аргументация моя донельзя проста. Дух – единственная реальность, которая существует. Я – дух, и я существую, продолжаюсь. Я, Дэррель Стэндинг, обитатель многих плотских обителей, напишу еще несколько строк этих воспоминаний, а затем в свою очередь исчезну. Моя внешняя форма, мое тело сгинет, когда его достаточно долго продержат подвешенным за шею, и ничего от него не останется во всем мире материи. А в мире духа останется память о нем. Материя не имеет памяти, ибо формы ее исчезают, и то, что запечатлено в них, исчезает вместе с ними.
Еще одно слово, прежде чем я вернусь к моему повествованию. Во всех моих скитаниях во тьме других жизней, принадлежавших мне, я ни разу не мог довести до конца то или иное скитание. Много былых существований пережил я, прежде чем мне удалось вернуться к мальчику Джессу в Нефи. Возможно, что в конечном итоге я испытал переживания Джесса десятки раз, иногда начиная его карьеру маленьким мальчиком в поселениях Арканзаса, и по крайней мере десяток раз проходил мимо пункта, в котором я его оставил в Нефи. Рассказывать обо всем подробно было бы напрасной тратой времени; и поэтому, не в ущерб правдоподобию моего рассказа, я обойду молчанием то, что в нем смутно, неясно и повторяется, и изложу факты так, как я их воссоздал из разных моментов, – в общем так, как я их переживал.
ГЛАВА XIII
Задолго до рассвета лагерь в Нефи зашевелился. Скотину погнали к водопою и на пастбище. Пока мужчины распутывали на колесах цепи и оттаскивали телеги в сторону, чтобы запрячь волов, женщины варили сорок завтраков на сорока кострах. Дети, дрожа от предрассветного холода скучились у костров, деля место с последней сменой ночной стражи, сонно дожидавшейся кофе.
Много требуется времени, чтобы собрать в дорогу огромный обоз вроде нашего, и скорость его движения крайне мала. Солнце уже час как сияло на небе, и день пылал зноем, когда мы наконец выкатились из Нефи и поплелись по пескам. Никто из жителей местечка не смотрел на нас, когда мы уезжали. Все предпочитали оставаться в домах, и от этого наш отъезд был так же зловещ, как и наш въезд накануне.
Опять потянулись долгие часы среди иссушающего зноя и едкой пыли, полыни и песку и бесплодных, проклятых богом равнин. Ни жилья, ни скота, ни ограды, ни малейших признаков рода человеческого не встретилось нам в этот день. И на ночь мы составили наши повозки кругом у пересохшего ручья, во влажном песке которого вырыли множество ям, медленно наполнявшихся просачивавшейся водой.
Дальнейшие наши страдания всегда представляются мне в отрывочном виде. Мы столько раз разбивали лагерь, неизменно составляя повозки в круг, что, по моим детским расчетам, после Нефи прошло много времени. И все так же над нами висело сознание, что мы влечемся к какому-то неведомому, но неизбежному и грозному Року.
Мы делали около пятнадцати миль в сутки. Я знал это из слов отца, который раз объявил, что до Фильмора, следующего мормонского поселка, остается шестьдесят миль, а мы в дороге три раза делали привал. Это значит, что мы ехали четыре дня. На переезд от Нефи до последнего привала, запомнившегося мне, у нас ушло недели две или немного больше.
В Фильморе жители оказались столь же враждебно настроенными к нам, как и все вообще после Соленого озера. На наши просьбы продать провизии они отвечали насмешками и дразнили нас миссурийцами
Прибыв на место, мы перед самым большим домом из десятка домов, составлявших поселок, увидели двух верховых лошадей. запыленных, покрытых потом, изнуренных. Старик, о котором я уже упоминал, с длинными выцветшими волосами, в рубашке из оленьей кожи, бывший чем-то вроде адъютанта или заместителя при отце, подъехал к нашей повозке и, кивнув головой, указал на изнуренных животных.
– Не щадят коней, капитан! – пробормотал он вполголоса. – И какого черта им так скакать, если не за нами?
Но отец и сам заметил, в каком состоянии лошади. Я видел, как у него сверкнули глаза, и поджались губы, и суровые складки на мгновение появились на лице. Только и всего. Но я умел делать выводы и понял, что эти две изнуренные верховые лошади делают наше положение еще более трудным.
– Я думаю, они следят за нами, Лабан, – только и ответил отец.
В Фильморе я увидел человека, которого мне суждено было впоследствии увидеть еще раз. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет, со всеми признаками прекрасного здоровья и огромной силы – силы не только тела, но и духа. В отличие от всех мужчин, каких я привык видеть вокруг себя, он был гладко выбрит. Пробившиеся волоски свидетельствовали, что он уже порядочно поседел. У него был непомерно широкий рот и губы плотно сжаты, словно у него недоставало передних зубов. Нос у него был большой, квадратный и толстый. Квадратно было и его лицо, с широкими скулами, с массивной челюстью и широким умным лбом. Небольшие глаза, отстоявшие друг от друга немного больше, чем на ширину глаза, были такого синего цвета, какого я и не видывал!
Этого человека я впервые увидел у мельницы в Фильморе. Отец с несколькими мужчинами из нашего отряда отправился туда попытаться купить муки, а я, терзаемый желанием разглядеть поближе наших врагов, не послушался матери и потихоньку улизнул вслед за ними. Этот человек был одним из четырех или пяти мужчин, стоявших кучкой возле мельника во время переговоров.
– Ты видел этого гладкорожего старика? – спросил Лабан отца, когда мы возвращались в наш лагерь.
Отец кивнул.
– Ведь это Ли, – продолжал Лабан. – Я его видел в городе Соленого озера. Настоящий ублюдок! У него девятнадцать жен и пятьдесят детей, говорят. И он помешан на религии. Но зачем он следует за нами по этой проклятой Богом стране?
Мы продолжали наше роковое, унылое странствие. Мелкие поселки, возникавшие там, где позволяла вода и состояние почвы, были расположены на расстоянии в двадцать и пятьдесят миль друг от друга. А между ними тянулись бесплодные пространства, покрытые песком и солончаками. И в каждом поселке наши мирные попытки купить провизию не давали никаких результатов. Нам грубо отказывали, да еще спрашивали, кто из нас продавал им провизию, когда мы их выгоняли из Миссури? Бесполезно было говорить им, что мы из Арканзаса. Мы действительно были из Арканзаса – но они твердили, что мы миссурийцы.
В Бивере, в пяти днях пути к югу от Фильмора, мы опять увидели Ли. Те же загнанные лошади стояли стреноженными у одного из домов. Но в Паровне Ли исчез.
Седар-Сити был последним поселком. Лабан, опередивший нас, вернулся и доложил о своей разведке отцу. Он принес важные вести.
– Я видел, как этот Ли уезжал, капитан! И в СедарСити больше мужчин и коней, чем полагается по размерам местечка.
Но и в этом поселке дело обошлось без неприятностей. Нам, правда, отказались продать провизию, но оставили нас в покое. Женщины и дети не выходили из домов, а мужчины хотя и показывались на улицах, но не входили в наш лагерь и не дразнили нас, как в других селениях.
В этом самом Седар-Сити скончался младенец Вейнрайтов. Помню, как плакала миссис Вейнрайт, умолявшая Лабана выпросить для нее немного коровьего молока.
– Может быть, это спасет ребенку жизнь! – говорила она. – И у них ведь есть коровье молоко! Я собственными глазами видела молочных коров! Сделай милость, сходи, Лабан! Беды не будет от попытки, они могут только отказать. Скажи им, что это для младенца, для крохотного ребеночка! У мормонских женщин материнские сердца. Они не могут отказать в чашке молока крохотному умирающему ребеночку!
Лабан попытался, но, как он впоследствии рассказывал отцу, ему не удалось увидеть ни одной мормонской женщины. Он видел только мужчин, и те прогнали его.
Это был последний пост мормонов. За ним лежала обширная пустыня, а за нею – сказочная обетованная страна Калифорния. И когда наши телеги выкатились из местечка ранним утром, я сидел на козлах рядом с отцом и слушал Лабана, давшего волю своим чувствам. Мы проехали, может быть, с полмили и поднимались на отлогий пригорок, который должен был скрыть от наших глаз СедарСити, когда Лабан повернул своего коня, остановил его и привстал на стременах. Там, где он остановился, виднелась свежевырытая могилка, и я понял, что это могилка ребенка Вейнрайтов – не первая из могил, которые нам пришлось рыть до самых Вазачских гор.
Жуткую картину представлял собой Лабан. Старый, исхудалый, длиннолицый, со впалыми щеками, с косматыми выцветшими волосами, рассыпавшимися по плечам, в замшевой рубахе, он исказил свое лицо гримасой ненависти и неутолимой ярости. Зажав длинную винтовку в одной руке, он свободным кулаком потрясал в сторону Седар-Сити.
– Будьте прокляты Богом! – кричал он. – Проклятие на ваших детей и на нерожденных младенцев! Засуха да погубит ваш урожай! Пусть пищей вам будет песок, приправленный ядом гремучих змей! Пусть пресная вода ваших источников превратится в горькую щелочь! Пусть...
Но телеги наши катились дальше, и слова его стали невнятными; судя по тому, как поднимались его плечи и как он размахивал кулаком, я видел, что он только еще начал изливать свои проклятья. Он этим выразил общие чувства в нашем обозе, о чем свидетельствовали женщины, высунувшиеся из повозок и потрясавшие костлявыми, обезображенными трудом кулаками в сторону последнего оплота мормонов. Юноша, шагавший по песку и покалывавший волов следующей за нами повозки, засмеялся и потряс бодилом. Смех этот так странно прозвучал в нашем обозе, где давно уже никто не смеялся.
– Задай им пару, Лабан! – поощрял он старика. – Прокляни их и за меня!
Повозки катились вперед, а я все оглядывался на Лабана, стоявшего в стременах у могилы ребенка. Действительно, жуткая это была фигура, с длинными волосами, в мокасинах с бахромчатыми крагами. Его оленья рубаха была так стара и истрепана, что от щеголеватых некогда бахромок остались одни грязные лохмотья. Она больше смахивала на развевающуюся тряпку. Я помню, у его пояса болтались грязные пучки волос, которые после ливня отливали черным глянцем. Я знал, что это скальпы индейцев, и вид их всегда вызывал во мне дрожь.
– Ему станет легче теперь, – пояснил отец, скорее обращаясь к себе, чем ко мне. – Я не первый день жду от него взрыва...
– Хорошо, если бы он вернулся и снял бы еще несколько скальпов, – заметил я.
Отец с любопытством поглядел на меня
– Не любишь мормонов, сын мой? А?
Я мотнул головой и почувствовал, как во мне поднимается неукротимая ярость.
– Когда я вырасту, – сказал я через минуту, – я перестреляю их.
– Что ты, Джесс, – донесся голос матери из повозки. – Сейчас же заткни рот. – И она обратилась к отцу: – И не стыдно тебе позволять мальчику говорить такие вещи?
Через двое суток мы добрались до Горных Лугов, и здесь, далеко за последним поселком, мы впервые не составили повозок в круг. Собственно, повозки были составлены, но между ними были пробелы, и колес мы не соединили цепями. Мы стали готовиться к недельному отдыху. Скотине надо было дать отдохнуть перед настоящей пустыней, хотя и эта местность была похожа на пустыню. Кругом виднелись все те же низкие песчаные холмы, скудно поросшие колючим кустарником. Равнина была песчаная, на ней было много травы – такого обилия ее мы давно уже не встречали. Не далее чем в ста футах от бивуака бил родничок, воды которого едва хватало на удовлетворение наших потребностей. Но подальше из пригорков били другие ключи, и у них мы поили скотину.
В этот день мы рано расположились на ночлег, и так как предстояло пробыть здесь неделю, то женщины повытаскивали грязное белье, чтобы утром приняться за стирку. Все работали до темноты. Мужчины чинили сбрую, занимались ремонтом колес и повозок. Стучали молотками, закрепляли болты и гайки. Помню, я наткнулся на Лабана, который сидел, скрестив по-турецки ноги, в тени повозки и шил себе новую пару мокасин до позднего вечера. Он был единственным мужчиной в нашем лагере, носившим мокасины из оленьей кожи, и у меня осталось впечатление, что он не состоял в нашем отряде, когда мы покидали Арканзас; у него не было ни жены, ни семьи, ни собственной повозки. Все его имущество заключалось в лошади, винтовке, платье, которое было на нем, и в двух одеялах, которые он клал в повозку Мэсона.
На следующее утро над нами стряслась давно ожидаемая беда. Отъехав на двое суток пути от последнего мормонского поста, зная, что кругом нет индейцев, мы впервые не скрепили наших повозок в круг цепями, не поставили сторожей к скотине и не выставили ночной стражи.
Пробуждение мое было похоже на кошмар. Я проснулся как бы от тревожного стука. В первые мгновения я только тупо пытался определить разнообразные шумы, сливавшиеся в непрерывный гул. Вблизи и вдали слышался треск винтовок, крики и проклятия мужчин, вопли женщин и рев детей. Я расслышал визг и стук пуль, попадавших в дерево и железо колес и нижние части повозок. Кто бы это ни стрелял, прицел был взят слишком низко.
Когда я начал подниматься, мать, также, очевидно, одевавшаяся, притиснула меня рукой к ложу. Отец, уже вставший, просунул голову в повозку.
– Вставайте! – крикнул он. – Скорей на землю!
Он не терял времени. Схватив меня в охапку, он быстрым движением буквально вышвырнул меня из повозки. Я едва успел отползти в сторону, как отец, мать и ребенок беспорядочной кучей упали рядом со мной.
– Сюда, Джесс! – кричал мне отец.
Я присоединился к нему, и мы начали рыть песок за прикрытием колес телеги. Работали мы с лихорадочной поспешностью и голыми руками. К нам присоединилась и мать.
– Продолжай рыть, Джесс! – командовал отец.
Он поднялся на ноги и ринулся в серый сумрак, выкрикивая на ходу приказы. (Теперь я узнал, что фамилия моя была Фэнчер. Мой отец был капитан Фэнчер.)
– Ложись! – кричал он. – Прячьтесь за колеса телег и заройтесь в песок! Семейные, выводите женщин и детей из повозок! Не стреляйте! Прекратите огонь! Приберегите порох для атаки! Холостые, присоединяйтесь к Лабану направо, к Кокрэну налево и ко мне в центр! Не вставайте! Ползите по земле!
Но атаки не последовало. В течение четверти часа продолжалась сильная беспорядочная пальба. Мы понесли потери в первые моменты, когда были захвачены врасплох; несколько мужчин, рано поднявшихся, оказались освещенными светом костров, которые они разводили. Индейцы – Лабан объявил, что это были индейцы, – атаковали нас с поля. С рассветом отец приготовился встретить их. Он занимал позицию возле окопа, в котором лежали мы с матерью, и крикнул:
– Ну, все разом!
Справа, слева и из центра наши винтовки дали залп. Я поднял голову и заметил, что пули попали в нескольких индейцев. Пальба тотчас же прекратилась, и я видел, как индейцы поскакали назад по равнине, унося своих мертвых и раненых.
У нас все моментально принялись за работу. Повозки составили в круг, дышлами внутрь, и сковали цепями – даже женщины и малолетние мальчики и девочки изо всех сил помогали, налегая на спицы колес! Затем мы подсчитали наши потери. Хуже всего было, что наш последний скот был угнан. Кроме того, у костров, разведенных нами, лежало семь наших мужчин. Четверо были мертвы, а трое умирали. За другими ранеными ухаживали женщины. Маленький Риш Гардэкр был ранен в руку пулей крупного калибра. Ему было не больше шести лет, и я помню, как он, раскрыв рот, глядел на мать, державшую его на коленях и на отца, перевязывавшего ему рану. Маленький Риш старался не кричать, но я видел слезы на его щеках, когда он с удивлением глядел на кусок кости, торчавшей из его руки
Бабушку Уайт нашли мертвой в повозке Фоксвиллей. Это была тучная беспомощная старуха, которая никогда ничего не делала, а только сидела да курила трубку. Это была мать Эбби Фоксвилля. Убита была и жена Гранта. Муж сидел возле ее тела в совершенном спокойствии, и даже слез не видно было на его глазах. Он просто сидел, положив винтовку на колени. Его оставили одного.
Под руководством отца наш отряд работал, как стая бобров. Люди вырыли огромную яму в центре корраля, образовав бруствер из вынутого песка. В эту яму женщины перетащили постели, провиант и все необходимое из повозок. Им помогали дети. Не было ни хныканья, ни суматохи. Навалилась работа, а мы все сызмала привыкли работать.
Огромная яма предназначалась для женщин и детей. Под повозками вырыта была в виде круга мелкая траншея, и перед нею из земли возведен бруствер.
Лабан вернулся с разведки. Он донес, что индейцы отступили приблизительно на полмили и держат военный совет. Он видел также, что они принесли шестерых с поля битвы, из них трое, по его словам, были мертвы.
Время от времени, в утро этого первого дня, мы замечали облака пыли, свидетельствовавшие о передвижении значительных отрядов конницы. Эти облака пыли направлялись к нам. Но мы не разглядели ни одной живой души. Удалялось же от нас только одно облако, и все говорили, что это угоняют наш скот. Наши сорок огромных повозок, перевалившие через Скалистые Горы и проехавшие половину материка, стояли теперь беспомощным кругом. Без скотины они не могли двинуться дальше.
В полдень Лабан вернулся с новой разведки. Он видел прибывших с юга других индейцев – это свидетельствовало, что нас окружают. И тут мы увидели с десяток белых людей, выехавших на гребень невысокого холма на востоке и глядевших на нас.
– Все понятно, – сказал Лабан отцу. – Они подбили на это индейцев!
– Они белые, как и мы, – жаловался Эбби Фоксвилль матери. – Почему же они не с нами?
– Это не белые, – пропищал я, косясь на мать, от которой опасался подзатыльника. – Это мормоны!
В эту ночь с наступлением темноты трое из наших молодых людей ушли украдкой из лагеря. Я видел, как они уходили. Это были Вилли Эден, Эбель Милликен и Тимоти Грант.
– Они идут в Седар-Сити за помощью, – сказал отец матери.
Мать покачала головой.
– Кругом нашего лагеря сколько угодно мормонов, – отвечала она. – Если они не хотят помочь – а они и виду на это не подали, – то и мормоны из Седар-Сити не помогут.
– Но ведь есть же хорошие мормоны и плохие мормоны... – начал отец.
– Мы еще не видали хороших! – отрезала мать.
Только утром я узнал о возвращении Эбеля Милликена и Тимоти Гранта. Весь лагерь упал духом от их сообщений. Эти трое прошли всего несколько миль, как их окликнули белые. И как только Вилли Эден заговорил, объяснив, что они из отряда Фэнчера и направляются в Седар-Сити за помощью, его застрелили. Милликен и Грант вернулись назад с этой вестью, и она убила последнюю надежду в сердцах нашего отряда. За спинами индейцев прятались белые, и Рок, которого мы так долго боялись, теперь вплотную надвинулся на нас.
В утро второго дня, когда наши мужчины пошли за водой, в них стреляли. Источник находился в ста шагах за нашим кругом, но путь к нему был во власти индейцев, теперь занимавших позицию на невысоком холме на востоке. Прицел был отличный, ибо до холма было не больше двухсот пятидесяти футов. Но индейцы были плохие стрелки – наши люди вернулись с водой, не получив царапины. Это утро прошло спокойно, если не считать случайных выстрелов в лагерь. Мы расположились в большой яме, и так как мы давно привыкли к суровой жизни, то чувствовали себя довольно сносно. Плохо было, разумеется, тем семьям, где были убитые или где надо было ходить за ранеными. Я ухитрялся убегать от матери подальше, терзаемый ненасытным любопытством ко всему, что происходило, и очень многое видел. Внутри корраля, к югу от большой ямы люди вырыли могилу и похоронили в ней семерых мужчин и двух женщин. Громко кричала миссис Гастингс, потерявшая мужа и отца. Она рыдала, стонала, и женщинам долго пришлось успокаивать ее.
На холме к востоку индейцы держали совет с большим шумом и криками. Но, если не считать нескольких недавних выстрелов, они ничего не предпринимали против нас.
– Что затевают эти проклятые? – нетерпеливо спрашивал Лабан. – Неужели они не могут решиться на чтонибудь и сделать, наконец, свое дело?
Жарко было в коррале в этот день! Солнце сверкало на безоблачном небе, не чувствовалось ни малейшего ветерка. Мужчины, залезшие с винтовками в окоп под повозки, находились в тени; но огромная яма, в которой собралось свыше сотни женщин и детей, ничем не была защищена от яркого солнца. Тут же были и раненые, над которыми мы устроили навес из одеял. В яме было душно и тесно, и я то и дело прокрадывался в окоп, с большим усердием исполняя поручения отца.
Мы сделали крупную оплошность, не включив в круг наших повозок и ручей. Произошло это вследствие растерянности от первой атаки, когда мы не знали, скоро ли может последовать вторая. А теперь уж было поздно. Внутри корраля, к югу от могилы, мы вырыли отхожее место, а к северу от ямы, в центре, несколько человек по приказу отца начали рыть колодец.
Перед вечером этого дня – это был второй день – мы вновь увидели Ли. Он шел пешком, пересекая по диагонали луг на северо-запад, на расстоянии выстрела от нас. Отец взял у матери одну из простынь и, привязав ее к воловьим бодилам, связанным вместе, – поднял ее. Это был наш белый флаг. Но Ли не обратил на него внимания и продолжал свой путь.
Лабан советовал подстрелить Ли, но отец остановил его, говоря, что белые, очевидно, еще не решили, как поступить с нами, и выстрел в Ли может побудить их принять какое-нибудь решение против нас.
– Вот что, Джесс, – сказал мне отец, оторвав кусок от простыни и прикрепив его к воловьему бодилу. – Возьми это, пойди и попробуй заговорить с этим человеком. Не рассказывай ему ничего о том, что с нами случилось! Только попытайся уговорить его прийти и поговорить с нами!
Грудь моя раздувалась от гордости, но когда я собрался уходить, Джед Донгэм крикнул, что и он хочет идти со мной. Джед был приблизительно моего возраста.
– Донгэм, можно твоему мальчику пойти с Джессом? – обратился мой отец к отцу Джеда. – Двое лучше одного. Они будут охранять друг друга от беды.
И вот мы с Джедом, двое девятилетних малышей, пошли под белым флагом беседовать с предводителем наших врагов. Но Ли не хотел говорить с нами. Увидя нас, он начал увертываться от нас. Мы не могли даже подойти к нему на такое расстояние, чтобы он мог услышать наш крик. Через некоторое время он, должно быть, спрятался в кустах, ибо больше мы его не видели, хотя и знали, что он не мог уйти далеко.
Долго мы с Джедом обыскивали кусты во всех направлениях. Нам не сказали, сколько времени мы можем отсутствовать, и так как индейцы не стреляли в нас, то мы продолжали идти вперед. Мы отсутствовали свыше двух часов, хотя каждый из нас, будь он один, выполнил бы эту миссию вдвое скорее. Но Джеду нужно было перещеголять меня, а мне хотелось перещеголять его.
Эта наша глупость оказалась не без пользы. Мы смело шли под прикрытием белого флага и убедились, как основательно обложен наш лагерь. К югу от нашего обоза, не дальше чем в полумиле, мы разглядели большой индейский лагерь. Дальше на лугах разъезжали верхом индейские мальчики.
На холме к востоку также была позиция индейцев. Нам удалось вскарабкаться на невысокий холм и разглядеть эту позицию. Мы с Джедом потратили полчаса, чтобы сосчитать врагов, и решили, что их должно быть не меньше двух сотен. Среди них мы видели и несколько белых людей, оживленно разговаривавших с ними.
К северо-востоку от нашего лагеря, не больше как в полутораста футах, мы рассмотрели большой лагерь белых за низкой возвышенностью. А дальше паслось пять или шесть десятков верховых лошадей. Еще милей дальше к северу мы разглядели облачко пыли, явно приближавшееся. Мы с Джедом бежали, пока не увидели человека верхом, который быстро скакал в лагерь белых.
Когда мы вернулись в корраль, первое, что я получил, была затрещина от матери за долгое отсутствие; но отец похвалил меня, выслушав наш доклад.
– Теперь, пожалуй, следует ожидать атаки, капитан, – сказал Аарон Кокрэн. – Человек, которого видели мальчики, недаром прискакал! Белые сдерживают индейцев, пока сами не получат приказа свыше. Может быть, этот человек привез какие-нибудь распоряжения. Лошадей они не жалеют, это можно сказать с уверенностью.
Через полчаса после нашего возвращения Лабан попытался сделать разведку под белым флагом. Но не отошел он от нашего круга и девяти футов, как индейцы открыли по нем пальбу и заставили его вернуться.
Перед самым закатом я сидел в яме, держа на руках нашего малютку, пока мать стелила постели. Нас было так много, что в яме мы были набиты битком, как сельди в бочке. Многие женщины провели ночь в сидячем положении, склонив голову на колени. Возле меня, так близко, что, размахивая руками, он касался моего плеча, умирал Сайлес Донлеп. Ему прострелили голову в первой же атаке, и весь второй день он находился в состоянии безумия, распевая в бреду всякий вздор. Вот одна из песен, которую он повторял несчетное множество раз, едва не сведя с ума мою мать:
И сказал первый чертенок второму чертенку:
– Дай мне табачку из твоей табакерки.
И сказал второй чертенок первому чертенку:
– Держи свои деньги, держи свои камни,
И всегда будет табачок в твоей табакерке.
Я сидел рядом с ним, держа на руках ребенка, когда враги ринулись на нас снова. Солнце закатывалось. Я все время таращил глаза на умиравшего Сайлеса Донлепа. Жена его Сара держала свою руку на его лбу. И она, и ее тетка Марта плакали. В этот момент вновь послышались выстрелы и полетели пули из сотен винтовок. Со всех сторон – с запада, востока и севера – враги ринулись на нас полукругом, осыпая нашу позицию свинцом. Все находившиеся в яме прилегли к земле. Маленькие дети подняли плач, и женщинам еле удалось успокоить их. Кричали и женщины, но таких было немного.
В первые несколько минут по нам было выпущено, наверное, несколько тысяч зарядов. Как мне хотелось перебраться в окоп под повозками, где наши мужчины поддерживали постоянный, но неправильный огонь. Каждый стрелял на свой страх, завидя неприятеля. Но мать разгадала мои намерения и приказала мне оставаться на месте с малюткой на руках.
Только что я последний раз оглянулся на Сайлеса Донлепа – он все еще трепетал, – как был убит младенец Касльтонов. Его держала на руках Дороти Касльтон, десятилетняя девочка, и он был убит в ее объятиях. Ее даже не задело! Я слышал разговоры об этом случае: вероятно, пуля ударилась в одну из повозок и отлетела рикошетом в яму. Это была чистая случайность; если не считать таких случайностей, то в яме было безопасно.