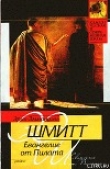Текст книги "Межзвездный скиталец"
Автор книги: Джек Лондон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Я думаю, что Гамель был доволен тем, что сидел в тени и вел свою тайную игру. Он был достаточно хладнокровен, чтобы понять, что риск лежал на мне. Если я буду благоденствовать, будет благоденствовать и он. Если я потерплю неудачу, он может улизнуть, как хорек. Я убежден, что именно так рассуждал он, и все же, как вы убедитесь, это в конце концов не спасло его.
– Стой за меня, – говорил я Киму, – и все, что пожелаешь, будет твоим. Чего тебе хочется?
– Я хотел бы командовать тигровыми охотниками Пьенг-Янга, а вследствие этого и командовать дворцовой стражей, – отвечал он.
– Подожди, – сказал я, – и ты этого дождешься. Я обещаю!
Но как – в этом-то и была вся загвоздка! Впрочем, тот, у кого ничего нет, может дарить хоть целый мир; я, ничего не имевший, дарил Киму чин капитана дворцовой стражи. Лучше всего было то, что я сдержал свое обещание! Ким получил командование над тигровыми охотниками, хотя это и не привело к добру.
Интриги и заговоры я предоставил Гамелю и ЮнСану – это были политики. Я был просто мужчина и любовник, и проводил время куда веселее их. Представьте себе картину – истрепанный бурями жизнерадостный матрос, безответственный, не знающий ни прошлого, ни будущего, пьет и обедает с царями; он любовник принцессы, и мозги Гамеля и Юн-Сана ведут за него всю умственную работу!
Не раз случалось, что Юн-Сан почти разгадывал мои мысли; но когда он подверг испытанию Гамеля, тот проявил себя тупым рабом, которому в тысячу раз менее интересны государственные дела и политика, чем мое здоровье и удобства, и который занят только тем, как бы удерживать меня от попоек с Тайвуном. Я думаю, дева Ом угадывала истину и держала ее про себя; она желала не ума, но как выразился Гамель, бычачьей шеи и желтых волос мужчины.
Я не буду распространяться о том, что происходило между нами, хотя дева Ом – давно драгоценный прах столетий. Ни я к ней, ни она ко мне – оба мы не могли остаться равнодушными; а уж раз мужчина и женщина понравились друг другу, то пусть падают головы и рушатся царства – они не погибнут! С течением времени начали поговаривать о нашем браке – разумеется, сперва потихоньку, – вначале это были лишь дворцовые сплетни в дворцовых углах, между евнухами и горничными. Но во дворце сплетни кухонных судомоек доползают до трона. И скоро поднялась порядочная сумятица. Дворец был пульсом всей державы Чо-Сен. И когда дворец зашевелился, задрожал и Чо-Сен. И этому были причины. Наш брак был бы ударом прямо в лоб Чонг-Монг-Джу! И он стал бороться с энергией, к которой уже приготовился Юн-Сан. Чонг-Монг-Джу взбудоражил добрую половину провинциальных жрецов; они пошли огромной, в милю, процессией ко дворцу и довели императора до паники.
Но Юн-Сан стоял как скала; вторая половина провинциальных жрецов была за него, и вдобавок жреческое сословие больших городов, как Кейджо, Фузан, Сонгдо, Пьенг-Янг, Ченампо, Чемульпо. Юн-Сан и дева Ом, сговорившись, ловко обошли императора. Впоследствии дева Ом признавалась мне, что застращала его слезами, истериками и угрозой скандала, который мог пошатнуть его трон. В довершение всего в удобный психологический момент Юн-Сан засыпал императора новшествами, которые давно подготовлял.
– Ты должен отрастить себе волосы и завязать их брачным узлом, – предупредил меня Юн-Сан, и в его величавом взоре засверкали лукавые искры.
Неприлично ведь было выходить принцессе замуж за матроса или даже за претендента на кровное родство с древним родом Кориу, но лишенного власти, земли и каких бы то ни было признаков ранга! И вот императорским декретом было объявлено, что я принц Кориу! Затем четвертовали и обезглавили тогдашнего губернатора пяти провинций, приверженца Чонг-Монг-Джу, а меня назначили губернатором семи внутренних провинций древнего Кориу. В Чо-Сене семерка – магическое число. Для округления цифры две провинции были отняты у двух других приверженцев Чонг-Монг-Джу.
Боже, боже! Матрос... И вот он шествует к северу по Дороге Мандаринов с пятью сотнями солдат и свитой! Я стал губернатором семи провинций, где меня ждало пятьдесят тысяч войска. Жизнь, смерть и пытка зависели от одного моего слова! У меня были казна и казначейство, не говоря еще о целом полчище туземцев. Ждала меня и целая тысяча откупщиков, выколачивавших гроши из трудящегося народа.
Семь провинций составляли северную часть страны. За ними лежала нынешняя Маньчжурия, в ту пору называвшаяся страной Хонг-Ду, или «Красных Голов». Это была страна диких разбойников, иногда большими массами переходивших реку Ялу и наводнявших северную часть ЧоСена, как саранча. Говорили, что они людоеды. Я по опыту знаю, что они были страшные бойцы, почти непобедимые. Этот год пролетел как вихрь. Пока Юн-Сан и дева Ом в Кейджо довершали поражение Чонг-Монг-Джу, я занялся созданием собственной репутации. Разумеется, за моей спиной стоял Гендрик Гамель, но для посторонних глаз главным действующим лицом был я. При моем посредничестве Гамель учил наших солдат муштровке и тактике, и изучал стратегию Красных Голов. Война была жестокая, и хотя она отняла год, но в конце этого года мир воцарился на северной границе, и по нашу сторону реки Ялу не осталось ни одной живой Красной Головы.
Не знаю, записан ли набег Красных Голов в западной истории; если записан, тогда можно определить точно, о каких временах я пишу. И еще другой ключ для определения времени: когда Хидейоши был шогуном Японии? В мое время я слышал отголоски двух набегов, за одно поколение до меня, произведенных Хидейоши через самое сердце Чо-Сена, от Фузана на юг и до Пьенг-Янга на север. Это тот Хидейоши, который отправил в Японию уйму бочек с солеными ушами и носами корейцев, убитых в бою. Я беседовал со многими стариками и старухами, видевшими это сражение и счастливо избежавшими засолки.
Но вернемся к Кейджо и деве Ом. Боже, боже, что это была за женщина! Сорок лет она была моей женой. Ни одного голоса не поднялось против нашего брака. Чонг-Монг-Джу, лишенный власти, впавший в немилость, удалился брюзжать в какой-то далекий закоулок на северовосточном побережье. Юн-Сан стал абсолютным владыкой. По ночам одиночные столбы дыма разносили весть о мире по всей стране. Благодаря непрерывным пирам и бражничаньям, которые организовывал хитроумный Юн-Сан, император все больше слабел ногами и зрением. Дева Ом и я победили по всей линии. Ким командовал дворцовой стражей. Кванг-Юнг-Джина, провинциального губернатора, который отколотил нас и забил в колодки, когда нас выбросило на берег, я лишил власти и навсегда прогнал от стен Кейджо.
А Иоганнес Маартенс? Дисциплина хорошо вколочена в голову матроса, и я, несмотря на свое нынешнее величие, никак не мог забыть, что когда-то, в те дни, когда мы отыскивали Новую Индию на «Спарвере», он был моим капитаном. Согласно басне, которую я рассказал при дворе, – единственным вольным человеком в моей свите. Остальные матросы, на которых смотрели как на моих рабов, не могли, разумеется, претендовать на какие бы то ни было должности. Но Иоганнес мог претендовать и претензию эту заявил. О старая, хитрая лисица! Я мало понимал его намерения, когда он попросил меня сделать его губернатором жалкой крохотной провинции Кионг-Джу. Кионг-Джу не могла похвалиться ни плодородными полями, ни рыбными ловлями. Собиравшиеся с этой провинции налоги едва покрывали расходы по взиманию их, и губернаторство в ней было в сущности почетным титулом, лишенным содержания. Провинция, понастоящему, была кладбищем – священным кладбищем, правда, ибо на Табонгских горах были построены жертвенники и похоронены кости древних царей Силлы. Про себя я подумал: лучше быть губернатором Кионг-Джу, чем вассалом Адама Стрэнга; не подозревал я в то время, что Маартенс взял с собой четырех матросов не из боязни скуки!
После этого прошло два чудесных года. Я управлял своими семью провинциями главным образом при помощи небогатых янг-банов, которых выбрал для меня Юн-Сан. От меня только требовалась время от времени инспекторская поездка в полном параде и в сопровождении княжны Ом. На южном берегу у нее был летний дворец, который мы часто посещали. Там я предавался забавам, приличествующим мужчине. Я сделался покровителем спорта борьбы и воскресил среди янг-банов угасшее искусство стрельбы из лука. Кроме того, в северных горах можно было охотиться на тигров.
Замечательны были приливы в Чо-Сене. На нашем северо-восточном побережье вода поднималась и падала всего на какой-нибудь фут. Но на западном берегу отлив достигал шестидесяти футов. Чо-Сен не вел торговли с чужими странами и не видал иноземных купцов. Сами корейцы не ездили никуда за море, и никакие иностранные суда не подходили к берегам Чо-Сена. Это было результатом политики изоляции, проводившейся с незапамятных времен. Только раз в десять или двадцать лет приезжали китайские послы, но они приезжали по суше, вокруг Желтого моря, через страну Хонг-Ду и по Дороге Мандаринов в Кейджо. Этот кружной путь отнимал целый год. Являлись они для того, чтобы требовать от нашего императора пустого церемониала признания древних прав верховного владычества Китая.
Тем временем Гамель, долго размышлявший, созрел наконец для действий. Планы его развивались быстрым темпом. Для него Чо-Сен был Индией, если как следует обработать страну. Он мало откровенничал со мной, и лишь когда он начал добиваться того, чтобы меня сделали адмиралом корейского флота джонок, и мимоходом осведомляться о том, где хранится императорская казна, я смекнул, в чем дело.
Но мне не хотелось уезжать из Чо-Сена без княжны Ом. И когда я намекнул ей на это, она прижалась ко мне и ответила, что я ее царь и, куда бы ее ни повел, она за мной последует. И вы увидите, что то, что она сказала, было глубокой правдой.
Юн-Сан сделал большую оплошность, оставив в живых Чонг-Монг-Джу! Впрочем, нельзя сказать, что это была оплошность со стороны Юн-Сана. Он просто не посмел поступить иначе. Отлученный от двора, Чонг-Монг-Джу тем не менее был слишком популярен среди провинциального духовенства. Юн-Сан вынужден был удержать занесенную руку, а Чонг-Монг-Джу, по видимости безропотно живший на северо-восточном берегу, в действительности не оставался праздным. Его эмиссары, главным образом буддийские жрецы, рассеялись по всей стране и вербовали для него самых загнанных провинциальных чиновников. Обдумывать и выполнять грандиозные и сложные заговоры возможно только при холодном терпении азиата. Дворцовая клика приверженцев Чонг-Монг-Джу так усилилась, как Юн-Сан и представить себе не мог. Чонг-Монг-Джу подкупил даже дворцовую стражу тигровых охотников из Пьенг-Янга, которыми командовал Ким. И в то время как Юн-Сан колебался, в то время как я отдавался спорту и княжне Ом, а Гендрик Гамель вырабатывал планы ограбления императорского казначейства и Иоганнес Маартенс обдумывал соответственные планы насчет могил на Табонгских горах, – вулкан замыслов Чонг-МонгДжу накоплял энергию, все еще ничем не выдавая себя.
Боже, боже, какая разразилась буря! Оставалось только одно – все на борт и спасай шкуру! И много было шкур, которых не удалось спасти. Заговор разразился преждевременно. В сущности, катастрофу ускорил Иоганнес Маартенс; то, что он сделал, было слишком на руку ЧонгМонг-Джу, чтобы тот не воспользовался.
Представьте себе: жители Чо-Сена фанатично преданы культу предков, а этот старый жадный голландский пират со своими четырьмя матросами в далеком Кионг-Джу задумал не больше не меньше как ограбить могилы царей древней Силлы, погребенных в золотых гробах! Сделали они это ночью, и до утра пробирались к берегу. Но на следующий день на землю спустился густой туман, они заблудились и не нашли дороги к ожидавшей их джонке, которую Иоганнес Маартенс тайком подготовил и оснастил. Он и его матросы были остановлены Ин-Сун-Сином, местным судьей, одним из приверженцев Чонг-Монг-Джу. Только Герману Тромпу удалось улизнуть в тумане, и много времени спустя он рассказал мне о происшествии.
В эту ночь Кейджо и весь двор спали, ничего не ведая, хотя известие о святотатстве уже побежало по Чо-Сену, и добрая половина северных провинций восстала против своих чиновников. По приказу Чонг-Монг-Джу ночные костры свидетельствовали о том, что в стране мир. Каждую ночь зажигались такие костры, между тем как посланцы Чонг-Монг-Джу днем и ночью загоняли до смерти лошадей на всех дорогах Чо-Сена. Мне довелось увидеть, как его гонец прибыл в Кейджо. Были сумерки. Выходя из больших ворот столицы, я увидал, как пала загнанная лошадь, и измученный ездок пошел пешком. Я не подозревал, что этот человек несет с собой мой приговор...
Привезенные им вести послужили сигналом к дворцовой революции. Я должен был вернуться только к полуночи, а к полуночи все уже было сделано. В девять часов вечера заговорщики захватили императора в его личных покоях. Они заставили его немедленно созвать всех министров, и когда те один за другим появились, их зарубили на его глазах. Тем временем восстали тигровые охотники и перестали повиноваться. Юн-Сана и Гендрика Гамеля жестоко избили мечами плашмя и посадили в тюрьму. Семерым матросам удалось бежать из дворца вместе с княжной Ом. Это удалось им благодаря Киму, который с мечом в руке загородил путь своим собственным тигровым охотникам. Его изрубили и перешагнули через тело. К несчастью, он не умер от этих ран.
Как вихрь в летнюю ночь, революция – разумеется, дворцовая революция – пронеслась и стихла. Чонг-МонгДжу очутился на вершине власти. Император утверждал все, чего требовал Чонг-Монг-Джу. Чо-Сен хранил спокойствие и только ахал, узнав об осквернении царских могил, и рукоплескал Чонг-Монг-Джу. Повсюду падали головы чиновников, которых Чонг-Монг-Джу заменял своими приверженцами; но против династии народ не восстал.
А с нами вот что случилось. Иоганнеса Маартенса и его трех матросов выставили плевкам черни половины деревень и городов Чо-Сена, а потом зарыли в землю по самую шею на открытой площадке перед воротами дворца. Им давали пить, чтобы тем сильнее хотелось есть: перед ними ставили и каждый час меняли дымящиеся вкусные яства. Говорят, старый Иоганнес Маартенс жил дольше всех, испустив дух лишь через пятнадцать дней.
Кима медленно измучили палачи, отнимая кость за костью и сустав за суставом, и он не скоро умер. Гамеля, в котором Чонг-Монг-Джу угадал моего наушника, казнили лопаткой – быстро и ловко заколотили насмерть под восторженные вопли подонков Кейджо. Юн-Сану дали умереть мужественной смертью. Он играл в шахматы со своим тюремщиком, когда прибыл гонец от императора или, вернее, от Чонг-Монг-Джу, с чашей яду.
– Погоди немного, – проговорил Юн-Сан. – Нельзя отрывать человека во время партии шахмат! Я выпью, как только кончу партию! – И, покуда гонец ждал, Юн-Сан окончил партию, выиграл ее, а потом осушил чашу.
Только азиат способен придумать настойчивую, неотвязную пожизненную месть. Такую месть придумал ЧонгМонг-Джу для меня и княжны Ом. Он не умертвил нас, даже не заключил в тюрьму. Княжну Ом лишили ранга и всего имущества. Повсюду в Чо-Сене, до последней деревушки, был обнародован и прибит императорский указ о том, что я происхожу из дома Кориу и никто не смеет убивать меня. Дальше было объявлено, что семерых матросов, оставшихся в живых, также нельзя убивать. Но им нельзя было оказывать и милосердия. Они должны были сделаться отверженцами, нищими большой дороги. И мы с княжной Ом тоже стали нищими большой дороги.
Последовало сорок долгих лет преследований. Ненависть Чонг-Монг-Джу к княжне Ом и ко мне была неумолима, как смерть. На наше несчастье, судьба даровала ему долгую жизнь – и нам также. Я уже говорил, что княжна Ом была чудо, не женщина! У меня нет более красноречивых слов, я могу только повторять эти слова. Я слыхал, одна знатная дама как-то сказала своему возлюбленному: «С тобой хоть шалаш и корка хлеба». В сущности, это самое княжна Ом сказала мне. Но мало того что сказала – буквально исполнила! А сколько раз у нас не хватало даже корки и кровом нам служил свод небесный!
Все усилия, которые я прилагал к тому, чтобы избежать нищенства, уничтожал Чонг-Монг-Джу. В Сонгдо я сделался дровоносом, и мы делили с княжной Ом лачугу, которая мало чем была лучше открытой дороги в зимнюю стужу. Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня и здесь, меня отдубасили, надели колодки на несколько дней и выгнали затем на дорогу. Это было суровой зимой – в эту зиму Фандерфоот замерз на улицах Кейджо.
В Пьенг-Янге я сделался водоносом. Этот древний город, стены которого стояли еще во времена царя Давида, считался своими жителями чем-то вроде челна, и рыть колодцы внутри его стен значило потопить город. И потому каждый день тысячи кули с кувшинами на плечах брели к реке и обратно. Я стал одним из них, но Чонг-МонгДжу разыскал меня. Меня избили и снова выгнали на дорогу.
И это повторялось каждый раз. В далеком Виджу я сделался мясником: убивал собак публично перед своим ларьком, резал и вешал туши для продажи, дубил шкуры, распяливал их в грязи, которую месили прохожие своими ногами. Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня.
Я был помощником красильщика в Пионхане, золотоискателем на россыпях Канг-Вуна, канатным мастером в Чиксане. Я плел соломенные шляпы в Подоке, собирал сено в Хвансай, а в Мазенно продался на рисовую плантацию и трудился, согнувшись в три погибели, на сырых полях, получая плату меньше последнего кули. И не было такого места или времени, чтобы длинная рука ЧонгМонг-Джу не достала меня, не покарала и не швырнула нищим на дорогу!
Мы с княжной Ом после двухлетних поисков нашли однажды один-единственный корешок дикого горького женьшеня – местные врачи так высоко ценят этот корень, что на выручку от одного этого корня мы с княжной Ом могли бы безбедно жить целый год. И когда я стал продавать его, меня схватили, отняли корень, а потом избили и держали в колодках дольше обыкновенного.
Везде и повсюду бродячие члены многолюдного цеха разносчиков доносили обо мне, о всех моих делах и замыслах Чонг-Монг-Джу в Кейджо. Со времени моего падения я только дважды встретился с Чонг-Монг-Джу лицом к лицу. В первый раз это было во вьюжную зиму, ночью, на высоких горах Канг-Вуна. За несколько медяков я купил себе и княжне Ом ночлег в самом грязном и холодном углу единственной комнаты гостиницы. Мы только собрались было приступить к нашему скудному ужину из конских бобов и дикого чесноку, сваренного вместе с мясом быка, наверное, издыхавшего от старости, когда снаружи послышался звон бронзовых колокольчиков и топот копыт. Дверь отворилась, и вошел Чонг-Монг-Джу, олицетворение благополучия и власти; он стал стряхивать снег со своих бесценных монгольских мехов. Тотчас же очистили место для него и дюжины его спутников – места было достаточно; но тут его взор упал на княжну Ом и меня.
– Вон этих гадов, что в углу, – вон отсюда! – скомандовал он.
И его конюхи выгнали нас кнутами на дорогу в снег. Как вы увидите, спустя много лет нам пришлось еще раз встретиться.
Мне не было спасения. Перейти северную границу мне не позволили. Ни разу не позволили сесть и в сампан у моря. Цех разносчиков разнес приказ Чонг-Монг-Джу во все деревни, так что не было ни одной души, которая бы не знала его. Я был обреченный человек.
Как хорошо я знаю каждую дорогу и горную тропинку Чо-Сена, все его города и самые маленькие деревушки! Сорок лет скитался я и голодал в Чо-Сене, и вместе со мной неизменно скиталась и голодала княжна Ом. Чего только мы не ели с голодухи! Гнилые отбросы собачьего мяса, которые в насмешку бросали нам мясники; минари – водяной кресс, растущий в вонючих, застоявшихся лужах; гнилой кимчи, от которого тошнило последнего мужика. Увы, я крал даже кости у собак, ползая по большим дорогам, ища оброненных зернышек риса, и в морозные ночи воровал у лошадей их дымящуюся бобовую похлебку!
Не нужно удивляться тому, что я не умер. У меня были две поддержки: первая – княжна Ом, не покидавшая меня, вторая – полная уверенность, что наступит момент, когда мои пальцы сомкнутся на глотке ЧонгМонг-Джу!
Вечно прогоняемые от городских ворот Кейджо, где я подстерегал Чонг-Монг-Джу, мы скитались годами и десятилетиями по всему Чо-Сену, и каждый вершок дороги был теперь знаком нашим сандалиям. Наша история известна была всей стране. Не было человека, который не знал бы нас и наложенной на нас кары. Кули и разносчики выкрикивали оскорбления по адресу княжны Ом, и им не раз случалось испытать цепкость моих пальцев, впивавшихся в узел на их темени, и изведать крепость моих кулаков на их скулах. А старухи в далеких горных деревнях, глядя на нищую женщину, шедшую рядом со мной, на погибшую княжну Ом, вздыхали и качали головой, и глаза их затуманивались слезами. Встречались молодые женщины, с состраданием смотревшие на мои широкие плечи, на мои синие глаза и длинные желтые волосы – на того, кто некогда был принцем Кориу и владыкой провинции. И целые толпы ребятишек бежали по пятам за нами, с криками и издевательствами, осыпая нас грязной руганью.
За Ялу на ширину сорока миль тянулась полоса пустыни, составлявшая северную границу и шедшая от моря до моря. В действительности это не была пустыня – ее сделала пустыней политика изоляции, которую проводил Чо-Сен. На этой сорокамильной полосе уничтожены были все хутора, деревни и города. Это была «ничья страна», кишевшая дикими зверями и пересекавшаяся только отрядами конных тигровых охотников, которые обязаны были убивать всякого человека, встреченного в этой полосе. Этим путем мы не могли бежать, как не могли бежать и морем.
Годы проходили, мои семь матросов, товарищи по несчастью, чаще появлялись в Фузане. Он находится на юго-восточном берегу, где климат мягче. Но гораздо важнее климата было то, что это ближайший во всем ЧоСене путь к Японии. Через узкий пролив, которого, однако, нельзя было окинуть даже взглядом, лежала наша надежда на спасение. Из Японии, куда, несомненно, время от времени приходили суда из Европы. Как сейчас вижу перед собой на утесах Фузана этих семерых людей, жадно глядящих на море, по которому им не суждено было больше плавать.
Временами показывались японские джонки, но ни разу мы не заметили знакомого паруса старой Европы. Проходили годы, а семь матросов и я с княжной Ом, вступившие уже из пожилого возраста в старость, все чаще направляли свои стопы к Фузану. И по мере того как уходили годы, то один, то другой отсутствовал на обычном месте. Первым умер Ганс Амден. Сообщил нам об этом Якоб Бринкнер, его спутник по скитаниям. Якоб Бринкнер был последним из семерки и умер почти девяноста лет, пережив Тромпа всего двумя годами. Я хорошо помню этих двоих под конец: изможденные, ослабевшие. в отрепьях нищих, с чашками для сбора милостыни, они рассказывали старинные сказки детски-пискливыми голосами. Тромп без конца повторял их, как Иоганнес Маартенс и матросы ограбили царей горы Табонга, лежавших набальзамированными в золотых гробах и имевших справа и слева от себя по набальзамированной девушке; и как эти древние цари рассыпались прахом за один час, в течение которого матросы с проклятием тащили гробы.
Старый Иоганнес Маартенс, наверное, удрал бы через Желтое море со своей добычей, если 6ы на другой день не случился туман, который погубил его. О, этот проклятый туман! О нем сложили песню, которую я с ненавистью слушал по всему Чо-Сену ежедневно вплоть до последнего дня. Вот две строчки из нее:
Густой туман западных людей
Висит над вершиной Веана.
Сорок лет я жил нищим в Чо-Сене. Один я остался в живых из четырнадцати человек, выброшенных бурей на берег. Из такого же крепкого материала была сложена и княжна Ом, и мы старились вместе. Она была теперь маленькая, сморщенная, беззубая старушка; но все же это было чудо, а не женщина, и сердце мое хранило ей верность до конца. Я же для семидесятилетнего старика сохранил еще много силы. Лицо мое сморщилось, желтые волосы побелели, широкие плечи согнулись. Но все же в моих мускулах осталась матросская сила.
Только благодаря ей я и оказался в состоянии сделать то, о чем сейчас расскажу. В одно весеннее утро на склонах Фузана, у большой дороги, мы с княжной Ом сели погреться на солнышке. Мы были в нищенских лохмотьях, покрытых пылью, но все же я весело смеялся какой-то шутке княжны Ом, – как на нас пала тень. Это была тень от больших носилок Чонг-Монг-Джу, несомых восемью кули, с верховыми спереди и позади и пышной свитой по бокам.
Два императора, гражданская война, голод и дюжина дворцовых революций прошли и исчезли; а Чонг-МонгДжу остался и держал в своих руках власть над Кейджо. В это весеннее утро на склонах Фузана ему было, вероятно, около восьмидесяти лет, когда он подал своей парализованной рукой знак остановить носилки, чтобы поглядеть на тех, кого он так долго истязал.
– О, царь мой! – пробормотала мне княжна Ом. Потом визгливо стала просить милостыню у Чонг-МонгДжу, сделав вид, что не узнает его.
Я понял ее мысль. Не лелеяли ли мы ее все сорок лет? И момент исполнения настал наконец. Поэтому я сделал вид, что не узнал своего врага, и, напустив на себя вид впавшего в идиотизм старца, я пополз по пыли к его носилкам, с визгом прося милостыню.
Свита отогнала бы меня прочь, но Чонг-Монг-Джу остановил своих слуг дребезжащим голосом. Он оперся на трясущийся локоть, а другой трясущейся рукой раздвинул занавески. Его сморщенное старческое лицо исказилось гримасой восторга, когда он взглянул на нас.
– О, мой царь, – говорила княжна Ом, нищенски причитая; и я знал, что вся ее бесконечно испытанная любовь и вера в мой замысел были вложены в эти причитания.
И в это мгновение во мне поднялся багровый гнев. Неудивительно, что я так и затрясся в усилиях овладеть собою. К счастью, они приняли эту дрожь за старческую слабость. Я протянул мою медную чашку для сбора милостыни, еще жалобнее завизжал и закрыл глаза, чтобы скрыть синий огонь, который, без сомнения, пылал в них, а тем временем рассчитывал расстояние и силу для своего прыжка.
И тут меня захлестнуло багровым пламенем. Раздался треск занавесок и падающих шестов, раздались крики приближенных – и мои пальцы сомкнулись на глотке Чонг-Монг-Джу! Носилки опрокинулись, я перестал сознавать, что со мной, но пальцы мои не разжимались.
Среди подушек, шестов и занавесей первые удары телохранителей почти не чувствовались мной. Но вскоре подоспели верховые, град ударов рукоятками бичей посыпался на мою голову, и множество рук схватили и терзали меня. У меня кружилась голова, но я не потерял сознания и с чувством блаженства все крепче стискивал своими старыми пальцами тощую, морщинистую, старую шею, которую так долго искал. Град ударов продолжал сыпаться на мою голову, и в мозгу моем быстро пронеслась мысль, что я похож на бульдога, сомкнувшего челюсти. Чонг-Монг-Джу не ушел от меня, и я знаю, что он был мертв еще до наступления темноты, в которую наконец погрузился и я на склонах Фузана у Желтого моря.