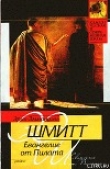Текст книги "Межзвездный скиталец"
Автор книги: Джек Лондон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА XIV
Когда по истечении первых десяти дней пребывания в смирительной рубашке доктор Джексон привел меня в чувство, надавив большим пальцем руки мое веко, я раскрыл оба глаза и усмехнулся прямо в физиономию смотрителю Этертону.
– Слишком гнусен для жизни и слишком подл, чтобы умереть! – изрек он.
– Десять дней прошли, смотритель, – прошептал я.
– Что ж, мы развяжем тебя, – прорычал он.
– Не в этом дело, – продолжал я. – Вы видели мою улыбку? Вы помните, мы с вами побились о небольшой заклад? Не спешите развязывать меня. Дайте только немного табаку и папиросной бумаги Моррелю и Оппенгеймеру. А вот вам и новая улыбка от полноты моей души!
– О, я знаю, какой ты породы, Стэндинг! – отвечал смотритель. – Но это тебе не поможет. Если я не побью тебя, так ты побьешь... все рекорды лежания в пеленках!
– Он уже побил их, – вставил доктор Джексон. – Слыханное ли дело, чтобы человек улыбался после десяти суток смирительной куртки?
– Ну ладно, будет! – решил смотритель Этертон. – Развяжи его, Гетчинс.
– К чему такая спешка? – спросил я, разумеется, шепотом; так мало жизни осталось во мне, что даже для этого шепота мне пришлось собрать все свои слабые силы. – Зачем торопиться? Я не спешу к поезду, и мне так чертовски удобно, что я предпочитаю, чтобы меня не тревожили.
Но они все-таки развязали меня, выкатили из вонючей куртки и оставили на полу инертной, беспомощной массой.
– Не удивительно, что ему удобно! – воскликнул капитан Джэми. – Он ничего не чувствовал. Ведь у него паралич!
– Паралич твоей бабушке! – зарычал смотритель. – Поставь его на ноги – и увидишь, он будет стоять!
Гетчинс и доктор вздыбили меня.
– Теперь отпустите! – скомандовал смотритель.
В тело, умиравшее на десять суток, жизнь не могла вернуться сразу; у меня подкосились колени, я зашатался и треснулся с размаху лбом о стену.
– Видите! – произнес капитан Джэми.
– Актерство! – возразил смотритель. – От такого субъекта можно ждать какой угодно выходки!
– Вы правы, смотритель, – прошептал я с пола. – Я это сделал нарочно. Это было «актерское» падение. Поднимите меня, и я повторю. Обещаю вам великую потеху!
Не стану описывать мучений, причиняемых возобновленным кровообращением после куртки. Мне это стало в привычку; но борозды, проведенные на моем лице этими муками, я унесу с собой на эшафот.
Меня наконец оставили в покое, и я пролежал остальную часть дня в полустолбняке. Есть такая вещь как анестезия, вызванная болью, слишком чудовищною, чтобы ее можно было сносить. Мне суждено было познать такую анестезию!
К вечеру я мог уже ползать по своей камере, но еще не в силах был встать на ноги. Я выпил много воды; но только на следующий день я мог заставить себя поесть, и то исключительным напряжением воли.
Программа, начертанная для меня смотрителем Этертоном, заключалась в том, что мне дадут отдохнуть и восстановить силы в течение нескольких дней, а затем, если я не признаюсь, где спрятан динамит, опять зашнуруют на десять суток в «пеленки».
– Мне жаль, что я причиняю вам столько беспокойства, смотритель, – ответил я ему. – Жаль, что я не умер в куртке и тем самым не избавил вас от хлопот.
Не думаю, чтобы в ту пору я весил хоть унцией больше девяноста фунтов. Между тем за два года до этого, когда ворота Сан-Квэнтина впервые захлопнулись за мною, я весил сто шестьдесят пять фунтов. Казалось невероятным, чтобы я мог потерять еще одну унцию весу – и остаться в живых! А между тем в последовавшие месяцы я терял в весе унцию за унцией, так что вес мой стал ближе к восьмидесяти фунтам, чем к девяноста. Я знаю, что когда мне впоследствии удалось вырваться из одиночки и трахнуть по носу сторожа Серстона, я весил восемьдесят фунтов; это было перед тем, как меня отвели в СанРафаэль на суд, предварительно почистив и выбрив.
Некоторые удивляются, как люди могут ожесточаться душою. Смотритель Этертон был жестокий человек. Он ожесточал меня, а мое ожесточение действовало на него и ожесточало его еще больше. И все же ему не удалось умертвить меня. Понадобились законы штата Калифорнии, судья-вешатель и беспощадный губернатор, чтобы послать меня на виселицу за то, что я ударил кулаком тюремного сторожа. Я не перестану утверждать, что у этого сторожа просто невероятно кровоточащий нос. Я в ту пору был полуслепой, шатающийся скелет. Иногда я даже сомневаюсь, действительно ли у него потекла кровь из носу. Он-то, разумеется, клялся в этом у судейского стола. Но я знаю, что тюремные сторожа способны на гораздо более серьезные лжесвидетельства.
Эду Моррелю не терпелось узнать, удался ли мне опыт; но когда он попытался заговорить со мной, его остановил Смит – сторож, случайно оказавшийся на дежурстве при одиночках.
– Все в порядке, Эд, – простучал я ему. – Вы с Джеком не шевелитесь, я вам все расскажу. Смит не может помешать вам слушать, а мне говорить. Они сделали худшее, на что только были способны, а я все еще жив!
– Замолчи, Стэндинг, – проревел мне Смит из коридора, в который выходили все камеры.
Смит был необычайно мрачный субъект, едва ли не самый жестокий и мстительный из всех наших сторожей. Мы часто занимались тем, что строили догадки: жена ли его пилит, или он страдает хроническим несварением желудка?
Я продолжал выстукивать костяшками пальцев, и он наклонился к окошечку – посмотреть, что я делаю.
– Я сказал тебе, чтобы ты прекратил эту музыку! – зарычал он.
– Мне очень жаль, – ласково ответил я. – Но у меня род предчувствия, что я именно должен продолжать стук. И... кхе... прости мне вопрос личного характера: что ты намерен предпринять в отношении меня?
– Я... – запальчиво начал он, но так и не докончил фразы, не зная, что сказать.
– Ну? – поощрял я его. – Что именно, скажи!
– Я позову сюда смотрителя, – нерешительно проговорил он.
– Позови, сделай милость. Обворожительнейший джентльмен, что и говорить! Блестящий пример облагораживающего влияния наших тюрем! Приведи же его скорей. Я хочу донести ему на тебя.
– На меня?
– Да, именно на тебя, – продолжал я. – Ты самым грубым образом, по своему мужицкому невежеству, мешаешь мне беседовать с другими гостями этого странноприимного дома.
И смотритель Этертон явился. Двери отперли, и он ураганом влетел в мою камеру. Но я ведь был в безопасности! Худшее он уже сделал. Я был вне его власти,
– Я прекращу тебе паек! – пригрозил он.
– Сколько угодно, – отвечал я. – Я привык к этому. Я не ел вот уже десять дней, и знаете, опять начинать есть – очень нудное дело!
– Ого, уже ты начинаешь грозить мне, а? Голодовка, а?
– Извините, – с угрюмой вежливостью проговорил я. – Предположение сделано вами, а не мною. Попробуйте, будьте хоть раз последовательны! Надеюсь, вы поверите, если я скажу вам, что мне труднее сносить вашу непоследовательность, чем все ваши пытки.
– Ты перестанешь перестукиваться? – спросил он.
– Нет, простите, что огорчаю вас, но у меня так велика потребность перестукиваться, что...
– Я сейчас же опять затяну тебя в куртку! – оборвал он меня.
– Сделайте одолжение! Я влюблен в куртку! Я жирею в куртке! Посмотрите на эту руку! – я засучил рукав и показал ему мышцу такую исхудавшую, что когда я напряг мускул, получилось что-то вроде шнурка. – Бицепс дюжего кузнеца, не правда ли, смотритель? Посмотрите на мою могучую грудь! А мой живот – да ведь я так растолстел, что вас привлекут к суду за перекармливание арестантов! Будьте начеку, смотритель, не то налогоплательщики возьмутся за вас!
– Ты перестанешь перестукиваться? – заревел он.
– Нет, благодарю за ваше милое участие! По зрелом размышлении я решил, что буду продолжать перестукиваться!
С минуту он смотрел на меня, не находя слов, и, сознав свое полное бессилие, повернулся, чтобы уйти.
– Один вопрос!
– Какой? – бросил он через плечо.
– Что вы предполагаете сделать теперь?
На него напал такой припадок бешенства, что я до сих пор дивлюсь: как он не скончался от апоплексии?
После того, как смотритель ушел с позором, я час за часом выстукивал повесть своих приключений. Но Моррель и Оппенгеймер получили возможность ответить мне только вечером, когда на дежурство пришел Пестролицый Джонс, по обычаю своему тотчас же задремавший.
– Сны! – простучал Оппенгеймер свое мнение.
«Да, – подумал я, – наши переживания действительно составляют материал наших снов».
– В бытность ночным посыльным я однажды напился, – продолжал Оппенгеймер. – И должен сказать; тебе не угнаться за мной по части снов! Я полагаю, так и поступают все романисты – они напиваются, чтобы подстегнуть свое воображение.
Но Эд Моррель, странствовавший по тем же дорогам, что и я, хотя и с иными результатами, поверил мне. Он сказал мне, что когда его тело умирало в куртке и он вырывался из тюрьмы, то всегда оставался тем же Эдом Моррелем. Он никогда не переживал п р е ж н и х своих существований. Когда его дух странствовал на воле, он всегда делал это в н а с т о я щ е м. Он нам рассказал, что, как только он оказывался в состоянии покинуть свое тело и увидеть его «со стороны», лежащим в смирительной рубашке на полу камеры, он мог покидать тюрьму, отправляться в нынешний Сан-Франциско и видеть, что там делается. Таким родом он дважды навестил свою мать и оба раза заставал ее спящей. В этих духовных скитаниях, говорил Эд, он не имел власти над материальными предметами. Он не мог, например, отворить или затворить дверь, сдвинуть какой-нибудь предмет, произвести шум или чем-нибудь проявить свое присутствие. С другой стороны, материальные вещи не имели власти над ним. Стены и двери не служили для него препятствием. Реальной, действительной его сущностью был, как он думает, дух.
– В бакалейной лавке на углу, около дома матери, переменились хозяева, – рассказывал он нам. – Я это узнал по новой вывеске. После этого мне пришлось ждать шесть месяцев, пока я мог написать свое первое письмо; но первым делом я спросил мать об этой лавке. И она ответила: да, хозяева другие!..
– Ты читал эту вывеску? – спросил Джек Оппенгеймер.
– Разумеется, читал, – отвечал Моррель, – иначе как бы я узнал это?..
– Отлично, – продолжил неверующий Оппенгеймер. – Ты легко можешь доказать нам! Когда-нибудь, когда нам пришлют приличного сторожа, который даст нам посмотреть газету, ты устрой так, чтобы тебя запеленали в куртку, вылезь из своего тела и катай в старый Фриско! Проберись на угол Третьей и Базарной улиц часа в два-три ночи, когда выпускают утренние газеты из машины. Прочти последние новости. Потом улепетывай обратно в Сан-Квэнтин, вернись раньше, чем пароходик с газетами переплывет залив, и расскажи мне, что ты прочел. Утром мы попросим у сторожа газету. И если в газете окажется то, что ты мне здесь расскажешь, – ну, тогда я готов тебе поверить!
Это была дельная проверка. Я не мог не согласиться с Оппенгеймером, что такое доказательство будет абсолютно убедительным. Моррель ответил, что он готов все это проделать, но он так не любит процедуры оставления своего тела, что сделает это, лишь когда мучения в куртке станут слишком невыносимы.
– Так они все увиливают, когда дело идет начистоту! – саркастически заметил Оппенгеймер. – Моя мать верила в духов. Когда я был малым ребенком, она постоянно видела их, беседовала с ними, получала от них советы. Но настоящего толку она никогда не могла от них добиться. Духи не могли сказать ей, где бы старику разжиться работишкой, или как найти золотую россыпь, или угадать выигрышный номер в китайской лотерее. Ни за какие коврижки. А говорили они ей про то, что у старикова дяди был, мол, зоб, что дедушка его скончался от скоротечной чахотки или что мы переберемся на другую квартиру этак через четыре месяца – предсказать это было чертовски легко, потому что мы меняли квартиру по меньшей мере шесть раз в год!
Я думаю, что, если бы Оппенгеймеру дать правильное образование, из него вышел бы второй Маринетти или Геккель. Он крепко держался за неопровержимые факты, и логика его была несокрушима, хотя и несколько холодна. «Ты п о к а ж и мне» – такова была основная точка зрения, с которой он рассматривал вещи. Веры у него не было ни на грош. На это и указывал Моррель. Неверие и мешало Оппенгеймеру добиться успеха с «малой» смертью в «пеленках».
Как видите, читатель, не все было безнадежно плохо в одиночном заключении! При наличии таких трех умов, как наши, было чем занять время. Возможно, что мы спасли таким образом друг друга от сумасшествия, хотя нужно заметить, что Оппенгеймер гнил в одиночке пять лет совершенно один, пока к нему присоединился Моррель, и все же сохранил здравый рассудок.
С другой стороны, не впадайте в противоположную ошибку – не вообразите, будто наша жизнь в одиночке была необузданной оргией блаженных и радостных психологических изысканий...
Мы терпели разнообразные, частые и страшные муки. Наши сторожа – ваши палачи, гражданин, – были настоящие звери. Еду нам подавали гнилую, однообразную, непитательную. Только люди с большой силой воли могли жить на таком скудном пайке! Я знаю, что наши премированные коровы, свиньи и овцы на показательной университетской ферме в Дэвисе зачахли бы и издохли, получай они такой, плохо в научном смысле рассчитанный, паек, как мы.
Книг нам не давали. Даже наши беседы посредством перестукивания были нарушением правил. Внешний мир, по крайней мере для нас, не существовал. Это скорее был мир привидений. Оппенгеймер, например, ни разу в жизни не видел автомобиля или мотоцикла. Новости лишь случайно просачивались к нам – в виде туманных, страшно устарелых, ненастоящих каких-то вестей. Оппенгеймер рассказывал мне, что о русско-японской войне он узнал лишь через два года после того, как она окончилась!
Мы были погребенными заживо, живыми трупами! Одиночка была нашей могилой, в которой, при случае мы переговаривались стуками, как духи, выстукивающие на спиритических сеансах.
Новости? Вот какие пустяки составляли наши новости: сменили пекарей – это было видно по изменившемуся качеству хлеба. Почему Пестролицый Джонс отсутствовал неделю? Болел или получил отпуск? Почему Вильсона, продежурившего всего десять ночей, перевели в другое место? Откуда взялся у Смита синяк под глазом? Над пустяками вроде этого мы способны были ломать себе голову целыми неделями!..
Заключение каторжника в одиночку на месяц было уже крупным событием. Но от таких мимолетных и чаще всего глупых Данте, слишком мало гостивших в нашем аду, чтобы научиться перестукиванию, мы ничего не могли узнать за короткий срок, по истечении которого они опять уходили на вольный белый свет.
Впрочем, не все было однообразно-пошло в нашей юдоли теней. Я, например, научил Оппенгеймера играть в шахматы. Подумайте, какой это колоссальный подвиг – научить человека, отдаленного от вас тринадцатью камерами, при помощи перестукиваний костяшками пальцев, учить его видеть мысленно перед собой шахматную доску, воссоздавать зрительный образ всех пешек, фигур и позиций, заучивать разные приемы движения фигур; и довести эту выучку до такого совершенства, что в конце концов мы с ним могли в уме разыгрывать целые партии в шахматы. В к о н ц е к о н ц о в, сказал я. Вот лишний пример даровитости Оппенгеймера: в конце концов он стал меня обыгрывать – это человек-то, ни разу в жизни не видевший глазами шахмат!
Какой зрительный образ мог, например, возникать в его уме, когда я выстукивал ему слово «слон»? Я многократно и тщетно задавал ему этот вопрос. Так же тщетно пытался он описать словами мысленный образ чего-то, чего он никогда не видел, но чем он все же умел оперировать так мастерски, что бесчисленное число раз ставил меня в тупик во время игры.
Я могу только констатировать подобные проявления ума и воли и заключить, как я не раз заключал, что в них-то и таится реальное. Только дух реален. Плоть – фантасмагория, видение. Я спрашиваю вас: каким образом материя, или плоть, в какой бы то ни было форме может играть в шахматы на воображаемой доске воображаемыми фигурами, через пространство в тринадцать тюремных ка мер, заполняемое только стуками?
ГЛАВА XV
Некогда я был Адамом Стрэнгом, англичанином. Период этой моей жизни, насколько я могу сообразить, приходится на промежуток 1550-1650 годов, и я, как вы увидите, дожил до почтенной старости. С той поры как Эд Моррель научил меня искусству умирать «малой» смертью, я всегда сильно жалел, что так плохо знаю историю. Иначе я в состоянии был бы определить точнее многое, что остается для меня темным. Теперь мне приходится ощупью разбираться во временах и местах моих прежних существований.
Особенность моего существования в образе Адама Стрэнга составляет то, что я мало что помню о первых тридцати годах моей жизни. Много раз во время моего лежания в смирительной рубашке воскресал Адам Стрэнг, но всегда рослым, мускулистым тридцатилетним мужчиной.
Я, Адам Стрэнг, неизменно начинаю себя сознавать на группе низких песчаных островов где-то под экватором – должно быть, в западной части Тихого океана. Здесь я всегда чувствую себя как дома – вероятно, жил там довольно долгое время. На этих островах живут тысячи людей, хотя я среди них единственный белый. Туземцы здесь превосходной человеческой породы, мускулистые, широкоплечие, рослые. Шестифутовый человек среди них – обыкновенное явление. Их царь Раа Кук на добрых шесть дюймов превышает шесть футов, и, хотя весит он не менее трехсот фунтов, он так пропорционально сложен, что его нельзя назвать тучным. Многие из его вождей столь же крупного роста, а женщины немногим меньше мужчин.
В этой группе множество островов, и над всеми царит Раа Кук, хотя группа островов на юге иногда поднимает восстания. Туземцы, с которыми я живу, – полинезийцы, и это я знаю, потому что у них прямые и длинные волосы. Кожа у них золотисто-коричневая. Язык, на котором я говорю с необычайной легкостью, музыкален и плавен, в нем мало согласных и много гласных. Они любят цветы, музыку, пляски и игры и детски бесхитростны и веселы в своих забавах, хотя страшно жестоки в гневе и войнах. Я, Адам Стрэнг, знаю свое прошлое, но как будто мало думаю о нем. Я живу в настоящем. Я не задумываюсь ни над прошлым, ни над будущим. Я беспечен, непредусмотрителен, неосторожен, счастлив от жизнерадостности и избытка физической энергии. Рыбы, плоды овощи и морские водоросли – набил себе желудок, и доволен! Я занимаю высокое место среди приближенных Раа Кука, и выше меня нет никого, не выше меня даже Абба Таак, который стоит над всеми жрецами. Никто не смеет поднять на меня руку или оружие. Я – т а б у, неприкосновенен, как неприкосновенен лодочный сарай, под полом которого покоятся кости одному небу известно скольких прежних царей славного рода Раа Кука.
Я знаю все подробности о том, как я потерпел крушение и остался один среди экипажа моего судна, – был сильный ветер, и оно затонуло; но я не раздумываю над этой катастрофой. Когда я оглядываюсь назад, то чаще всего думаю о своем детстве, о ребенке, который держался за юбки моей хорошенькой матери, англичанки с молочнобелой кожей и белыми, как лен, волосами. Я жил тогда в крохотной деревушке из десятка коттеджей, крытых соломой. Как сейчас слышу скворцов и дроздов в кустах, вижу колокольчики, рассыпанные среди дубового леса по мягкой траве, как пена лазурной воды. Но ярче всего мне вспоминается большой, с мохнатыми бабками, жеребец, пляшущий и играющий, которого часто проводили по узкой деревенской улице. Я пугался огромного животного и всегда с криком бросался к матери, хватался за ее юбки и прятал в них лицо.
Но довольно об этом. Я намерен писать вовсе не о детстве Адама Стрэнга.
Несколько лет я жил на этих островах, имени которых не знаю и на которых, я уверен, я был первым белым человеком. Я был женат на Леи-Леи, сестре царя, которая была чуть-чуть повыше шести футов и несколько выше меня. Я был великолепным образцом мужчины – широкоплечий, с высокой грудью, хорошо сложенный. Женщины всех рас, как вы увидите, благосклонно поглядывали на меня. Кожа на руках выше локтей и на всех закрытых от солнца местах была у меня молочно-белая, как у моей матери. Глаза голубые. Мои усы, борода и волосы имели золотисто-желтый цвет, какой иногда приходится видеть на портретах северных викингов. Да, наверное, я происходил из какого-нибудь старинного рода викингов, давно осевшего в Англии, и хотя я родился в деревне, морская соль так густо была примешана к моей крови, что я очень рано поступил на корабль квартирмейстером, то есть, в сущности, простым матросом. Это не офицер и не «барин», но именно матрос, много работающий, обветренный, выносливый.
Я был полезен Раа Куку, чем и объясняется его царское покровительство. Я умел работать с железом, а наш разбитый корабль принес первое железо в страну Раа Кука. Время от времени мы отправлялись на пирогах миль за тридцать к северо-западу брать железо с обломков корабля. Кузов его оторвался от рифа и лежал на глубине девяноста футов, и с этой глубины мы доставали железо. Туземцы были изумительными пловцами и водолазами. Я тоже научился спускаться на глубину девяноста футов, но никогда не мог сравняться с ними в этом искусстве! На суше, благодаря моему английскому воспитанию и силе я мог бросить наземь любого из них. Я научил их матросской «игре с шестом», и она приобрела такую популярность, что проломанные головы сделались у нас бытовым явлением.
С корабля однажды притащили дневник, до того изорванный и попорченный морской водой, с расплывшимися чернилами, что едва можно было разобрать текст. Однако в надежде, что какому-нибудь ученому-историку удастся точно определить время описываемых мной событий, я здесь приведу выдержку из этого дневника.
«Ветер был попутный и дал нам возможность осмотреть и высушить часть нашей провизии, в особенности несколько китайских окороков и сухую рыбу, составлявшую часть нашего продовольствия. На палубе совершили богослужение. После полудня ветер задул с юга свежими и сухими порывами, так что на другое утро мы получили возможность вычистить межпалубное пространство, а так же окурить корабль порохом».
Но мой рассказ касается не Адама Стрэнга, потерпевшего крушение матроса на коралловом острове, а Адама Стрэнга, впоследствии именуемого Йи-Йонг-Ик, Могучим, который некоторое время был фаворитом могущественного Юн-Сана и любовником и супругом девы Ом из царской семьи Мин, а затем долгое время нищим и парием, шатавшимся по деревням всего побережья и по дорогам Чо-Сена. (Ах, я и забыл вам сказать – Чо-Сен – значит «Страна Утреннего Спокойствия». В наше время ее называют Кореей.)
Вспомните, что я жил три или четыре века тому назад и был первым белым человеком на коралловых островах Раа Кука. В этих водах в ту пору суда появлялись редко. Я легко мог бы окончить свои дни в мире и довольстве под солнцем страны, не знающей морозов, если бы не «Спарвер». «Спарвер» был голландский купеческий корабль, дерзнувший пуститься в неисследованные моря в поисках Индии и попавший далеко за Индию. Вместо Индии он нашел меня – и это были все его открытия.
Не говорил ли я, что я был веселым, с золотыми волосами гигантом, на всю жизнь оставшимся беспечным юношей? Когда «Спарвер» наполнил свои бочки водою, я без малейших угрызений совести покинул Раа Кука и его прелестный край, покинул Леи-Леи и ее сестер в венках и, с улыбкой на губах, вдыхая знакомые корабельные запахи, отплыл опять простым матросом под командой капитана Иоганнеса Маартенса.
Это было изумительное путешествие на старом «Спарвере»! Мы искали новые страны, где есть шелка и пряности. А в действительности нашли лихорадки, скоропостижные смерти, зараженные чумой края, где смерть прихотливо смешивалась с красотой. Этот старый Иоганнес Маартенс, без капли романтики на своем тупом лице и в седой квадратной голове, искал Соломоновы острова и алмазные копи Голконды – он искал даже старую забытую Атлантиду, которая, по его мнению, еще плавала над водой. А нашел охотников за головами и людоедов, живущих на деревьях!
Мы пристали к странным островам, берега которых были изрезаны волнами, на которых поднимались горы с дымящимися вершинами; маленькие, не то звери, не то люди, с колтуном на голове вместо волос, завывали в лесных дебрях; они перегородили свои лесные тропинки колючками и ямами с острыми кольями на дне и в сумерки пускали в нас отравленные стрелы. Стоило такой стреле ужалить кого-нибудь из нас – и он кончался в страшных муках, с дикими воплями. Потом мы натолкнулись на других людей, более крупных и еще более свирепых; они встретили нас открытым боем на взморье, засыпали нас дождем стрел и дротиков под грохот барабанов из выдолбленного древесного ствола и там-тамов. На всех холмах столбом поднимались сигнальные дымки.
Гендрик Гамель был судовым приказчиком и владельцем небольшой части «Спарвера», остальное же все принадлежало капитану Иоганнесу Маартенсу. Последний говорил немножко по-английски, Гендрик Гамель чуть побольше его. Матросы, с которыми я жил, говорили только поголландски. Но поверьте – матрос может выучиться поголландски и даже по-корейски, как вы увидите.
Наконец мы прибыли в Японию, которая в то время уже была нанесена на карту. Но этот народ не хотел иметь с нами дела. Японские чиновники, вооруженные двумя мечами, в широких шелковых платьях, от которых у капитана Иоганнеса Маартенса потекли слюнки, взошли к нам на корабль и вежливо предложили убираться прочь. Под их вкрадчивыми манерами чувствовалась железная воля воинственного народа – мы поняли это и поплыли своим путем-дорогой.
Мы переплыли Японский залив и входили уже в Желтое море на пути в Китай, как вдруг «Спарвер» наскочил на подводные скалы. «Спарвер» был старой калошей, неуклюжей и грязной, киль его до такой степени зарос ракушками, что нам не удалось снять судно с места. Оно только покачивалось на воде, как репа, выброшенная поваром, но не снималось с места. Галиоты по сравнению с этой скорлупой были настоящими клипперами. Нечего было и думать сняться с камней. А тут еще налетел ветер, сильный как ураган, и трепал нас нещадно сорок восемь часов подряд.
Он сорвал наше судно и погнал его к суше, в холодном рассвете бурного дня, по безжалостному морю, по которому ходили волны, как горы. Было самое холодное время зимы, и сквозь снежную метель мы могли разглядеть негостеприимный берег – если только это можно было назвать берегом, так все было размыто. Повсюду виднелись бесчисленные снеговые вершины; повсюду торчали утесы, слишком крутые, чтобы задержать на себе снег, острые мысы, зубцы и обломки камней, торчащие из кипящего моря.
Названия этой страны, к которой нас несли волны, мы не знали, ибо ее никогда не посещали европейские мореплаватели. Эта береговая линия была чуть намечена на нашей карте. Приходилось заключить, что жители ее так же негостеприимны, как и та часть страны, которую мы могли окинуть глазом.
«Спарвер» несло носом на утес. Здесь было довольно глубоко, и наш бушприт сломался от удара и отлетел прочь. Фок-мачта, разрывая снасти, рухнула вперед, на скалу.
Я искренне восхищался старым Иоганнесом Маартенсом. Огромная волна смыла нас прочь с высокой кормы, и мы застряли посередине судна, откуда с усилием стали пробираться на бак. Прочие следовали за нами. Мы крепко привязали себя и пересчитали, сколько осталось всего людей. Нас было восемнадцать человек. Остальные погибли.
Иоганнес Маартенс, дотронувшись до меня, указал вперед, на скалу, с которой водопадом лилась вода. Я понял, на что он указывает. В двадцати футах наша фокмачта уперлась в выступ скалы. Над выступом виднелась расщелина. Он спрашивал меня, хватит ли у меня мужества прыгнуть с вершины мачты в расщелину! Расстояние иногда сокращалось до шести футов, иногда же доходило до двадцати, ибо мачта шаталась, как пьяная, от бешеных раскачиваний кузова судна.
Я начал взбираться на мачту. Но товарищи не стали ждать. Один за другим они отвязали себя и последовали за мной на опасную мачту. И нужно было торопиться, потому что в любой момент «Спарвер» мог соскользнуть в глубокую воду. Я рассчитал свой прыжок и сделал его, упав в расщелину и приготовившись подать руку помощи тем, кто прыгал за мной. Это была очень трудная работа. Мы промокли и наполовину замерзли на ветру. Кроме того, прыжки нужно было соразмерить с покачиваниями кузова и мачты.
Первым погиб повар. Его сорвало с верхушки мачты, и он несколько раз перекувырнулся в воздухе при падении. Волна подхватила его и превратила в кашу ударами о камни. Кают-юнга, бородатый молодой человек лет двадцати с чем-то, не удержался, соскользнул вдоль мачты и был притиснут к подножию скалы. Притиснут? В одно мгновение из него выдавило жизнь! Двое других последовали за поваром. Капитан Иоганнес Маартенс соскочил последним, и в расщелине оказалось четырнадцать человек. Через час «Спарвер» сполз со скалы и потонул в глубокой воде.
Два дня и две ночи мы погибали на этой скале, потому что не было возможности ни спуститься, ни подняться по ней. На третье утро нас нашла рыбачья лодка. Люди, сидевшие в ней, были одеты в грязные белые одеяния, и длинные волосы их были завязаны на макушке оригинальным узлом – «брачным узлом», как я впоследствии узнал; впоследствии же я узнал, что за такой узел очень удобно хвататься одной рукой, в то время как другой рукой вы колотите туземца за неимением более удовлетворительных доводов.
Лодка направилась обратно в деревню за помощью, и понадобился почти целый день и усилия почти всех сельчан и их снасти, чтобы вызволить нас. Это были бедные, жалкие люди, и пищу их трудно было переносить даже желудку ко всему привыкшего моряка.
Рис у них был бурый, как шоколад, наполовину с мякиной, в нем попадалась солома и не поддающаяся определению грязь, которая часто заставляла нас останавливаться в процессе жевания, залезать в рот большим и указательным пальцами и вытаскивать всякую дрянь. Кроме того, они питались чем-то вроде проса и соленьями чрезвычайного разнообразия и остроты.
Жили они в глинобитных хижинах под соломенными крышами. Под полом шли дымоходы, вытягивавшие кухонный дым и обогревавшие помещения для спанья. Здесь мы лежали и отдыхали несколько дней, угощаясь их мягким и безвкусным табаком, который мы курили из крохотных трубок с чубуками длиной в ярд. Они угощали нас еще теплым, кисловатым, похожим на молоко питьем, которое опьяняло только в огромных дозах. Выпив много галлонов этого пойла, я опьянел и начал петь песни, по обычаю моряков всего земного шара. Ободренные моим успехом, ко мне присоединились товарищи, и скоро мы все ревели истошным голосом, забыв о снежном буране, завывавшем снаружи, забыв о том, что нас выбросило на неведомый, заброшенный берег. Старый Иоганнес Маартенс ревел, хохотал и хлопал себя по ляжкам, как и все прочие. Гендрик Гамель, хладнокровный, уравновешенный голландец, брюнет с выпуклыми черными глазами, бесновался, как и все мы; как пьяный матрос, он бросал серебро, требуя все больше и больше молочного пойла. Мы безобразно вели себя, но женщины продолжали носить нам напиток, и чуть не вся деревня собралась в избу смотреть на наши проделки...