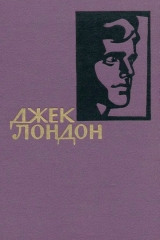
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том 11"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
И снова я почувствовал уверенность, что рано или поздно покину этот пустынный остров. Китобои, несомненно, часто заходили в эти воды, и если только я не позволю отчаянию овладеть мной, то рано или поздно буду спасен. Семь лет я питался тюленьим мясом, и при виде такого изобилия совсем иной и сочной пищи я вновь поддался своей злосчастной слабости и так наелся, что опять чуть не умер. Впрочем, и на этот раз, как в случае с рыбой, я заболел только потому, что за семь лет мой желудок привык к тюленьему мясу, и только к тюленьему мясу, отчего всякая иная пища дурно на него действовала.
Этот кит снабдил меня запасами провизии на целый год.
Кроме того, с помощью солнечных лучей я вытопил из него большое количество жира, в который, предварительно его посолив, макал полоски тюленьего мяса, отчего они делались гораздо вкуснее. Из драгоценных лоскутков моей рубашки я мог бы сплести фитилек и, выбив стальным гарпуном искру, мог бы устроить себе светильник. Но это была суетная мысль, и я скоро от нее отказался. Зачем мне нужен был свет в часы, когда Божий мрак окутывал землю.
Ведь я научился спать от заката до восхода зимой и летом.
Тут я, Даррел Стэндинг, не могу удержаться, чтобы не вставить в это описание одной из моих предыдущих жизней свое наблюдение. Поскольку человеческая личность находится в вечном развитии и представляет собой сумму всех предыдущих существований, у начальника тюрьмы Азертона не было никаких шансов сломить мой дух пыткой одиночного заключения. Ведь я – жизнь существующая вечно, выкованная бесчисленными веками прошло го, и какого прошлого! Что для меня были десять дней и ночей я смирительной рубашке! Ведь некогда я был Дэниэлом Фоссом и восемь лет учился терпению на каменистом островке в далеком южном океане.
* * *
Когда восьмой год моего пребывания на острове подходил к концу и я уже подумывал о том, как поднять мою пирамиду на шестьдесят футов над островом, проснувшись в одно прекрасное сентябрьское утро, я увидел перед собой корабль со спущенными стакселями [159]159
Стаксели – косые треугольные паруса, поднимаемые на штагах – снастях, удерживающих спереди мачту.
[Закрыть] – он был так близко, что мой крик легко донесся бы до него. Стараясь, чтобы меня заметили, я принялся размахивать веслом, прыгать по камням и проделывать самые невероятные телодвижения, пока не обнаружил, что офицеры на квартердеке [160]160
Квартердек – приподнятая кормовая часть верхней палубы.
[Закрыть] смотрят на меня в подзорные трубы. Они принялись указывать мне на западную оконечность острова, и, поспешив туда, я увидел шлюпку, в которой сидело шестеро гребцов. Впоследствии я узнал, что с корабля заметили мою пирамиду и изменили курс, желая поближе рассмотреть столь странное сооружение, превышавшее высотой остров, на котором оно находилось.
Однако сильный прибой не позволял лодке пристать к негостеприимным берегам моего острова. После множества безуспешных попыток они сделали мне знак, что должны вернуться на корабль. Представьте мое отчаяние, когда оказалось, что мне не удастся покинуть этот унылый остров. Схватив мое весло (я уже давно решил подарить его музею в Филадельфии, если мне суждено будет спастись) и сжимая его, я бросился в пенный прибой. Благодаря моему счастью, а также силе и подвижности мне удалось добраться до шлюпки.
Не могу удержаться, чтобы не привести здесь одну любопытную подробность. Корабль за это время отнесло так далеко, что мы добирались до него целый час. И я, поддавшись желанию, которое мучило меня целых восемь лет, попросил у сидевшего за рулем второго помощника кусок табаку, чтобы пожевать. А он протянул мне свою трубку, набитую лучшим виргинским табаком.
Не прошло и десяти минут, как у меня началась сильнейшая рвота. Причина ее была совершенно ясна. Мое тело полностью очистилось от табачной скверны, и теперь я испытывал то же, что испытывает любой мальчишка, впервые попробовавший курить.
И снова я возблагодарил Господа и до самой своей смерти не прикасался больше к этому гнусному зелью, и меня к нему совсем не тянуло.
* * *
Теперь я, Даррел Стэндинг, сообщу кое-какие подробности этого существования, которое я пережил вновь, лежа без сознания в смирительной рубашке в тюрьме Сен-Квентин. Я часто задумывался над тем, выполнил ли Дэниэл Фосс свое решение подарить покрытое резьбой весло филадельфийскому музею.
Заключенному в одиночке нелегко общаться с внешним миром.
Один раз я попросил надзирателя, а другой раз заключенного, которого должны были скоро освободить, выучить наизусть письмо к хранителю филадельфийского музея. Но оба они, хотя твердо обещали исполнить мою просьбу, не послали в музей такого письма.
И только когда Эд Моррел по странному капризу судьбы был выпущен из одиночки и назначен главным старостой всей тюрьмы, мне наконец удалось отправить туда письмо. Ниже я привожу ответ хранителя филадельфийского музея, которое мне передал тайком Эд Моррел:
«Описанное вами весло действительно существует, но оно было почти никому не известно, так как не выставлялось в залах. Даже я не знал о его существовании, хотя занимаю эту должность восемнадцать лет. Однако, просмотрев наши старые книги, я обнаружил, что такое весло действительно было подарено музею в 1821 году неким Дэниэлом Фоссом, уроженцем Элктона, штат Мэриленд. Только после долгих поисков нам удалось обнаружить это весло на чердаке среди всякого хлама. На нем действительно есть зарубки и надписи, описанные вами.
Кроме того, в нашем архиве имеется брошюра, написанная означенным Дэниэлом Фоссом и изданная в Бостоне в 1834 году фирмой Коверли. В этой брошюре описывается восемь лет жизни потерпевшего крушение на необитаемом острове. Насколько можно судить, этот моряк в старости, впав в нужду, продавал эту брошюру людям сострадательным.
Мне очень хотелось бы узнать, откуда вам стало известно это весло, о существовании которого даже работники музея не имели ни малейшего представления? Я полагаю, что вы прочли о нем в каком-нибудь дневнике, изданном Дэниэлом Фоссом позже. Буду очень благодарен, если вы сообщите мне это, и немедленно приму меры, чтобы весло и брошюры заняли свое место среди экспонатов.
Искренне Ваш
Хозиа Солсберти».
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
И вот настал час, когда я вынудил начальника тюрьмы Азертона позорно сдаться, превратив в пустую болтовню его ультиматум «динамит или гроб». Ему оставалось только признать, что меня нельзя убить смирительной рубашкой. Его жертвы иногда умирали после нескольких часов рубашки, иногда – после нескольких дней, хотя, правда, их обычно успевали расшнуровать и доставить в тюремную больницу, где они и испускали последний вздох… По заключению врача, их уносило в могилу воспаление легких, или Брайтова болезнь, или порок сердца.
Но меня начальник тюрьмы так и не смог убить. Ни разу не понадобилось тащить мое изуродованное, умирающее тело в больницу. Хотя не могу отрицать: Азертон старался изо всех сил и ни перед чем не останавливался. Был случай, когда он затянул меня в две рубашки. Этот случай настолько великолепен, что я не могу не рассказать о нем.
В один прекрасный день некая газета в Сан-Франциско (ища, как любая газета, как любое коммерческое предприятие, расширения рынка ради более высоких прибылей) попробовала заинтересовать передовых рабочих в тюремной реформе. В то время профсоюзы обладали большим политическим влиянием, и политические воротилы штата назначили сенатскую комиссию, которой было поручено обследовать тюрьмы.
Эта высокая комиссия обследовала (простите мне этот иронический курсив) и Сен-Квентин. Оказалось, что более образцового исправительного заведения еще не видывал свет. Так утверждали сами заключенные. Но их нельзя за это упрекать. Они уже не в первый раз видели подобные расследования и знали, что к чему. Им было известно, что они незамедлительно обзаведутся весьма болезненными синяками, чуть только кончат давать показания… если эти показания придутся не по вкусу тюремному начальству. Поверь мне, читатель, так повелось с незапамятных времен. Даже еще в древнем Вавилоне, тысячелетия назад, это было уже седой стариной – я-то хорошо это помню: ведь я гнил тогда в темнице, пока при дворе плелись интриги, сотрясавшие страну.
Как я уже сказал, все заключенные в один голос восхваляли гуманность начальника тюрьмы Азертона и его подчиненных.
Они так трогательно описывали доброту начальника тюрьмы, отличное и разнообразное питание, мягкость надзирателей, удобства, чистоту и комфорт своих камер, что оппозиционные газеты Сан-Франциско начали с воплями требовать более строгого режима в наших тюрьмах, опасаясь, как бы честные, но ленивые граждане не соблазнились таким привольным существованием и не стали бы совершать преступлений только ради того, чтобы угодить в тюрьму.
Сенатская комиссия почтила своим присутствием даже одиночки. Но нам, их обитателям, нечего было ни терять, ни приобретать. Джек Оппенхеймер плюнул им в физиономии и послал их – иже, присно и совокупно – ко всем чертям. Эд Моррел объяснил им, какая это поганая дыра, оскорбил начальника тюрьмы в глаза, и членам комиссии пришлось рекомендовать Азертону подвергнуть Эда какому-нибудь из тех устаревших и забытых наказаний, которые его предшественники, вероятно, вынуждены были придумать для исправления таких вот закоренелых негодяев.
Я постарался не оскорблять начальника тюрьмы. Я давал свои показания тонко, как ученый, начав с пустяков, искусно развернув экспозицию, чтобы мало-помалу пробудить в почтенных сенаторах любопытство и желание выслушать и следующее разоблачение: я ткал свою паутину так хитро, что нигде меня нельзя было прервать или перебить вопросом… и я сумел сообщить им все, что хотел.
Увы, ни слова из того, что я открыл, не вышло за стены тюрьмы. Сенатская комиссия, как могла, обелила начальника тюрьмы Азертона и Сен-Квентин. Затеявшая этот крестовый поход газета уверила своих рабочих читателей, что Сен-Квентин чище снега и что, хотя смирительная рубашка является вполне законным наказанием для провинившихся заключенных, в наши дни гуманный и благородный начальник тюрьмы ни при каких обстоятельствах не пускает ее в ход.
И пока простаки-труженики читали эти статьи и верили им, пока сенатская комиссия вместе с начальником тюрьмы пировала на банкете, который оплачивали налогоплательщики штата, Эд Моррел, Джек Оппенхеймер и я лежали в рубашках, зашнурованных чуть-чуть туже и злее, чем когда-либо прежде.
– Смеху подобно, – простучал мне Эд Моррел носком башмака.
– Подумаешь! – простучал Джек.
Ну, а я… я тоже простучал им свой горький смех и сарказмы, вспоминая темницы древнего Вавилона, улыбнулся про себя широкой космической улыбкой и уплыл в просторы малой смерти, превращавшей меня в наследника всех веков, и гордого всадника, оседлавшего время. Да, любезный мой братец за стенами тюрьмы, пока газеты не жалели белил, пока величественные сенаторы попивали вино за обедом, мы, трое живых мертвецов, потели кровавым потом в тугих объятиях брезента.
А после обеда разгоряченный вином начальник тюрьмы явился посмотреть, как мы себя чувствуем. Меня, как обычно, нашли в летаргии. Очевидно, в первый раз доктор Джексон встревожился.
Во всяком случае, меня с помощью нашатырного спирта заставили вернуться назад через мрак. Я улыбнулся прямо в склонившиеся надо мной лица.
– Притворяется, – буркнул начальник тюрьмы, и по его раскрасневшемуся лицу, по невнятности его речи я понял, что он пьян.
Я облизнул губы, показывая, что хочу пить, ибо решил сказать ему несколько слов.
– Вы осел! – сумел выговорить я четко и спокойно. – Вы осел, трус, негодяй, мерзкая тварь, на которую и плюнуть-то противно. Джек Оппенхеймер был к вам еще слишком снисходителен. А я скажу вам, не стыдясь, что не плюю на вас только потому, что не желаю унижаться и пачкать свой плевок.
– Мое терпение кончилось, – взревел он. – Я тебя убью, Стэндинг!
– Вы пьяны, – отозвался я, – и позвольте дать вам благой совет. Если уж вам не терпится говорить подобные вещи, то хоть отсылайте за дверь своих прихвостней. В один прекрасный день они на вас донесут, и вы потеряете свое теплое местечко.
Но вино ударило ему в голову.
– Наденьте на него еще одну рубашку, – приказал он. – Считай себя покойником, Стэндинг. Но ты умрешь не в рубашке. Мы понесем тебя хоронить из больницы.
Вторую рубашку подложили мне под спину и зашнуровали спереди.
– Ах, Боже мой, начальник, какой лютый холод, – язвительно сказал я. – Мороз все крепчает. И я весьма вам благодарен за эти две рубашки. Пожалуй, я немного согреюсь.
– Туже! – крикнул он Элу Хэтчинсу, шнуровавшему меня. – Упрись ногами в эту сволочь. Переломай ему ребра.
Должен сказать, что Хэтчинс поработал на совесть.
– Будешь знать, как врать про меня, – ревел Азертон, синея от вина и ярости. – Теперь ты за это поплатишься. Прощайся с жизнью, Стэндинг. Тебе пришел конец. Ты слышишь, тебе пришел конец!
– Сделайте мне одно одолжение, начальник… – еле слышно прошептал я, так как у меня совсем не осталось сил и я почти лишился чувств от недостатка воздуха. – Наденьте на меня третью рубашку, – еле выговорил я, а стены камеры качались и плясали вокруг меня, и я напрягал всю волю, чтобы не лишиться сознания, которое выжимали из меня рубашки. – Еще одну рубашечку… начальник… С ней… будет… гораздо… э… теплее.
Мой шепот замер, и я погрузился в малую смерть.
После этой порции двойной рубашки что-то во мне сломалось.
По сей день, например, чем бы меня ни кормили, я не могу есть как следует. Мои внутренности так изуродованы, что мне не хочется даже думать об этом. И пока я пишу эти строки, у меня по-прежнему болят ребра и ноет желудок. Но мое измученное, искалеченное тело сослужило свою службу. Оно дало мне возможность дотянуть до этого дня и поможет пожить еще немного – до того утра, когда меня выведут из камеры в рубашке без воротника и вывихнут мне шейные позвонки хорошо растянутой веревкой.
Но эта двойная рубашка оказалась последней соломинкой.
Она сломила начальника тюрьмы. Он сдался, признав, что убить меня невозможно. Я ему так и сказал однажды:
– Избавиться от меня вы можете только одним способом, начальник: пробравшись сюда как-нибудь ночью с топором.
Не могу удержаться и не привести здесь меткое замечание Джека Оппенхеймера, который сказал Азертону так:
– Каково это вам, начальник, просыпаться каждое утро с самим собой на подушке!
А Эд Моррел сказал Азертону вот что:
– До чего же ваша мамаша любила детей, если она не придушила вас еще в колыбельке.
Когда меня перестали шнуровать в рубашку, я был очень огорчен. Мне страшно не хватало мира моих грез. Впрочем, я скоро нашел выход. Оказалось, что, туго завернув грудь и живот в одеяло, я могу усилием воли погасить в себе жизнь. Этим способом я вызывал у себя физиологическое и психологическое состояние, подобное тому, которое испытывал в рубашке. Таким образом, я мог бродить во времени когда мне хотелось и без прежних мучений.
Эд Моррел верил во все мои приключения, но Джек Оппенхеймер относился к ним скептически до самого конца. На третий год моего пребывания в одиночке я посетил Оппенхеймера. Это было один-единственный раз, и случилось все без всякого предупреждения и совершенно неожиданно.
Как только наступил обморок, я оказался в его камере. Я знал, что мое тело лежит, затянутое в смирительную рубашку, у меня в камере. И хотя я никогда прежде не видел Джека Оппенхеймера, я знал, что человек передо мной – это он. Дело было летом, и он лежал раздетый на одеяле. Я почувствовал ужас при виде его исхудалого лица и изможденного тела. Оно, собственно говоря, уже не было похоже на человеческое. Это были одни кости, еще собранные в человеческий скелет, но совсем лишенные плоти и лишь обтянутые пергаментной кожей.
Вернувшись в свою камеру и очнувшись от обморока, я, когда обдумал случившееся, понял, что мы с Эдом Моррелом выглядим точно так же, как Джек Оппенхеймер. И я почувствовал трепетную гордость при мысли о неукротимой силе духа, обитающего в этих наших изможденных, умирающих телах, в телах трех «неисправимых», заключенных в одиночки. Плоть ничтожна. Трава есть плоть, и плоть становится травой, зато дух живет и пребывает вечно. Я презираю поклонников плоти. Если бы они попробовали сен-квентинской одиночки, то быстро научились бы поклоняться духу.
Однако вернемся к моему появлению в камере Оппенхеймера.
Его тело напоминало труп, иссушенный жарой пустыни. Цвет его кожи был как засохшая грязь. Живыми казались только умные желтовато-серые глаза.
Они все время были в движении. Он лежал на спине, и взгляд его метался по камере, следуя за полетом мух, круживших в сумраке над ним. Я заметил шрам над его правым локтем и еще один – на правой лодыжке.
Через несколько минут он зевнул, перекатился на бок и стал рассматривать воспаленную болячку на бедре. Потом он стал ковырять ее и лечить тем примитивным способом, каким лечат свои раны все заключенные во всех одиночках мира. Я без труда догадался, что эта болячка – след смирительной рубашки. Сейчас, когда я пишу, мое тело покрывают сотни таких шрамов, оставленных рубашкой.
Потом Оппенхеймер перекатился на спину, осторожно зажал один из верхних передних зубов (глазной зуб) между большим и указательным пальцами и легонько его покачал. Затем он снова зевнул, потянулся и, перевернувшись на другой бок, простучал вызов Эду Моррелу. Я читал код, словно наяву.
– Решил, что ты, может, не спишь, – стучал Оппенхеймер. – Как там дела у профессора?
Издалека донеслось глухое постукивание. Моррел сообщал, что меня час назад затянули в рубашку и, как обычно, я уже не отзываюсь.
– Хороший он парень, – простучал Оппенхеймер. – Я никогда не доверял этим образованным, но вот его образование не испортило. Он человек верный. Умеет держать язык за зубами и не донесет и не продаст, хоть миллион лет его здесь продержи.
Со всем этим Эд Моррел согласился, добавив кое-что и от себя. Я хочу тут же прервать свое повествование и сказать, что хотя я жил много лет, и прожил много жизней, и в этих жизнях слышал немало похвал, ни одна из них не вызвала у меня такой великой гордости, какую я почувствовал в ту минуту, когда мои товарищи по одиночке обменялись своим мнением обо мне. Эд Моррел и Джек Оппенхеймер были замечательными людьми, и за все свои существования мне не выпало большей чести, чем честь быть их товарищем. Короли возводили меня в рыцарский сан, императоры делали меня вельможей, – да и когда я сам был королем, я знавал минуты упоенной гордости, но больше всего я дорожу этой похвалой, высказанной двумя пожизненно заключенными, брошенными в одиночки, – людьми, которых мир считал последним отребьем.
Отдыхая после этой порции рубашки, я сказал им о моем посещении камеры Джека, считая его неопровержимым доказательством того, что мой дух действительно покидает мое тело. Но Джек остался при своем мнении.
– Это все догадки, хоть и не просто догадки, – ответил он, когда я перечислил все, что он делал, пока я оставался в его камере. – Это правильный расчет. Ты сам сидишь в одиночке уже три года, профессор, и тебе нетрудно прикинуть, чем развлекаются другие. Все, что ты мне рассказывал, вы с Эдом проделывали тысячи тысяч раз: и голые лежали в жару, и на мух смотрели, и болячки лечили, и перестукивались:
Моррел встал на мою сторону, но Джека это не убедило.
– Только ты не обижайся, профессор, – выстукивал Джек. – Я же не говорю, что ты врешь. Я только говорю, что ты, сам того не зная, лежа в рубашке, вроде как сны видишь и воображаешь. Я знаю, что ты веришь в то, что говоришь. По-твоему, оно так и случилось. Да только я-то не верю. Ты это вообразил, сам того не замечая. Ты все это знаешь всегда, а вот вспоминаешь то, что ты знаешь, только когда у тебя в голове начинает мутиться.
– Погоди, Джек, – простучал я. – Ты ведь веришь, что я тебя никогда в жизни не видел. Правильно?
– Это как сказать, профессор. Может, ты меня и видел, да только не знал, что это я.
– А как ты объяснишь, – продолжал я, – что, ни разу не видев тебя голым, я знаю, что у тебя шрам над правым локтем и другой – на правой лодыжке?
– Ерунда, – ответил он. – Все это есть в моем тюремном описании, рядом с фотографией моей рожи. Об этом знают тысячи начальников полиции и сыщиков.
– Да я-то об этом ничего не слышал, – уверял я его.
– Ты просто забыл, что слышал об этом, – поправил он. – А слышал наверняка. Эти сведения были заключены в твоем мозгу для справок, пусть ты и забыл, что они у тебя есть. А как у тебя в голове помутилось, так ты и вспомнил. Тебе никогда не случалось забывать имя человека, которого ты знаешь как родного брата? Со мной это бывало. Вот, скажем, когда мне в Окленде припаяли мои пятьдесят лет, среди присяжных был один коротышка. И вдруг оказалось, что я забыл, как его звали. Целый месяц я ломал себе голову – никак не могу вспомнить. Да только если я не мог выкопать его имя из моей памяти, это еще не значило, что его там вовсе нет. Просто завалилось куда-то, вот и все. А когда я и думать о нем перестал, оно так и прыгнуло мне из мозга прямо на язык. «Стейси, – завопил я во всю глотку, – Джозеф Стейси». Так его и звали. Понял, к чему я клоню? Ты мне рассказывал про шрамы, а это знают тысячи людей. Откуда тебе это известно, я не знаю. Да ты и сам, наверное, не знаешь. И меня это не касается. Но так оно и есть. И сколько бы ты мне ни повторял то, что многим известно, на меня это не подействует. Если хочешь, чтобы я поверил в твои басни, придется тебе подобрать куда больше доказательств.
Гамильтоновский закон экономии в оценке доказательств!
Этот житель трущоб, запертый в тюремной одиночке, был по складу ума настоящим ученым – и он самостоятельно вывел закон Гамильтона и точно применил его. И притом (в этом-то и прелесть всего эпизода) Джек Оппенхеймер был честен, как подлинный ученый. Ночью, когда я уже засыпал, он вызвал меня условным сигналом.
– Знаешь, профессор, ты сказал, что видел, как я раскачивал зуб. Тут ты меня поймал. Хоть убей, не знаю, как ты догадался. Он расшатался всего три дня назад, и я не говорил про это ни одной живой душе.








