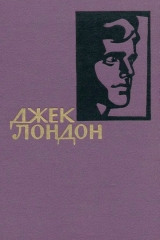
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том 11"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в Коридоре Убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя – он направляется сюда, чтобы выбранить меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я Даррел Стэндинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах.
После вынесения приговора меня отправили в тюрьму Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан «неисправимым». «Неисправимый» – это зверь в человеческом облике; таков он по крайней мере в глазах тюремщиков.
Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительной затраты труда. Тюрьма эта, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищно непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, три тысячи лет назад я гнил в темнице Древнего Вавилона, и, поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром.
Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятка два более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда, я решил принудить себя работать среди бессмысленного непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. И взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп, потихоньку избивали меня.
Два года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам, еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики, и они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лабораторий и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие.
Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода Стэндингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все это было слишком нелепо: зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом! Странно было наблюдать, как наука проституирует всю мощь своих открытий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество.
Как я уже сказал, следуя установившейся в роду Стэндингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришло, по-видимому, и мое начальство, потому что довольно скоро меня назначили штабным писарем, и вот так, сидя за письменным столом, я и провоевал всю испано-американскую войну.
Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд «неисправимых». Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя «неисправимость» стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе, в свой личный кабинет, чтобы усовестить: «Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши крысодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние барменов Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете, но вы не умеете ткать джут, в этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на полсотни лет…»
Но стоит ли повторять всю эту тираду – ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак, и он решил, что я неисправим безнадежно. Назови собаку бешеной… Ну, вам известна эта пословица.
Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения.
Не раз и не два сваливали на меня провинности других заключенных, и я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы, каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней.
Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. Все, кому я подчинялся, от начальника тюрьмы и до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной.
В тюрьме содержался один заключенный – поэт. Это был выродок с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик. И трус. И доносчик. И легавый. Несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии, но даже профессор агрономии легко может научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно.
Поэта-фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден, но тем не менее на этот раз его приговорили всего к семи годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродок, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности.
События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности.
Этот Сесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией и губернатором штата, подстроил доказательства якобы задуманного побега. Теперь отметьте следующие три обстоятельства: а) все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопиных бегах, а клопиные бега были излюбленным развлечением заключенных; б) я был собакой, которую назвали бешеной; в) для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки – кто-нибудь из пожизненно заключенных, из отпетых, из неисправимых.
Но пожизненно заключенные презирали Сесила Уинвуда, и когда он предложил им свой план массового побега, они подняли его на смех и обругали – все знали, что он доносчик. Однако в конце концов он их все-таки одурачил – одурачил сорок самых умных и хитрых голов в тюрьме. Он приставал к ним снова и снова. Рассказывал им о влиянии, которым пользуется в тюрьме, потому что он писарь в конторе тюрьмы и имеет свободный доступ в тюремную аптеку.
– Докажи, – сказал ему горец Билл Ходж, по прозвищу Длинный, отбывавший пожизненное заключение за ограбление поезда и годами носивший в душе одну заветную мечту: тем или иным способом вырваться на волю, чтобы убить своего соучастника по ограблению, который дал против него показания на суде.
Сесил Уинвуд принял предложенное испытание. Он объявил, что усыпит стражу в ночь побега.
– Слова дешево стоят, – сказал ему Длинный Билл Ходж. – Нам нужен товар. Усыпи сторожа сегодня ночью. Дежурит Барием. Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китаезу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то – уже с дежурства сменился. Сегодня он дежурит ночью. Усыпи его – пускай-ка его выгонят отсюда. Сделаешь это, тогда будем говорить с тобой о деле.
Все это Длинный Билл рассказывал мне впоследствии. Сесил Уинвуд запротестовал против столь немедленного испытания. Ему нужно время, чтобы выкрасть снотворное из аптеки, сказал он.
Время ему было дано, и неделю спустя он заявил, что все готово.
Сорок умудренных горьким опытом преступников, приговоренных к пожизненному заключению, стали ждать, заснет ли Барием или не заснет. И Барием заснул. Его застали спящим и уволили за то, что он уснул на дежурстве.
Это убедило заключенных. Оставалось убедить старшего надзирателя. А Сесил Уинвуд ежедневно докладывал ему до мельчайших подробностей, как движется подготовка к побегу, созданная его фантазией. Надзиратель захотел убедиться своими глазами. Уинвуд предоставил ему эту возможность. О том, как это было сделано, я узнал лишь год спустя – так медленно открываются тайные тюремные интриги.
Уинвуд заявил, что сорок заключенных, замысливших побег и доверивших ему свою тайну, уже обрели такое влияние в тюрьме, что все подготовлено для доставки им в тюрьму пистолетов при содействии подкупленных ими сторожей.
– Докажи, – вероятно, потребовал надзиратель.
И поэт-фальшивомонетчик доказал. В пекарне, как правило, работа велась круглые сутки. Один из заключенных – пекарь, работавший в первой ночной смене, наушничал старшему надзирателю, и Уинвуду это было известно.
– Сегодня ночью, – сказал Уинвуд надзирателю, – Саммерфейс пронесет в тюрьму дюжину пистолетов сорок четвертого калибра. В свое последующее дежурство он доставит патроны. А сегодня ночью в пекарне он передаст эти пистолеты мне. У вас там есть свой человек. Завтра утром он сам обо всем вам доложит.
Этот Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольдт. Простодушный, покладистый и недалекий малый, он не прочь был заработать доллар-другой, пронося в тюрьму табак для заключенных. В ту ночь он только что возвратился из поездки в Сан-Франциско и привез с собой пятнадцать фунтов хорошего курительного табаку. Он проделывал это и раньше и обычно передавал табак Сесилу Уинвуду. Совершенно так же поступил он и на этот раз: не подозревая ничего худого, он передал в пекарне свой табак Уинвуду. Это был довольно основательный сверток в оберточной бумаге, не содержавшей ровно ничего, кроме безобидного табака. Пекарь-доносчик увидел из засады, что Уинвуду передают какой-то сверток, и на следующее утро доложил об этом старшему надзирателю.
И вот тут-то поэт-фальшивомонетчик не сумел обуздать полета своей чересчур живой фантазии. Он перегнул палку, и я угодил в одиночную камеру на пять лет, а потом в камеру смертников, в которой и пишу сейчас эти строки. Но в те дни я и не подозревал о том, что произошло. Я даже не знал о подготовке побега, в которую Сесил Уинвуд вовлек сорок пожизненно заключенных.
Я не знал ничего, абсолютно ничего. И остальные знали лишь немногим больше. Заключенные не знали, что Сесил Уинвуд задумал их предать. Надзиратель не знал, что Сесил Уинвуд водит его за нос. Еще меньше подозревал о чем-либо Саммерфейс.
В худшем случае на его совести лежала только доставка табака заключенным.
Теперь послушайте, какую нелепость, какую мелодраматическую чушь брякнул Сесил Уинвуд. На следующее утро, представ перед старшим надзирателем, он ликовал. И его фантазия сорвалась с узды.
– Да, ты не соврал, он действительно передал пакет, – начал надзиратель.
– И содержимое этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух, – объявил Уинвуд.
– Какого содержимого? – оторопел надзиратель.
– Динамита и детонаторов, – выпалил этот идиот. – Тридцать пять фунтов. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал все это мне.
Вероятно, надзирателя тут едва не хватил удар. Его можно только пожалеть. Шутка ли – тридцать пять фунтов динамита в тюрьме!
Говорят, что капитан Джеми (так его прозвали) упал на стул и схватился руками за голову.
– Где же этот динамит? – закричал он. – Я должен забрать его немедленно. Сейчас же веди меня туда!
И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку.
– Я спрятал динамит, – солгал он.
Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свертке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака, и все они уже давно разошлись обычным путем между заключенными.
– Очень хорошо, – сказал капитан Джеми, беря себя в руки. – Сейчас же отведи меня туда.
Но вести старшего надзирателя было некуда, так как никакого динамита нигде спрятано не было. Его попросту не существовало, ни сейчас, ни раньше – не существовало нигде, кроме как в воображении подлеца Уинвуда.
В такой большой тюрьме, как Сен-Квентин, всегда найдется немало укромных закоулков. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джеми, его мысль, надо полагать, работала с бешеной быстротой.
Как докладывал впоследствии капитан Джеми главному тюремному начальству – и это подтвердил сам Уинвуд, – по дороге к тайнику Уинвуд сказал, что я прятал динамит вместе с ним.
А меня только что выпустили из карцера, где я пробыл пять суток, и из них – восемьдесят часов в смирительной рубашке, и так ослабел, что даже тупые тюремщики поняли это и решили не посылать меня сразу в ткацкую. И вот он указал на меня, в тот момент, когда мне разрешили отдохнуть денек, чтобы восстановить силы после слишком сурового наказания! Да, именно меня назвал он своим сообщником, помогавшим ему спрятать тридцать пять фунтов несуществующего динамита!
Уинвуд привел капитана Джеми к предполагаемому тайнику.
Разумеется, они не обнаружили там никакого динамита.
– Боже мой! – притворно ужаснулся Уинвуд. – Стэндинг провел меня. Он перепрятал пакеты в другое место.
У старшего надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!». А затем, вне себя от бешенства, однако внешне не теряя хладнокровии, он отвел Уинвуда к себе в кабинет, запер дверь и страшно его избил, что впоследствии дошло до высшего тюремного начальства. Но это произошло значительно позже. Уинвуд даже во время побоев клялся, что сказал истинную правду.
Что оставалось делать капитану Джеми? Он искренне верил, что где-то в тюрьме спрятаны тридцать пять фунтов динамита и сорок отпетых преступников, приговоренных к пожизненному заключению, готовятся к побегу. Ну, разумеется он допросил Саммерфейса, и хотя Саммерфейс утверждал, что в свертке не было ничего, кроме табака, Уинвуд снова поклялся что там был динамит, и ему поверили. В этот момент на сцене появляюсь я, вернее, наоборот – совсем схожу со сцены, ибо меня лишают дневного света и сияния солнечных лучей и бросают в карцер. И в этом карцере, в одиночном заключении, лишенный света и сияния солнечных лучей, я принужден гнить пять долгих лет. Я ничего не мог понять. Меня только что освободили из одиночки, и я, измученный, истерзанный, лежал на койке в своей камере, как вдруг меня слова бросили в карцер.
– Теперь, – сказал Уинвуд капитану Джеми, – хотя мы и не знаем, где спрятан динамит, никакая опасность нам от этого не угрожает. Стэндинг единственный человек, которому известен тайник, а из карцера он никому ничего сообщить но сможет. Заключенные готовы к побегу. Мы можем захватить их во время попытки. Они ждут только моего сигнала. Я скажу им, чтобы сегодня ночью, в два часа, они были готовы, что я подсыплю часовым снотворное, а потом отомкну камеры я раздам всем пистолеты. Если сегодня ночью, надзиратель, вы не поймаете с поличным в полной готовности к побегу, в одежде и бодрствующими всех сорок, которых я вам назову, тогда можете посадить меня в одиночку до конца моего срока. А когда, кроме Стэндинга, и все остальные сорок будут надежно запрятаны в карцер, у нас времени будет хоть отбавляй, чтобы разыскать этот динамит.
– Даже если бы нам пришлось для этого разобрать по кирпичику всю тюрьму, – храбро заявил капитан Джеми.
Все это было шесть лет назад. За истекшее время им, конечно, так и не удалось обнаружить этого никогда не существовавшего динамита, хотя они тысячу тысяч раз перетряхивали всю тюрьму, пытаясь его разыскать. Тем не менее до последней минуты своего пребывания на посту начальника тюрьмы Азертоп верил в существование этого динамита. Капитан Джеми, который и сейчас остается там старшим надзирателем, и по сей день уверен, что динамит спрятан где-то в недрах тюрьмы. Не далее как вчера он проделал весь путь от Сен-Квентина до Фолеома, чтобы сделать еще одну попытку вынудить у меня признание о местонахождении этого тайника. Я знаю, что он не обретет душевного покоя до тех пор, пока меня не повесят.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Весь тот день, в карцере, я ломал себе голову, стараясь понять, за что обрушилась на меня эта новая и незаслуженная кара. В конце концов я пришел к единственному возможному заключению: какой-нибудь доносчик, чтобы снискать расположение начальства, приписал мне нарушение правил тюремного распорядка.
Тем временем капитан Джеми находился в состоянии сильнейшего беспокойства, ожидая наступления ночи, а Уинвуд сообщил сорока пожизненно заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа пополуночи вся тюремная охрана была на ногах и готова к действию. Все надзиратели, даже дневная смена, которая в это время обычно спала. Когда пробило два часа, они ворвались в камеры сорока пожизненно заключенных. Они ворвались во все камеры одновременно. Внезапно распахнулись все двери, и все сорок человек, которых назвал Уинвуд, все без исключения, оказались одетыми: ни один не лежал на своей койке, все притаились в ожидании у дверей. Разумеется, это послужило неопровержимым подтверждением того хитросплетения лжи, которым поэт-фальшивомонетчик опутал капитана Джеми.
Сорок заключенных были застигнуты на месте преступления в полной готовности к побегу. Какое могло иметь значение, если впоследствии они все, как один, утверждали, что план побега был задуман Уинвудом? Все тюремное начальство было уверено, что сорок заключенных лгут, чтобы спасти свою шкуру. Комиссия по амнистиям была уверена в том же – не прошло и трех месяцев, как Сесил Уинвуд, фальшивомонетчик и поэт, самый презренный из людей, получил амнистию.
Что ж, тюрьма – хорошее испытание и хорошая школа для философа. Тот, кто выдержал несколько лет заключения, обязательно видит, как разлетаются прахом самые дорогие ему иллюзии и лопаются мыльные пузыри прекрасных метафизических умозаключений. Истина бессмертна, учат нас, рано или поздно преступление выйдет наружу. Ну так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наряжу. Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все высшее тюремное начальство, все до единого человека, и по сей день верят в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов воображении некоего выродка, фальшивомонетчика и поэта – Сесила Уинвуда. И Сесил Уинвуд все еще жив, в то время как я, самый безвинный, самый непричастный к этому делу человек, именно я буду отправлен на виселицу через несколько недель.
* * *
А теперь я расскажу вам, как сорок пожизненно заключенных внезапно нарушили мертвую тишину моего карцера. Я спал.
Стук двери, ведущей в коридор, где расположены карцеры, разбудил меня. Еще какой-то бедняга, подумалось мне. Крепко ему достается, решил я, услыхав громкий топот, глухие удары, внезапные возгласы боли, отборную брань и шорох волочимых по полу тел: всех сорок заключенных зверски избили по дороге и карцер.
Одна за другой отворялись двери карцеров, и кого-то вталкивали, кого-то втаскивали, кого-то швыряли туда. И снова и снова появлялись тюремщики с новой партией избитых заключенных, которых они продолжали избивать, и снова и снова отворялись двери карцеров и поглощали окровавленные тела людей, повинных в том, что они мечтали о свободе.
Оглядываясь назад, я вижу, что нужно быть поистине философом, чтобы на протяжении долгих лет выдерживать эти чудовищные сцены, порой становясь их участником. Я такой философ. В течение восьми лет я выносил эту пытку, и теперь, наконец, отчаявшись освободиться от меня иным путем, мои тюремщики прибегли к содействию государственной машины, чтобы накинуть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, ученые эксперты высказывают свое весьма ученое суждение о том, что при падении в люк у жертвы ломаются шейные позвонки.
Ну, а жертвы, подобно шекспировскому путнику, больше не возвращаются в этот мир, чтобы доказать, что это не совсем так.
Однако мы, живущие в тюрьме, знаем о тайнах, не выходящих за пределы тюремного морга, – о повешенных, чьи шейные позвонки оставались целы и невредимы.
Странная вещь – повешение. Я никогда не видел, как вешают, но наблюдавшие эту казнь описывали мне ее во всех подробностях десятки раз, так что я очень хорошо знаю, что произойдет со мной. Я буду стоять на крышке люка, руки и ноги в кандалах, черный капюшон надвинут на глаза, узел петли за правым ухом – под моими ногами разверзнется дыра, и я буду падать до тех пор, пока веревка, натянувшаяся до отказа под тяжестью моего тела, не прекратит внезапно моего падения. После чего вокруг меня столпятся врачи и один за другим будут взбираться, на табурет и, обхватив руками мое тело, чтобы приостановить его мерное раскачивание, будут прижиматься ухом к моей груди и считать затихающие удары сердца. Бывает, что и двадцать минут истечет с того мгновения, как откроется люк, до того мгновения, когда сердце стукнет в последний раз. Но можете мне поверить: они постараются самым научным способом удостовериться в том, что человек действительно лишился жизни, после того как ему накинули петлю на шею.
Я намерен несколько отклониться в сторону от моего повествования и задать два-три вопроса обществу. Я имею право и отклоняться и задавать вопросы: ведь в самом непродолжительном времени меня выведут из этой камеры и сделают со мной то, что я только что описал. Так вот: если шейные позвонки жертвы непременно должны сломаться благодаря вышеупомянутому хитроумному расположению узла и петли, а также точному расчету веса жертвы и длины веревки, зачем же тогда, спрашивается, заковывают руки жертвы в кандалы? Общество в целом не в состоянии ответить на этот вопрос. Но я знаю, для чего это делается.
И это знает каждый палач-любитель, хотя бы раз принимавший участие в линчевании и видевший, как жертва хватается руками за веревку, чтобы ослабить стягивающую горло петлю, которая ее душит.
И еще один вопрос задам я самодовольному, закутанному в благополучие, как в ватку, члену современного общества, душа которого никогда не спускалась в преисподнюю: зачем закрывают они голову и лицо жертвы черным колпаком прежде, чем открыть люк под его ногами? И не забудьте, что в самом непродолжительном времени этот черный колпак будет надет на голову мне. Так что я имею право спрашивать. Или они, эти псы, эти твои верные цепные псы, о самодовольный обыватель, страшатся взглянуть в лицо жертвы, в котором, как в зеркале, отразится весь ужас того преступления, которое они совершают над нами для вас и по вашему приказу?!
Не забывайте, что я задаю этот вопрос не в год тысяча двухсотый от рождества Христова, и не в год рождения Христа, и не в год тысяча двухсотый до рождества Христова. Я, которого повесят в этом году, в году тысяча девятьсот тринадцатом от рождества Христова, задаю эти вопросы вам, тем, кто, как принято думать, является последователем Христа, вам, чьи цепные псы, чьи гнусные прислужники-вешатели выведут меня из моей камеры и спрячут мое лицо под куском черной материи, ибо они не осмеливаются взглянуть на страшное злодеяние, которое они совершат надо мной, пока я еще буду жив.
Но вернемся к тому, что происходило у нас в карцерах. Когда последний надзиратель удалился и дверь коридора захлопнулась за ним, все сорок избитых, растерявшихся людей начали переговариваться и задавать друг другу вопросы. Но тут один из пожизненно заключенных, великан-матрос по прозвищу Брамсель Джек, заревел, словно бык, требуя тишины, чтобы можно было произвести перекличку. Все карцеры были заполнены, и вот из каждого карцера по очереди стало доноситься, сколько в нем заперто человек и как их зовут. Таким образом было установлено, что в карцерах находятся только проверенные люди и можно не опасаться, что нас подслушивает доносчик.
Только я, единственный из всех, вызывал у заключенных подозрение, потому что только я не принимал участие в подготовке к побегу. И я был подвергнут самому придирчивому допросу.
А что я мог им сообщить? Сегодня утром, едва с меня сняли смирительную рубашку и вывели из карцера, как тут же, без малейшего, насколько я мог понять, повода, меня снова швырнули в карцер. Но моя репутация «неисправимого» сослужила мне на сей раз хорошую службу, и скоро они заговорили о деле.
Я лежал и слушал и лишь тут впервые узнал о том, что готовился побег.
«Кто же донес?» – этот единственный вопрос был у всех на устах, и всю ночь до рассвета он повторялся снова и снова. Сесила Уинвуда среди брошенных в карцеры не оказалось, и подозрение пало на него.
– Остается только одно, ребята, – сказал в конце концов Брамсель Джек.
– Скоро утро, и, значит, скоро всех нас выволокут отсюда и начнут спускать шкуру. Нас поймали что называется с поличным: ночью, в одежде. Уинвуд обманул нас и донес. Они возьмут отсюда всех, одного за другим, и превратят в котлеты. Нас сорок человек. Значит, всякое вранье непременно выйдет наружу. Поэтому каждый, когда из него начнут вытряхивать душу, должен говорить правду, всю правду, и ничего, кроме правды, как под присягой.
И там, в этой темной яме, созданной людской бесчеловечностью, четыре десятка пожизненно заключенных преступников, прижавшись лицом к чугунным решеткам дверей, один за другим торжественно поклялись говорить только правду.
Однако их правдивость принесла им мало пользы. В девять часов утра наши тюремщики – эти наемные убийцы на службе у самодовольных обывателей, олицетворяющих государство, – сытые, хорошо выспавшиеся тюремщики набросились на нас. Мы же не только ничего не ели, нас лишили даже воды. А избитого человека обычно лихорадит. Хотелось бы мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что такое избитый заключенный? «Обработали» – так называется это на нашем языке.
Впрочем, нет, я не стану рассказывать об этом. Достаточно для тебя узнать, что жестоко избитые, страдавшие от жажды люди семь часов оставались без воды.
В девять часов появились наши тюремщики. Их было не слишком много. Да много и не требовалось – ведь они отпирали карцеры по одному. Все они были вооружены рукоятками от мотыг. Это очень удобное орудие для «дисциплинирования» беззащитного человека. Двери карцеров отворялись одна за другой, и – карцер за карцером – осужденных на пожизненное заключение людей избивали, превращали в котлету. Впрочем, они проявили полное беспристрастие: меня избили, как и всех остальных.
И это было только началом, так сказать, прелюдией к допросу, которому должны были быть подвергнуты все заключенные поочередно в присутствии наемных палачей штата. Это было предупреждением, чтобы каждый мог почувствовать, что ожидает его на допросе.
Я прошел через все муки тюремной жизни, через нечеловеческие муки, но страшнее всего, куда страшнее даже того, что готовят мне в недалеком будущем, был тот ад, который воцарился в карцерах в последующие дни.
Первым на допрос взяли Длинного Вилла Ходжа, закаленного горца. Он возвратился через два часа – вернее, они притащили его обратно и швырнули на каменный пол карцера. Затем они увели Луиджи Поладзо, сан-францисского бандита, чьи родители переехали в Америку незадолго до того, как он появился на свет. Он издевался над тюремщиками, дразнил их, предлагая показать, на что они способны.
Прошло немало времени, прежде чем Длинный Билл Ходж нашел в себе силы совладать с болью и произнести что-нибудь членораздельное.
– Что это еще за динамит? – спросил он наконец. – Кто знает что-нибудь о динамите?
И, разумеется, никто ничего не знал, хотя допрашивали только об этом.
Луиджи Поладзо вернулся даже раньше чем через два часа, но это было уже лишь какое-то подобие человека: он что-то бормотал, как в бреду, и не мог ответить ни на один вопрос, а вопросы сыпались на него градом в нашем гулком каменном коридоре, ибо остальным еще предстояло пройти через то, что он испытал, и всем хотелось узнать, что с ним делали и о чем спрашивали.
Еще дважды на протяжении двух суток Луиджи уводили на допрос, когда же он превратился в бессмысленного идиота, его навсегда отправили в отделение для умалишенных. У Луиджи на редкость крепкое здоровье. У него широкие плечи, могучая грудная клетка, крупные ноздри, хорошая, чистая кровь: он будет еще долго лопотать что-то в камере для умалишенных, после того как я повисну в петле и навсегда избегну истязаний в каторжных тюрьмах Калифорнии.
Одного за другим – и всякий раз по одному – заключенных уводили из камер, и один за другим, воя и стеная во мраке, обратно возвращались сломленные и телом и духом люди. А я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ, и смутные воспоминания рождались в моей душе: мне начинало казаться, что когда-то я, надменный и бесстрастный, сидел на высоком помосте и до меня доносились такие же вопли и стоны. Впоследствии, как вы увидите, я открыл источник этих воспоминаний, узнал, что эти стоны и вопли доносились со скамей, к которым были прикованы гребцы-рабы, а я, римский военачальник, слушал их, сидя на корме одной из галер Древнего Рима. Это было, когда я плыл в Александрию по пути в Иерусалим… Но об этом я расскажу позднее. А пока…








