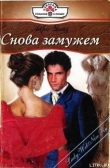Текст книги "Три часа ночи"
Автор книги: Джанрико Карофильо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
16
Чем дальше мы шли, тем сильнее Марсель преображался. Казалось, теперь мы шагаем по безлюдному пригороду, в котором почти нет машин. По пути нам попадались зловонные, заросшие сорняками дворы, зарешеченные дома-призраки, казавшиеся почти необитаемыми многоэтажки с двумя-тремя тускло освещенными окнами, высокие ветхие заборы, за которыми темнели заброшенные склады. Всюду ощущались запустение и упадок.
К переходу подошла стайка собак. Впереди выступал метис овчарки, остальные следовали за ним ровным строем. Вереница четвероногих пешеходов напомнила мне фото на обложке альбома «Битлз» «Abbey Road». Перейдя дорогу, собаки одна за другой шмыгали в переулок и растворялись во мраке. Спустя несколько секунд их и след простыл. Я помотал головой, гадая, видел я этих собак на самом деле или же они мне просто померещились.
– Ты уверен, что нам сюда?
Отец показал мне карту. Название улицы, которую мы переходили, совпадало с тем, что было написано на листочке месье Доминика.
– Судя по всему, заведение на этой улице. Место для музыкального клуба, конечно, странноватое.
– Возьму-ка я вот эту штуковину. На всякий случай, – произнес я, поднимая с земли ржавый арматурный прут, по-видимому выдернутый из какой-то бетонной конструкции.
Папа, кажется, хотел сказать: «Не глупи, ну что ты, в самом деле», но, судя по изменившемуся выражению лица, тоже пришел к выводу, что хоть как-то вооружиться нам не помешает.
Мы продолжили идти. Мимо нас проехало такси. Метрах в ста оно остановилось, три человека вышли из машины на улицу и быстро скрылись из виду. Такси мигом умчалось прочь – вероятно, водителю не хотелось задерживаться в этом районе ни на минуту.
– Может быть, клуб там? – предположил я.
– Очень на то похоже, – ответил отец и двинулся вперед.
Вскоре мы очутились возле полуприкрытых ворот, за которыми располагался двор. В глубине двора стояло невысокое здание с зелено-фиолетовой вывеской над входом: «En Fusion»[5]5
«В стиле фьюжн» (фр.).
[Закрыть]. Я бросил металлический стержень на тротуар, и мы подошли ближе. Возле здания были припаркованы несколько машин, у дверей переминались с ноги на ногу двое парней, внешний вид которых не внушал особого доверия. Один был рослым здоровяком с гладким светлым лицом порочного Будды, второй – полной противоположностью первого: худым, смуглым, жилистым, с мускулистыми руками, напоминавшими кожаные канаты. Одного взгляда на этих ребят хватало, чтобы понять: в спор с ними лучше не вступать.
Они спросили, есть ли у нас пригласительные. Папа ответил, что пригласительных у нас нет, мы и не знали, что они понадобятся, просто месье Доминик из Chez Papa посоветовал нам прийти сюда послушать музыку, потому-то мы и здесь.
Упоминание о Доминике сработало. Охранники переглянулись, высокий (видимо, старший в их тандеме) кивнул. Тощий взял с каждого из нас по сотне франков и, не выдавая никаких билетов, открыл входную дверь.
За ней обнаружился большой скудно освещенный зал с ветшающими кирпичными стенами, в котором уже собралась тьма народу. Окна были нараспашку, пахло чугуном, дымом и потом. У одной стены размещался бар с деревянной стойкой, вокруг которой валялись опилки, у другой – сцена, на которую как раз поднимались музыканты.
Папа закурил.
– Странное место, правда?
– Да уж.
– Я, пожалуй, чего-нибудь выпью. Тебе, наверное, лучше…
– …тоже чего-нибудь выпить. Гасто ведь сказал, я могу делать все, что делал бы нормальный семнадцатилетний парень. А назначения врача надо выполнять.
Отец поднял руки, точно пасуя перед моей несокрушимой логикой. Мы подошли к стойке бара и взяли два коктейля «Попугай» из пастиса, мятного сиропа, воды и льда. Освежающий и приятный на вкус, этот коктейль относился к числу тех напитков, которые пьются очень легко, однако вскоре после первого бокала ты замечаешь, что мысли путаются, а ноги становятся ватными.
Я смотрел по сторонам и разглядывал публику. Все собравшиеся были явно старше меня, среди них попадались и девушки, в том числе красивые, в облегающих юбках и брюках, с грубовато-веселыми голосами. Я прислушался к себе, пытаясь понять, что чувствую этой бесконечно долгой ночью, и угадать, что буду чувствовать во все другие ночи моей новой жизни (ибо меня не покидало ощущение, что у меня начинается новая жизнь), и радостно ответил себе, что чувствую себя хорошо, что не спать – это здорово и что, возможно, человеку по силам отказаться от сна навсегда, и тогда его жизнь станет длиннее и во сто крат интереснее.
Музыканты на сцене выступали по очереди. Каждые четверть часа менялся то барабанщик, то саксофонист, то контрабасист, то трубач. За исключением одной девушки с полубезумным взглядом и, как мне показалось, виноватым выражением лица, какое-то время игравшей на барабанах, все музыканты были мужчинами. Не покидал своего места за инструментом лишь пианист, парень в белой рубашке, черном галстуке и серой борсалино с загнутыми полями. Перед каждой композицией он закуривал новую сигарету, делал пару затяжек и клал сигарету в пепельницу. Пока он играл, дым от нее поднимался и рисовал перед его лицом смертельные петли.
На сцене, пояснил мне отец, проходил джем-сейшен.
– Музыканты, иногда даже не знакомые между собой, собираются и играют без всякой заранее оговоренной программы. Они по очереди сменяют друг друга и импровизируют на основе стандарта.
– Что такое стандарт?
– Слушай. Стандарт – это… как бы сказать… известное джазовое произведение, ставшее классикой. То, что играют все. Некая музыкальная тема, своего рода канон, от которого джазмены отталкиваются в своих импровизациях.
Столик, расположенный прямо перед сценой, освободился, и мы поспешили его занять. Папа был прав: я ошибался, полагая, будто никогда не слушал джаз. Нет, целенаправленно я его и в самом деле не слушал, однако в раздававшихся в этом клубе диссонансах, соло, ударах, ответах и цитатах я то и дело улавливал нечто знакомое.
Вид у отца был по-настоящему счастливым. Едва музыканты начинали играть новую композицию, папа с лету сообщал мне ее название и имя автора. Затем сосредоточенно слушал, отстукивая ритм и сопровождая наиболее удачные пассажи движениями головы.
Теперь на сцене звучали четыре инструмента: рояль, ударные, контрабас и труба. Барабанщик с длинными седыми волосами, собранными в хвост, оглядывался по сторонам, словно кого-то искал. Он сильно потел и время от времени вытирал лицо полотенцем.
Контрабасист, высокий красивый мужчина, смотрел прямо перед собой и выглядел застенчивым. Он обнимал инструмент, как жених невесту на старинной свадебной фотографии.
На трубе играл чернокожий мужчина лет пятидесяти, с рябым лицом и беспросветной скукой во взгляде. «Я знаю то, чего больше не знает никто, но никому и ничего не расскажу», – казалось, говорили его глаза. Ему не было дела ни до чего, кроме музыки, которую он играл, кроме нот, которые звучали томно, пронзительно и гипнотически. Он закрывал глаза, вены на его шее вздувались, и возникало впечатление, что вместе со своей трубой он пытается сделать какое-то важное открытие, вывести какую-то умопомрачительную формулу, объясняющую все на свете.
Отец стучал ладонью по столу и топал. Он смотрел на музыкантов (точнее, на трубача), и по его губам бродила едва заметная улыбка.
– Я, конечно, мало что в этом понимаю, но, по-моему, трубач играет лучше всех, – заметил я.
– Так и есть. Остальные играют хорошо, некоторые даже очень хорошо, но интенция есть только у него.
Не успел я спросить, что такое интенция, а папа уже продолжил:
– Произведение называется «So What». Его автор – Майлз Дэвис, один из гениальнейших музыкантов нашего века… Хотя, пожалуй, не только века, но и всех времен. Человек, изменивший историю музыки.
В эту минуту (может, и позже, но памяти свойственно вносить правки в воспоминания и придавать им больше значения, нежели событиям, с которыми эти воспоминания связаны) какой-то человек поднялся на сцену и подошел к пианисту. Он что-то прошептал ему на ухо, и пианист, подхватив с пола свой бокал, встал из-за рояля, извинился перед коллегами, коротко поклонился публике, надвинул шляпу на лоб и под аплодисменты удалился. Другие музыканты прекратили играть, а человек, который только что разговаривал с пианистом, обратился к зрителям и осведомился, не хочет ли кто-нибудь сесть за рояль.
Желающих не нашлось. Он повторил приглашение два или три раза. Никто не откликался.
Отец поерзал на стуле, чуть привстал, но тут же сел обратно, будто урезонив себя – мол, не глупите, профессор, что вы еще тут удумали.
– Ты хочешь? – спросил я вполголоса.
– Нет, нет. Лучше не надо, – ответил он так же тихо.
– Почему не надо? Ты ведь умеешь играть. Что тебя останавливает?
– Лучше не надо, – повторил он, не отрывая глаз от сцены и пустого табурета у рояля.
– Иди же! – поторопил я и неожиданно для самого себя добавил: – Мне будет приятно послушать, как ты играешь.
Он медленно повернулся и посмотрел мне в глаза, проверяя, правильно ли понял мои слова. Затем кивнул, встал и помахал рукой, привлекая внимание парня на сцене.
Когда папа шел к роялю, я вдруг испугался. А что, если он и впрямь выставит себя неумехой? Да, в молодости он играл на свадьбах и студенческих вечерах, а сейчас время от времени музицирует на магазинных пианино, но этого мало для выступления с профессионалами. Я же вынудил отца выйти на сцену и опозориться перед толпой незнакомых французов, которым будет только в радость освистать и унизить его.
И кто меня за язык тянул?! Я опустил глаза и стал через соломинку высасывать растаявший лед со дна бокала, предчувствуя, что вот-вот случится трагедия.
Папа сел на табурет, отрегулировал его высоту, взял пару аккордов, покрутил головой, перевел взгляд на клавиатуру и снова сыграл несколько аккордов. Затем повернул голову и вопросительно посмотрел на других музыкантов.
– «So What», ça va[6]6
«So What», идет? (фр.).
[Закрыть]? – обратился к нему трубач.
– Ça va, – ответил отец, и они заиграли, не обмениваясь больше ни словом.
Поначалу папа явно был не в своей тарелке. Я мало что понимал в музыке, а в джазе и вовсе не разбирался, но у меня сложилось впечатление, что он не успевал брать ноты и был излишне сосредоточен, пытаясь отыскать точку входа.
Потом мало-помалу его пальцы задвигались по клавишам свободнее, звуки рояля сделались полнее и ярче. Казалось, отец вошел в комнату, где уже текла какая-то беседа, внимательно прислушался к собравшимся и вежливо вступил в общий разговор.
Забывая дышать, я наблюдал за каждым его движением. Ничто из происходящего не вписывалось в мои привычные представления об отце, и это было поразительно.
Он то закрывал глаза, то раскачивался взад-вперед. Его руки были проворными и быстрыми, их движения передавали ощущение чего-то крайне важного, и это было так же красиво, как точно подобранная метафора или удачно найденный индивидуальный стиль.
Композиция длилась минут десять. Когда трубач играл соло, на сцену снова поднялся пианист в борсалино. Он остановился и с улыбкой слушал музыку. Заметив его, отец кивнул, как бы говоря: да-да, вижу, сейчас освобожу твое место. На что пианист махнул рукой: продолжай играть. Папа улыбнулся.
Трубач заметил этот беззвучный диалог – видимо, он не был так отрешен от реальности, как мне думалось, – сыграл финальный пассаж и повернулся к отцу. «Давай, теперь ты», – словно бы предложил папе этот рябой негр, отдавая дань уважения пианисту-любителю, имевшему смелость взойти на сцену и сыграть в компании профи.
Папа заиграл соло. Я не признался бы в этом даже самому себе, но меня переполняла гордость за него, и мне хотелось кричать: смотрите, этот высокий худощавый господин с элегантными манерами, который сидит за роялем и выглядит намного моложе своих пятидесяти с хвостиком, – мой отец!
Когда он сыграл последний аккорд, уверенно доведя до конца меланхолическую музыкальную фразу, раздались одобрительные аплодисменты. Я захлопал вместе со всеми и хлопал до тех пор, пока не убедился, что папа это заметил. Мне не хотелось, чтобы у него возникли сомнения насчет того, понравилось ли мне его выступление.
В последующие годы я слушал много джазовой музыки самых разных направлений. Я разучил термины, о которых той ночью в Марселе не имел ни малейшего понятия: вариации, парафразы, диссонансы, кластеры, хроматизмы, интерплей, модальная импровизация, фри-джаз.
Но все то, что мне по-настоящему известно о джазе, я постиг именно в ту ночь.
17
Мы решили вернуться пешком той же дорогой, которой пришли сюда. Можно было бы взять такси, но мы оба считали, что коротать время за ходьбой лучше, чем за ездой на автомобиле.
– «Коротать время. Что за идиотское выражение! Время и без посторонней помощи прекрасно себя скоротает»[7]7
Цитата из романа Дж. Карофильо «Ни здесь, ни где-либо еще. Одна ночь в Бари». – Примеч. автора.
[Закрыть], – хмыкнул отец.
– Да уж. Есть такие устойчивые выражения, что диву даешься, как они могли прийти кому-то в голову. Например, «друг ягуара». Что оно вообще означает?
– Точно не помню, но, кажется, оно из какой-то старой байки.
– С детства терпеть его не могу. Наверно, все дело в том, что его любила повторять учительница, которую я на дух не переносил.
Я увидел на тротуаре арматурный прут, который выбросил перед тем, как мы с отцом зашли в клуб, и, немного подумав, поднял его.
– Так, на всякий случай.
Как и в первый раз, папа ничего не сказал. По-моему, сейчас он даже не обратил внимания на то, что я сделал.
– Насчет коротания времени мне вспомнилась одна меткая фраза, – сказал он и пнул пластиковую бутылку.
– Какая?
– Очень рано стало поздно.
Я хихикнул, но в том возрасте был еще не в состоянии полностью осознать убийственную точность и правдивость этой фразы.
– Никогда бы не подумал, что ты так умеешь играть, – признался я, когда мы прошли пару кварталов.
– Ты не представляешь, как я трусил, когда поднялся на сцену и сел за рояль. К счастью, получилось недурно. Это была одна из моих любимых композиций.
– Еще я никогда бы не подумал, что джаз мне понравится.
– А в результате?
– А в результате понравился, хоть я и не могу объяснить почему.
– Красота джаза в его несовершенстве. Несовершенстве в этимологическом значении этого слова.
– Как так?
– Слово «совершенный»[8]8
Perfetto (ит.).
[Закрыть] происходит от латинского perficere, то есть «исполнить, закончить». Таким образом, «несовершенный» значит «неисполненный», «незаконченный». Именно незаконченность отличает джаз от прочих музыкальных жанров. К примеру, в классическом произведении партитура содержит все ноты, которые необходимо сыграть. Исполнитель разучивает партитуру и играет точно по написанному, ни нотой больше, ни нотой меньше. Работа состоит в том, чтобы дать звучание ровно той последовательности нот, которую предложил композитор. Тогда как в джазе партитура – лишь отправная точка.
– Ты это имел в виду, когда рассказывал мне про стандарт – ну, канву, на основе которой импровизируют джазовые музыканты?
– Все верно. Они отталкиваются от стандарта, то есть от данных в партитуре нот, и пускаются на поиски чего-то нового. На поиски других вещей, о которых до начала игры даже не подозревали. Джазовый музыкант не только исполнитель, но и соавтор произведения, которое он играет.
– Про трубача ты сказал, что у него есть интенция. Что это означает?
Папа закурил и немного сбавил шаг, словно желая лучше обдумать свой ответ.
– Пожалуй, это понятие из числа тех, про которые можно сказать то же самое, что Блаженный Августин говорил о времени: если никто не спрашивает, я знаю, что это такое. Если я хочу объяснить это тому, кто спрашивает, то уже не знаю, что это такое. – Он молча докурил сигарету и продолжил: – Сформулируем так: интенция – это точка, в которую хочет прийти музыкант, играя ту или иную композицию. Точнее даже, не только сама точка, но и путь, которым он хочет к ней прийти. Интенция – одновременно и пункт назначения, и дорога до него. Есть разные типы интенций: серьезная, драматическая, фривольная, тонкая, остроумная… Понятнее объяснить не могу.
– Тот трубач имел серьезный вид.
– Он действительно был очень серьезен.
Мимо нас прошел парень в пижаме, он вел на поводке огромного мастифа. Человек и пес смерили нас подозрительными взглядами, недоумевая, что мы, явно чужаки, делаем тут глубокой ночью.
Я посмотрел на часы и задумался, на какую прогулку этот хозяин вывел своего питомца – последнюю ночную или первую утреннюю? Очередной вопрос на тему интерпретации времени.
– Ты как? – спросил папа, когда мы миновали еще несколько кварталов.
– Прекрасно. А ты?
– Тоже неплохо. Усталости совсем не чувствую.
Было без двадцати три, мы шагали быстро, были бодры и в хорошем настроении. Каким-то образом я начинал приобщаться к тайнам города, по которому мы гуляли уже много часов подряд. Мой взор выхватывал из темноты укромные уголки, останавливался на таинственных окнах, за которыми мелькали людские тени. В ломаных линиях марсельских улиц я угадывал очертания своей нынешней и будущей жизни. Особенно будущей.
Взгляд отца был слегка затуманен, выражение лица хранило спокойную сосредоточенность.
– Тебе не кажется, что мы заблудились? – спросил я.
– Похоже на то.
– Сверимся с картой?
– А зачем? Мы ведь никуда не спешим, – ответил папа с ноткой веселого безумия в голосе.
Несколько мгновений я смотрел на него, пытаясь понять, шутит он или говорит всерьез. По моим ощущениям, он не был так уж серьезен и в то же время не шутил.
– Говорят, заблудиться в городе, будто в лесу, – это целая наука, – усмехнулся отец.
И мы с энтузиазмом стали постигать эту науку. Можно сказать, нас охватила душевная лихорадка: мы рассуждали не так, как обычно, замечали предметы и собственные ощущения, которые в другой ситуации ускользнули бы от нашего внимания.
– Иногда я задаю себе вопрос, что такое по-настоящему быть свободным, – брякнул я ни с того ни с сего.
– Думаю, свобода приходит к нам только в связке с риском и незащищенностью. Свобода – всегда шаткое равновесие, пребывание не в своей тарелке.
– Меня привлекает идея чувствовать себя не в своей тарелке.
– Много лет назад мы с твоей мамой тоже так считали.
Несколько минут мы шли в тишине, которую нарушало лишь папино сбивчивое дыхание курильщика, шорох шин изредка проезжавших мимо автомобилей да эхо наших шагов.
– По-моему, вон тот бар открыт, – заметил я, видя вдалеке светящуюся вывеску.
– Тогда давай зайдем туда и выпьем кофе.
– Окей.
– Эту штуку оставь снаружи, – сказал отец, кивая на металлический прут, который я упрямо продолжал нести, будто он был моим табельным оружием. – Если возникнут разногласия, нам лучше полагаться на свой дар красноречия.
18
Заведение оказалось не очень-то гостеприимным. Освещение было холодным и резким, на стенах висели плакаты с изображением футболистов команды «Олимпик Марсель», сборной Франции по футболу, а также типов в спортивной форме и боксерских перчатках, которые колотили друг друга по лицу; «Savate championnat national français 1981»[9]9
Национальный чемпионат Франции по савату 1981 г. (фр.).
[Закрыть] – кажется, так гласили надписи на последних плакатах. На высокой полке, расположенной рядом с ними, размещались какие-то наградные кубки.
За грязной старой деревянной стойкой с мраморной столешницей стоял мужчина примерно тех же лет, что и мой отец, этакий трущобный вариант одного из персонажей мультфильмов студии «Ханна-Барбера», рейнджер Смит с мрачным взглядом и двухдневной щетиной. Вдоль стен бара тянулись металлические столики с облупившейся синей краской.
За одним сидели трое посетителей, перед каждым из которых поблескивала рюмка с янтарной жидкостью. Они курили толстые сигареты без фильтра и что-то оживленно обсуждали.
При виде нас мужчины умолкли на несколько секунд, а потом снова затараторили. Папа спросил у хозяина, можно ли нам выпить кофе в его заведении, тот кивнул в ответ и, явно сделав над собой усилие, махнул рукой в сторону одного из свободных столиков.
Мы заказали два кофе. Бармен осведомился, не желаем ли мы пропустить по рюмочке пастиса. Отец вежливо отказался, пояснив, что нам необходимо сохранять ясность мыслей. По какой-то неведомой причине этот ответ понравился рейнджеру Смиту, и на его лице мелькнуло подобие улыбки.
– Пап, слушай, из нас двоих сохранять ясность мыслей нужно мне. Может, вернемся в отель и ты немного вздремнешь, а? Я почитаю, со мной все будет прекрасно.
– Нет уж. Если я перестану тебя контролировать, ты, не ровен час, тоже уснешь, и нам придется начинать сначала.
Я собирался возразить, но он добавил:
– Кроме того, мне не хочется спать. Мне приятно бодрствовать. Я всегда относился ко сну как к вынужденной необходимости, поэтому сейчас, имея право отказаться от него, ощущаю себя свободным.
– Тогда давай думать, чем займемся завтра, то есть уже сегодня.
– Который час?
– Пятнадцать минут четвертого.
Бармен принес нам кофе и поинтересовался, не итальянцы ли мы. Услышав «да», он мигом преобразился и стал сама приветливость. Он рассказал, что его дед был из Сорренто, что его самого зовут Жерар Яккарино и что, хотя родился в Марселе и никогда не бывал в Италии, он чувствует себя наполовину итальянцем. Смесь языков, на которой он говорил, была понятна и мне.
Вскоре мы узнали, что на финале прошлогоднего чемпионата мира, когда Германия в полуфинале обыграла Францию по пенальти, наш новый знакомый болел за Италию. Сильнейшим итальянским игроком он считал не Паоло Росси, а Клаудио Джентиле и утверждал, что итальянцы победили в чемпионате, потому что у них была лучшая защита в мире.
– А что это за вид спорта? – спросил я, кивая на плакаты с парнями в боксерских перчатках, мордовавшими друг друга.
Сават, ответил Яккарино. Вид спорта, зародившийся в Марселе. То же самое, что бокс, только бить противника можно и руками, и ногами. Один из атлетов на плакате – его сын, вице-чемпион Франции восемьдесят первого года.
В бар вошли четверо парней, они возбужденно переговаривались и, похоже, из-за чего-то спорили. Синьор Яккарино отправился обратно за стойку.
Уже не помню, как мы вернулись к теме секса, но во время беседы я вдруг спросил у отца, можно ли задать ему личный вопрос.
– Давай.
– Он очень личный.
– Если он слишком личный, я просто скажу тебе, что не хочу отвечать.
Это уточнение мне понравилось. Теперь оставалось самое трудное – задать очень личный вопрос вслух.
– Я прикидывал… в смысле, хотел спросить, когда ты первый раз был с женщиной.
Папа глубоко вздохнул и сидел молча секунд десять, если не больше.
– В девятнадцать лет, – произнес он наконец. Судя по интонации, это был не весь его ответ.
Мы еще немного помолчали.
Я никогда не затрагивал эту тему в разговоре со своими друзьями. Я знал, что кое-кто из них, как и я, пока не был с девушкой. Не занимался любовью. Другие уже делали это, но я стеснялся выспрашивать у них подробности того, как все происходит, как надо себя вести и так далее. Я боялся, что обо мне станут судачить как о жалком неудачнике, который почти дожил до восемнадцати лет и остается девственником, задает интимные вопросы и онанирует как тринадцатилетка.
Я быстро сосчитал в уме и понял: если папа впервые занимался сексом в девятнадцать, его партнершей была не мама. Это существенно упрощало дальнейший разговор.
Словно собравшись с духом, он продолжил:
– К тому времени почти у всех моих друзей секс уже был, я оставался в числе немногих, кто не мог похвастаться такими же успехами.
«Надо же, во времена папиной молодости у стольких его ровесников имелся сексуальный опыт», – мелькнуло у меня в голове. Впрочем, человеку свойственно мыслить шаблонами. Один из них как раз гласит, что во времена молодости родителей большинство людей начинали заниматься сексом только после того, как вступали в брак. Что свободы было меньше.
– Вы с ней… встречались? Это была девушка твоих лет?
Папа криво улыбнулся. Я ожидал, что он вынет из кармана сигареты и закурит, но он этого не сделал.
– В те времена не так-то часто случалось, чтобы девушка вступала в интимные отношения до брака. С парнями дело обстояло иначе: они могли посещать дома терпимости… закрытые дома.
Это было очевидно, но мне и в голову не могло прийти, что мой отец ходил к проституткам. Даже поставить слова «папа» и «проститутки» в одно предложение для меня было немыслимым.
– Тебе неприятно это слышать?
– Немного. Честно говоря, такого ответа я не ожидал.
– Понимаю. Меня самого до сих пор тяготит тот поступок. До того как совершил его, я считал, что со мной подобное никогда не произойдет. После того как это произошло, я долго не понимал, как вообще мог на такое решиться.
– А как работали эти заведения? Неужели можно было просто постучаться в нужную дверь, войти и… Я бы не отважился. Да и наверное, не отважусь никогда.
– Сам бы я тоже в жизни туда не пошел. Меня привели друзья. Они сказали, это в порядке вещей, это поможет мне разобраться, что к чему, и когда дело дойдет до секса с женщиной, которая мне нравится, я перед ней не опозорюсь.
Он умолк. Я тоже не издавал ни звука. Логичным продолжением папиной истории было бы поведать все до конца. Но, возможно, к такой откровенности мы еще не были готовы. Возможно, к ней мы не будем готовы никогда.
– А какая она… была, ну, то есть…
– Нормальная. Толстоватая немного, но в целом ничего. Она была похожа на консьержку из соседнего дома, причем так сильно, что на несколько секунд я всерьез решил, что передо мной она и есть. Все длилось минуты три-четыре. – Отец закурил и сделал пару торопливых затяжек, его лицо слегка расслабилось. – Долгое время я полагал, что, будь у меня шанс все изменить, я не переступил бы порог того борделя. Долгое время я раскаивался, что испортил свой первый секс, что у меня не осталось воспоминаний, которые вызывали бы нежность, пусть даже горечь, но не брезгливость. Совершая тот или иной поступок первый раз в жизни, мы часто не отдаем себе отчета, что он запечатлеется в нашей памяти как некая точка невозврата. Если мы все прошляпили, ничего уже не исправить. – Он залпом допил кофе и опять взялся за сигарету. – Знаешь, никогда бы не подумал, что расскажу эту историю кому бы то ни было, а уж своему сыну – тем более.
– Маме ты ее не рассказывал?
– Спустя несколько месяцев после первой помолвки у нас зашел разговор о публичных домах. В парламенте и по всей стране шли активные дебаты об их закрытии, которое и состоялось году в пятьдесят восьмом. Твоя мама с величайшим презрением высказалась о борделях, о тех, кто их держит, и, самое главное, о тех, кто их посещает.
– Представляю! – рассмеялся я.
– Она заявила, что мужчина, который ходит к проститутке, либо жалок, либо неадекватен, либо то и другое вместе. Я возразил, что, мол, не надо все упрощать, ведь из поколения в поколение многие мужчины получали сексуальную инициацию, назовем это так, от более старшей и опытной женщины, будь то гувернантка или хотя бы проститутка. И что, разве все эти поколения мужчин были жалкими, неадекватными или жалкими и неадекватными одновременно?
– А она?
– О-о, мои слова нисколько ее не убедили. Сам знаешь, какими суровыми могут быть ее суждения. Короче говоря, в конце той беседы я сказал, что она вольна думать по-своему, но мне все же кажется, что ее доводы слишком уж категоричны и что в жизни есть не только черное и белое. Еще я добавил, что мне тоже противна идея обращения с женским телом как с товаром, однако экстремизма твоей матери я не разделяю. Все в таком духе. В общем, я попытался сохранить свою позицию и поспешил перевести разговор. Я и так не собирался рассказывать твоей маме о своем первом опыте, а спор о публичных домах навсегда закрыл любую возможность затронуть с ней эту тему.
Я понял, что он имел в виду. По ряду вопросов мамино мнение было однозначным, и она могла высказывать его крайне резко. Я хорошо это знал, но то, как папа поделился со мной этой историей, позволило мне по-новому взглянуть не только на него, но и на их с мамой союз. На баланс – вернее, дисбаланс – их отношений, на мамину властность, которая лежала в их основе.
– Антонио…
– А?
– Не рассказывай об этом маме – не хочу, чтобы она знала.
– Я бы никогда ей ничего не рассказал.
– Я знаю, но мне все равно захотелось попросить тебя об этом.
Если бы неделю или хотя бы два дня назад кто-нибудь сказал мне, что мой отец был с проституткой, я испытал бы отвращение. Но теперь я не понимал, какие чувства вызвало во мне это папино откровение. Я ощущал смесь изумления, любопытства и нежности.
Выслушав его, я погрузился в смущенное молчание. Папа тоже ничего не говорил, и вскоре я сообразил: он ждет, что я отвечу ему откровенностью на откровенность.
– Я никогда не был с девушкой, то есть никогда не занимался сексом. Иногда мне кажется, что у меня его вообще не будет.
– Он у тебя будет, и очень скоро, и тогда твои нынешние заботы покажутся тебе смешными.
Папа закурил.
– Ты когда-нибудь курил, Антонио?
– Ни разу даже не притрагивался к сигарете. А ты во сколько лет начал?
– О, еще в детстве. Мы с ребятами покупали сигареты поштучно.
– Это как?
– Брать целую пачку было необязательно. Мы заходили к табачнику, просили, скажем, штук пять сигарет, он перекладывал их в белый бумажный пакет и протягивал нам. В шестидесятые годы поштучную продажу сигарет запретили, потому что решили, что она способствует курению детей. Так оно, впрочем, и было.
– Ты никогда не пытался бросить?
Отец улыбнулся и ничего не ответил. Его мысли были заняты другим.
– После твоей мамы мне не нравилась больше ни одна женщина, – произнес он, будто возвращаясь к давно прерванному разговору.