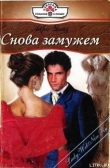Текст книги "Три часа ночи"
Автор книги: Джанрико Карофильо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
14
Мы шли к порту, приближаясь к границам района Панье, но не пересекая их.
Окружающая обстановка вызывала противоречивые чувства. Нам было комфортно, как в родной стране, и в то же время мы не могли отделаться от ощущения подстерегающей опасности: словно бы нечто неведомое ползало по закоулкам, хищно поглядывая на нас, и от этого нам становилось не по себе.
Притомившись от ходьбы, мы зашли в бар. Гасто предписал мне на протяжении этих двух дней вести жизнь нормального семнадцатилетнего парня, но мы с папой условились, что понятие нормальности не будет включать в себя злоупотребление вином и бренди, пусть даже под непосредственным наблюдением (и при участии) моего отца.
Итак, мы заказали две чашки кофе – вероятно, худшего за время нашего пребывания в Марселе, и продолжили болтать. Всю свою предыдущую жизнь я почти не интересовался тем, что за человек мой отец. Теперь же вопросы сыпались из меня один за другим:
– Каким ты был в моем возрасте?
– Не знаю. О себе рассказывать сложно. Я давно заметил: если просишь близких, чтобы они тебя описали, ничего путного у них не выходит. В лучшем случае перечислят пяток стереотипов, с которыми ты у них ассоциируешься. А может, произнесут ложь, в которую им самим важно верить.
– Допустим. Тогда скажи, что тебя увлекало в те годы?
– Музыка и математика. Я мечтал быть джазовым пианистом и великим математиком. Будем считать, и первое, и второе мне удалось максимум наполовину.
– Как так?
– Джазового пианиста из меня не вышло, а математиком я стал разве что хорошим. Я мечтал войти в историю как тот, кто доказал теорему Ферма, но эта мечта не сбылась, и теперь уже никто не помнит о моих скромных выкладках.
– Кто такой Ферма?
– Французский математик и юрист, живший в семнадцатом веке. В прошлые времена часто случалось, что один и тот же человек был и юристом, и математиком. Однажды мой друг, профессор гражданского права, сказал, что для настоящего понимания юриспруденции необходимо иметь особый склад ума, очень напоминающий математический. Я отреагировал на его замечание скептически, а он в ответ процитировал великого польского математика Стефана Банаха. По мнению Банаха, хорошие математики видят аналогии, а великие математики видят аналогии между аналогиями. Блестящее определение! Мой друг добавил, что оно применимо и к юристам: хорошие подмечают аналогии, сходства и отличия, великие – аналогии между аналогиями. Короче говоря, эти люди способны перевести обсуждение на совершенно другой уровень. Так вот, вернемся к Ферма: он сделал ряд важных открытий, но вечную славу ему принесла теорема, для которой он якобы нашел поразительное доказательство. К сожалению, писал Ферма, поля книги, на которых он его выводил, были слишком узкими, чтобы вместить текст целиком. Не знаю, удалось ли ему на самом деле доказать свою теорему, у меня есть много сомнений на этот счет, но с тех пор над ней бьются математики всего мира. Увы, по сей день никто не сумел ответить даже на вопрос, доказуема ли теорема Ферма. По этой причине многие ученые предпочитают называть ее не теоремой, а гипотезой.
– Я правильно понял: он доказывал ее на полях какой-то книги?
– Да, «Арифметики» греческого математика Диофанта Александрийского.
– И дело было в семнадцатом веке?
– В одна тысяча шестьсот тридцать седьмом году.
– И с тех пор теорему так и не доказали?
– Возможно, кто-то подошел к ее решению ближе, чем другие, но однозначного доказательства не было и нет. При этом учти, что алгебраические инструменты, которыми мы располагаем сегодня, куда более мощные и точные, чем в эпоху Ферма.
– Ты когда-нибудь подходил близко к решению?
– Мне часто казалось, что да, но всякий раз я ошибался. Двадцать лет пыхтел, а потом бросил. Как ни крути, математика – спорт для юных атлетов. – Он помолчал с полминуты. – Но рано или поздно кто-нибудь докажет теорему Ферма. Пока что это удалось сделать только персонажу одного художественного произведения.
– Какого?
– В последнем романе Орианы Фалаччи, который я, правда, еще не читал, главный герой умудряется доказать теорему, но, поскольку он сидит в тюрьме, в одиночной камере, и у него нет ни бумаги, ни ручки, записать решение он не может и, увы, все забывает.
– Такое возможно?
Папа задумался.
– Видишь ли, пути гениальности бесконечны, внезапная догадка является фундаментально важной частью многих научных открытий, в том числе математических, но, скажем так, очень маловероятно, что она возникнет, если ей не будет предшествовать долгий инкубационный период, который, по сути, представляет собой много часов работы с бумагой и карандашом в руках. Впрочем, если отвлечься от художественной литературы, сотни математиков мира на определенном этапе своих рассуждений были твердо уверены, что доказали гипотезу Ферма, но потом сами или с чьей-нибудь помощью понимали, что их выводы ошибочны.
– Почему математика так важна для тебя?
– Точнее сказать, не важна, а была важна. Я понял это лишь несколько лет назад, когда прекратил попытки доказать гипотезу Ферма. Я любил математику, потому что наслаждался ее красотой. Практические аспекты того, что я изучал или пытался сформулировать, меня не интересовали. Единственным критерием была красота. Чистая и простая красота. – Он снял очки, прищурился и протер их. Протянул руку к своей чашке, но, должно быть, вовремя вспомнил тошнотворный вкус кофе, который был в ней, и положил ладонь на стол. – Тогда же, несколько лет назад, я понял, что математика была для меня еще и инструментом успокоения тревоги, борьбы с тоской бытия и его непредсказуемостью. Защитой от страха. В немецком языке, который, кстати, является одним из самых точных языков современности и в котором практически для каждого понятия есть отдельная лексическая единица, для обозначения тревоги, боязни и страха употребляется одно общее слово: Angst. Подобным образом математика служила мне защитой от страха, лекарством от хаоса и способом его укротить. – Отец сделал паузу. Думаю, его остановило изумление в моих глазах. – Антонио, с тобой все хорошо?
– Да. Просто поймал себя на мысли, что никогда не ожидал услышать от тебя такое.
– Ни один из нас не ожидал, что мы окажемся в той ситуации, в которой сейчас находимся, и будем обсуждать то, что сейчас обсуждаем. Это к во просу о непредсказуемости и неуправляемости.
– Ты прав. Продолжай, пожалуйста.
– Многим математикам, даже если им не хватает смелости сказать об этом прямо, нравится считать, что все в мире можно свести к символам и формулам. Я и сам раньше был убежден, что Вселенная имеет математическую структуру, нужно просто ее обнаружить.
– Но это не так?
– Не так. Математика не предшествует математическим открытиям. Это система, которая объясняет многое, но не все. – Он помолчал. – Ты следишь за моей мыслью?
Я кивнул.
– Математики любят чувствовать свое превосходство. Есть одна байка, которая великолепно это иллюстрирует.
Тут к нам подошел белый песик с черными пятнами, фокстерьер-полукровка. Он позволил себя погладить, с достоинством виляя хвостом и выражая дружелюбие, но не демонстрируя ни малейшей покорности.
– Tati, viens içi[4]4
Тати, иди сюда (фр.).
[Закрыть], – позвала его коротко стриженная дама, словно сошедшая с одной из картин Модильяни.
Песик убежал.
– Ты знаешь, кто такой Тати?
– Нет.
– Так звали одного французского комедийного актера. Его шутки были высокоинтеллектуальными и сюрреалистичными. Он умер в прошлом году. – Отец перевел дыхание. – Твоей маме он нравился.
Упоминание о маме на время погрузило нас в молчание.
– Так вот, байка. Астроном, физик и математик едут по Шотландии на поезде. Проезжая через поля, они видят за окном черную овцу. Астроном восклицает: «О-о, как интересно – овцы в Шотландии черные!» Физик укоризненно качает головой: «Вы, астрономы, в своем репертуаре. Одни обобщения на уме. На самом деле единственное неопровержимое утверждение, которое мы можем сделать, таково: в Шотландии обитает по крайней мере одна черная овца». Математик оглядывает их обоих, вздыхает и поучительным тоном изрекает: «Право же, не знаю, как вас обоих назвать. Все, что мы можем сказать, это: в Шотландии есть по крайней мере одна овца и по крайней мере один бок у этой овцы черный».
Я сказал, что это хорошая шутка, таким тоном, который позволил мне почувствовать себя взрослым. Отец подтвердил, что шутка и вправду хороша, что ее наверняка придумал математик, ну или хотя бы логик и что она точно отражает отношение математиков к другим ученым.
Папа закурил еще одну сигарету.
Мне подумалось, что в его постоянном курении, в этом проявлении слабости, выстраданном и превратившемся в собственную противоположность, есть нечто трагически непоправимое. В повторении одних и тех же действий – вынуть из кармана мягкую пачку, постучать по верхней грани, взяться двумя пальцами за охристый фильтр, зажать его в зубах, чиркнуть спичкой, коротко вдохнуть – ощущался осознанный выбор, сделанный в пользу самоуничтожения.
– Иногда мне кажется, что я устал.
– Устал от чего?
– Если ты прожил много лет, веря, что являешься хранителем высшего знания, то, когда эта вера рушится, ты обнаруживаешь, что потерял себя. Внезапно тебе кажется, что больше тебя ничто не интересует.
– Но ведь у тебя столько увлечений: ты слушаешь музыку, читаешь книги…
– Как раз на примере чтения и поясню. Ты прав, я с детства много читал. Но в глубине души мое отношение к книгам было неправильным. Опасно неправильным.
– Ты не преувеличиваешь?
– Дай договорить. Я читал книги самых разных жанров, но меня никогда не покидала мысль, что написанное в них не имеет особого значения. Что настоящие знания дает наука, в первую очередь математика, а все прочее – лишь болтовня, пускай местами и гениальная. На романы, книги по философии, политике, социологии я смотрел примерно так же, как некоторые напыщенные умники – на детективы или фантастику. То есть я не считал чтение такой литературы зазорным, но и всерьез ее тоже не воспринимал. Труды математиков – вот истинный источник знания, думал я, а все остальное – не более чем развлечение, пусть утонченное, пусть высокоинтеллектуальное, но все равно развлечение. Таким был мой подход к эссе Сартра – я относился к ним как к легкомысленному чтиву, которое позволяло скоротать время в перерыве между серьезными занятиями. Теперь же я пришел к выводу, что заблуждался, и у меня словно выбили почву из-под ног.
Папа вдруг показался мне таким уязвимым. Меня охватил порыв сжать его плечо, но я не посмел этого сделать.
Он потер виски и прищурился.
– Может быть, все дело в том, что я не оправдал собственных ожиданий, но, подозреваю, даже если бы мои мечты о математической славе сбылись, такой момент рано или поздно наступил бы. Полагаю, причина банальна и проста: я старею, я боюсь смерти и… – Отец оборвал себя на полуслове. – Мне не следует говорить с тобой о таких вещах, – добавил он и тряхнул головой.
– Тебе есть с кем говорить о них?
Папа уставился на меня так озадаченно, будто не понял, кто и о чем его только что спросил.
– Нет, не с кем.
– Тогда поговори со мной.
Мне показалось, мое предложение его ошеломило. В отцовских глазах мелькнул проблеск решимости.
– Верно, – прошептал он. – Я поговорю об этом с тобой. – В его голосе не было ни намека на иронию. – Всю жизнь я считал, что никогда не состарюсь. Я и представить себе не мог, что однажды скажу: «Мне сорок лет». Нынче мне уже за пятьдесят. – Он докурил сигарету, затянувшись так сильно, что на щеках образовались две глубокие борозды. – Мне следовало умереть молодым. Не в буквальном смысле, конечно, а как математику. Сменить работу, уйти из университета, едва только я начал понимать, что силы заканчиваются. Как бы ни был хорош человек – а я был весьма хорош, – настает день, когда он сравнивает себя с выдающимся талантом или гением и убеждается в собственной ущербности. Нам необходимо умение остановиться на пике своих возможностей, но, увы, на это мало кто способен.
– Когда ты обнаружил, что у тебя талант к математике? – В моем вопросе прозвучал упрек: мне не понравилась ни папина речь, ни темы, которые он в ней затронул.
Похоже, он это почувствовал и потому постарался ответить чуть более оптимистично:
– Вообще, я с детских лет был с математикой на «ты». Но окончательно понять, что у меня есть к ней способности, помог один случай. Он стал для меня своего рода предопределением, которое…
– Да не тяни уже!
– Это произошло, когда я перешел в среднюю школу. Учитель математики на первом уроке рассказал нам историю об известном математике Гауссе. Гауссу было девять лет, он сидел на уроке математики, а в классе поднялся дикий гвалт. Учитель, пытаясь хоть как-то приструнить учеников, дал им задание сложить все числа от одного до ста. Он надеялся, что это займет их надолго и урок пройдет относительно спокойно.
К нам подошли парень и девушка моего возраста или чуть постарше, в сандалиях и длинных рубашках в стиле хиппи.
– Hi, brothers! – поздоровались они и спросили, нет ли у нас сигарет.
Отец вынул из пачки несколько сигарет и отдал им.
– Пять тысяч пятьдесят, – произнес я, когда наши с папой взгляды снова встретились.
– А?
– Сумма всех слагаемых от одного до ста – пять тысяч пятьдесят.
– Погоди, так я уже рассказывал тебе эту историю?
– Нет.
Папино лицо вытянулось от изумления.
– Как ты подсчитал? – проговорил он медленно.
Немного подумав, я ответил:
– Мысленно увидел все числа от одного до ста, расположенные на отрезке. Отрезок выгнулся, и его края сомкнулись в круг, в котором крайние числа, сто и один, оказались рядом друг с другом. Я сложил их, получилось сто один. Затем из точки между единицей и сотней вышла линия диаметра. Она пересекла центр круга и остановилась в точке между пятьюдесятью и пятьюдесятью одним. Я сложил эти два числа, обнаружил, что их сумма равна сумме ста и одного, и понял: сумму чисел от одного до ста можно разложить на пятьдесят пар, сумма слагаемых в каждой из которых равна ста одному. Дальше умножил сто один на пятьдесят и получил пять тысяч пятьдесят.
– Сможешь перевести это в формулу?
– Думаю, да.
Он протянул мне черный блокнотик и перьевую ручку, которые всегда носил с собой, и я вывел: n / 2 (n + 1). Потом зачеркнул и переписал в таком виде: n (n + 1) / 2.
– Так лучше.
Я вернул ручку папе. Он рассеянно взял ее как сигарету и, по-моему, был готов поднести к губам и сделать затяжку.
– Сколько ты получил по математике в первом семестре?
– Шесть.
– Шесть. А за год?
– Шесть.
– Почему?
– Что почему?
– Ты понимаешь, о чем я.
Я пожал плечами. Отец наклонился вперед.
– В начальной школе ты учился блестяще, а как только перешел в среднюю, тебя словно подменили.
Он оставил нас, когда я учился в четвертом классе, и моя успеваемость, до того момента превосходная, упала настолько, что меня едва не отчислили.
К переходу в среднюю школу дела с учебой уже шли лучше: я закрепился в статусе тихой посредственности, вылез из двоек, получал шестерки и семерки. Талант к математике, который имелся у меня в детстве, канул в прошлое.
Я снова внимательно вгляделся в отцовское лицо. На нем проступила такая невыносимая боль, что я поспешил отвести глаза.
– Ты не закончил рассказ про своего учителя в шестом классе.
Папа слегка вздрогнул.
– Ах, да. В общем, он сказал нам, что Гаусс ответил на вопрос учителя уже через несколько секунд, и спросил, способен ли кто-нибудь из нас сделать то же самое.
– И ты поднял руку.
– Ага.
– А он?
– Стал расспрашивать, как я считал. Я объяснил, что представил числа в виде точек, расположенных на отрезке, и сложил стоявшие по краям единицу и сотню. Потом обнаружил, что девяносто девять плюс два тоже будет сто один… Дальше было легко. Но твое решение с превращением отрезка в круг куда изящнее. Не сомневаюсь, твои способности к рисованию имеют к этому отношение.
– А Гаусс как подсчитал?
– Этого никто не знает. Неизвестно даже, какова доля правды в этой истории про урок математики. В любом случае, позже я выяснил, что наш учитель давал это задание в начале каждого учебного года всем, кто поступал в среднюю школу. По моим сведениям, правильно его выполнили всего два ученика, один из них я. Кто был вторым, я так и не сумел выяснить.
– Наверное, учитель был счастлив.
– Сказал, что поставит мне девять. По идее, добавил он, верное решение за такое короткое время заслуживает и десяти баллов, но, поставь он мне десятку, это означало бы, что улучшать уже нечего, а мой талант еще предстояло огранить. – Он сосредоточенно нахмурил брови. – Не помню точно его слова, но смысл в них был такой: разбрасываться талантами нельзя.
15
Часы показывали одиннадцать.
– Ну, ты хочешь пойти туда, где играют джаз?
– Да, но я никогда его не слышал. Интересно, понравится ли мне.
– Тебе только кажется, что ты его никогда не слышал. Как сказал один человек, джаз повсюду.
– Кто этот человек?
Отец усмехнулся:
– Я. Но вообще на тему джаза бытует много крылатых выражений. Самое известное из них принадлежит Луи Армстронгу: «Если вы спрашиваете, что такое джаз, вам этого никогда не понять».
Он развернул карту и, сверившись с листочком, на котором месье Доминик написал адрес, быстро нашел нужное место.
– Так-с. Пешком идти минут сорок. Если хочешь, давай возьмем такси.
– Нет, пойдем пешком. Заодно скоротаем время.
– По словам Доминика, район там весьма захудалый.
Я пожал плечами:
– Порт тоже не самый благополучный район, и что с того?
Отец молча кивнул, и мы снова отправились в путь вдоль Ла-Канебьер. Людской поток редел, и, может быть, именно поэтому создавалось ощущение, будто неоновые огни сияют ярче и живут своей жизнью.
Мы прошли мимо магазина интимных товаров, потом мимо еще одного такого же. Когда на нашем пути попался третий, отец спросил, не хочу ли я зайти.
– Ты шутишь?
– Будь ты здесь один или с другом, зашел бы?
– Да, – ответил я без колебаний.
– Я тоже. Так что давай заглянем внутрь и немного отвлечемся.
Мы переступили порог, отворив дверь и отодвинув тяжелую черную полиэтиленовую занавеску, за которой, казалось, открывался совсем другой мир.
Я помню все так, словно это происходило вчера: свет был ярким и холодным, как в киношной прозекторской, а помещение просторным, хотя при взгляде с улицы возникало впечатление, что за дверью находится магазинчик площадью в несколько квадратных метров. Вдоль стен, уходивших далеко вглубь, тянулись полки с товарами, в центральной части мерцали стеклянные витрины. Пять-шесть покупателей бродили по залу, избегая встречаться взглядами. Единственным сотрудником был невзрачный худощавый парень чуть старше меня, который стоял за прилавком и сам с собой играл в шахматы.
Видеокассеты, журналы и книги были педантично сгруппированы по темам: оргии, лесбиянки, подчинение, геи, порка, животные. Ассортимент игрушек поражал воображение, а еще тут и там стояли баночки с мазями и бутылочки с маслами, этикетки которых на четырех разных языках обещали эффектное увеличение размеров («до восьми сантиметров», как гласила подпись под соответствующей картинкой на одной из коробочек с мазью, изготовитель которой, очевидно, не особенно полагался на воображение покупателей).
Время от времени я поглядывал в сторону отца. Он с непринужденным видом прохаживался от полки к полке, внимательно все осматривая, точно инспектор, составляющий отчет о проверке торгового заведения. В какой-то момент он взял плетку-девятихвостку и легонько хлестнул ею по своему предплечью.
В дальней от входа части зала располагались кабинки. Подойдя ближе, я увидел, что возле каждой из них закреплен приемник для монет. Опустив в него пять франков, можно было войти в кабинку, поставить что-нибудь из обширной подборки фильмов в видеомагнитофон и насладиться несколькими минутами уединенного просмотра.
На каждой двери была надпись: «Prière de laisser cet endroit aussi propre que vous désirez le trouver en entrant» – «Просим вас оставить это место после себя таким же чистым, каким вам хотелось бы видеть его при входе».
Рука уже потянулась в карман за пятифранковой монетой, как вдруг до моего слуха донеслась череда нечленораздельных гортанных звуков, словно кому-то срочно потребовалось прочистить горло. Звуки раздавались из одной из кабинок и вскоре сменились стонами нарастающей громкости, завершившимися протяжным выдохом.
Спустя полминуты из той кабинки, распространяя запах вонючих сигарет, вышел старик, на ходу застегивающий испачканную ширинку; судя по всему, просьбу на дверной табличке он не выполнил.
Я инстинктивно вытащил руку из кармана и понял, что рядом со мной стоит папа.
– Может, пойдем? – произнес он нейтральным тоном.
Мы направились к выходу. Продавец-шахматист даже не соизволил взглянуть на нас; похоже, тут никому и в голову не приходило проверять, не воруют ли покупатели.
Некоторое время мы шли молча.
– Мне почему-то вспомнилось, что, когда я был маленьким, ты изредка играл на пианино, – сказал я. – На том, которое до сих пор стоит у нас дома.
– Да, было дело.
– А что именно ты играл, я не помню.
– Всего понемножку, но в первую очередь старый джаз.
– Я забыл, ты в детстве занимался музыкой?
– Несколько лет ходил к преподавателю, но в итоге выучился играть то, что мне было по душе, только после того, как перестал брать уроки. В университетские годы мы с тремя друзьями создали группу: фортепиано, барабаны, контрабас и саксофон. Играли на танцевальных вечерах, на свадьбах и так далее. Даже кое-что зарабатывали. Было весело. А еще мы планировали записать собственный альбом. Потом выпустились, и каждый из нас пошел своей дорогой, которая не была связана с музыкой.
– Ты тоже сочинял мелодии?
– Да, мы написали несколько произведений. Два-три из них мне даже нравились.
– Как давно ты не играл?
– Вообще-то я не прекращал играть все эти годы. Помаленьку упражняюсь, стараюсь не растерять навык.
– Но у тебя дома нет пианино.
Он кивнул.
– И где же ты упражняешься?
– Хожу к другу, который работает в магазине музыкальных инструментов, и играю. Каждый раз сажусь за новое пианино.
– Почему ты не забрал пианино из нашего дома?
– Сам не пойму. Возможно, оставляя предмет, который нам дорог, в месте, которое нам не хочется покидать, мы пытаемся сохранить связь с этим местом, потому что надеемся на возвращение… В общем, не знаю.
Папин ответ поверг меня в ступор. Он ведь сам бросил нас с мамой. Что же тогда означают его слова?!
Больше вопросов на эту тему я решил не задавать. Я чувствовал, что ответы на них перевернут мои представления о нашей семье. К этому я пока не был готов.
– А тебя какая музыка интересует? – спросил отец.
– Не могу сказать, что я меломан. Я слушаю кое-кого из исполнителей авторской песни, люблю рок-баллады. В общем, мне по душе композиции, которые рассказывают какую-нибудь историю или позволяют ее представить. Слова меня привлекают больше, чем музыка.
– Приведи пример.
Поразмыслив секунд десять, я ответил:
– Мне очень нравится одна из баллад Дона Маклина, но, думаю, ее название ничего тебе не скажет.
– Имя музыканта я точно слышал. А песня как называется?
– «American Pie». Она посвящена авиакатастрофе пятьдесят девятого года, в которой погибли трое музыкантов. В тексте песни полно разной символики, я обожаю ее слушать, потому что каждый раз непременно открываю для себя новый смысл или подтекст. Композиция длится почти девять минут.
– Я хочу ее послушать, – сказал отец серьезным тоном.
– Хорошо, когда вернемся, я дам тебе запись.
На папиных губах мелькнула неуверенная улыбка.
– Я сейчас вдруг подумал, что почти ничего о тебе не знаю. Я понятия не имею, чего ты хочешь в жизни, чем мечтаешь заниматься. Но, наверное, это со всеми родителями так.
– Да я и сам не пойму, чего хочу. Одно время ломал голову над этим вопросом, но мне постоянно казалось, будто я задаю его в пустоту. Если я тебе кое в чем признаюсь, можешь пообещать, что не станешь тревожиться? Это уже дело прошлое.
– Хорошо, обещаю.
– Иногда я пытался вообразить, что ощущает человек, совершая самоубийство.
Он и бровью не повел.
– Каким способом?
– В том-то и загвоздка. Я не мог найти способ, который показался бы мне надежным. В смысле, такой, чтобы точно ни капли не страдать.
– Эти мысли до сих пор тебя занимают?
– Уже нет.
– Понятно. Меня, кстати, они когда-то тоже посещали.
– Правда?
– Ага. Во времена учебы в старшей школе. И представляешь, спустя несколько лет, когда я был старшекурсником, у нас с друзьями зашел разговор на эту тему. Один из них к тому моменту уже сдал последний экзамен и вот-вот должен был получить диплом. Мы сидели, болтали и выпивали. Разговор становился все более откровенным, и неожиданно для себя я признался, что в школьные годы помышлял о самоубийстве. Я полагал, мои собутыльники будут поражены. Так оно и случилось, но вовсе не потому, что их ошеломил мой рассказ. Как выяснилось, каждый из них тоже когда-то думал о самоубийстве и тоже считал, что эти мысли не приходи ли в голову никому кроме него.
Мы помолчали. Я чувствовал, что переживаю одно из тех мгновений, которые отпечатываются в памяти на всю жизнь, потому что в такие мгновения наше видение мира переворачивается с ног на голову. Слова отца будто бы вывели меня из туннеля подростковости, по которому я блуждал до этой минуты. Блуждал и наивно верил, что мои переживания уникальны, невыразимы, трагичны, а главное – совершенно непонятны другим.
– Год назад один парень из моей школы покончил жизнь самоубийством.
– Да-да, помню.
– Что, действительно помнишь?
– Я хотел поговорить с тобой об этом, но не нашел нужных слов. Ты хорошо его знал?
– Нет, мы почти не были знакомы. Так, пару раз играли в футбол после уроков.
– Удалось установить, почему он это сделал?
Я развел руками:
– Никто так ничего и не выяснил.
– В людских головах и душах случаются короткие замыкания, которые никому и никогда не обнаружить. Тот, кто пытается до них докопаться, рискует сойти с ума, – заметил папа и вынул из кармана пачку сигарет и коробок спичек.
– А ты не думал о том, чтобы курить поменьше? – выпалил я на одном дыхании, сам себе удивившись.
Несколько секунд отец не сводил с меня глаз. Затем убрал сигареты и спички обратно в карман.
Мы подошли к перекрестку. Отец остановился, чтобы свериться с картой. На переходе не было никого, кроме нас.
– Нам сюда, – сказал папа, кивая на уводившую влево улочку. – Уже близко.