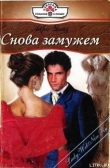Текст книги "Три часа ночи"
Автор книги: Джанрико Карофильо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
11
Портье в отеле порекомендовал нам ресторан, расположенный прямо напротив Старого порта. Он сказал, что рестораном владеет его кузен и что он сейчас же позвонит ему, забронирует столик и попросит, чтобы нас обслужили по высшему разряду. Там нас угостят настоящими блюдами традиционной марсельской кухни – в частности, мы непременно должны отведать оладьи из нутовой муки, тосты с тапенадом и, разумеется, буйабес.
Дорога до Chez Papa[3]3
«У папы» (фр.).
[Закрыть] (так назывался ресторан) пролегала вблизи Ла-Канебьер. Со вчерашнего вечера этот район ничуть не изменился, но враждебным уже не выглядел, а лица его обитателей не казались нам грозными. Возможно, причина заключалась в том, что еще не стемнело и у нас была не только четкая цель, но и подробное описание маршрута. В любом случае, мы не чувствовали себя в опасности и не боялись заблудиться.
Место, где мы вчера наблюдали погоню и арест, сегодня было безлюдным. Я опустил глаза и водил взглядом по мостовой и трамвайным путям, выискивая пятна крови или другие следы произошедшего, но так ничего и не увидел.
По пути я размышлял о том, что, похоже, за целую жизнь ни разу не разговаривал с отцом по-настоящему. Нет, конечно, мы с ним разговаривали, но, если не считать отрезка моего детства, который предшествовал разводу родителей, я всегда ощущал, что мы общаемся через силу, отчужденно, а то и со взаимным снисхождением. В папином поведении я замечал лишь попытки соответствовать стереотипу того, каким должен быть отец.
Когда мы проводили время вместе, он стремился казаться естественным, но у него ничего не получалось. «Будь естественным» – совет парадоксальный и невыполнимый, даже если человеку его дают не окружающие, а он сам.
Полагаю, всякому, кто спросил бы отца, какие у него отношения с единственным сыном, он ответил бы, что с годами между нами воздвиглась глухая стена неприязни. Откуда она взялась и что с ней делать, он не понимал.
Так продолжалось на протяжении многих лет, но я осознал это лишь во время прогулки по Ла-Канебьер к ресторану Chez Papa.
Месье Доминик, кузен нашего портье, встретил нас у входа и проводил за столик у окна, накрытый красно-белой клетчатой скатертью. Оттуда открывался вид на Старый порт, два главных мола и перпендикулярные им деревянные причалы меньшего размера, к которым были пришвартованы сотни различных судов и суденышек. Казалось, мы попали в настоящий лес из такелажа и мачт, сквозь которые просачивались тысячи лучей закатного солнца. В двадцать минут девятого оно скрылось за далекой линией горизонта.
С выбором блюд мы управились в два счета – просто заказали все, что нам порекомендовали, а еще кувшин прованского розового вина.
Когда принесли закуски и вино, папа стал наполнять мой бокал, и я уже решил, что он нальет вина сантиметра на полтора, а сверху добавит воды, как в былые времена, но папа наполнил бокал вином доверху. Затем налил себе, поднес свой бокал к моему, и они отразились один в другом. Мы чокнулись и отпили по глотку. Вино оказалось приятным на вкус, прохладным и обманчиво легким.
Чуть позже, заметив, как я уплетаю буйабес, папа вспомнил, что в детстве я терпеть не мог рыбу, потому что боялся костей, и из рыбных блюд ел исключительно тресковые палочки. Мои прежние представления об отце в очередной раз пошатнулись: выходит, папа не только знал, что я не любил рыбу и предпочитал рыбные палочки, но и помнил об этом столько лет?..
Мы съели все подчистую, осушили кувшин вина, искренне поблагодарили месье Доминика за вкусный ужин и попросили счет. Его нам принесли вместе с печеньем на блюдечке и двумя рюмками бренди – комплиментом от заведения. К этому времени все столики в ресторане уже были заняты, царила расслабленная веселая атмосфера. Казалось, мы переместились в другую эпоху – в шестидесятые или более ранние годы.
Отец огляделся, на его губах заиграла мальчишеская улыбка.
Если бы до этой минуты кто-нибудь попросил меня описать папино лицо, мне пришлось бы непросто. Да, я упомянул бы выдающийся нос, очки, темные глаза и густые седые волосы. Но сказать, что у отца ямочка под подбородком, длинные ресницы и шрам над левой бровью, я бы не смог, потому что никогда их не замечал. Как так вышло, что я никогда их не замечал?
– Откуда у тебя этот шрам? – полюбопытствовал я.
– Который? – отозвался папа. Затем увидел, куда я киваю, и дотронулся до шрама, словно проверяя, на месте ли он. Отхлебнул бренди, закурил и произнес: – Он у меня на память о твоей маме.
– Серьезно? Она что, тебя била?!
Отец расхохотался.
– Нет, конечно! Просто из-за нее меня ударил другой человек, да так сильно, что остался шрам. – Смех уступил место задумчивости. – Давненько я об этом не вспоминал.
– Расскажешь, как все было?
– Расскажу. Ты что-нибудь слышал о голиардах?
– Ага, от учителя физкультуры в средней школе. Он учился на медицинском, но диплом так и не получил. По словам учителя, студенческие годы в компании голиардов были лучшими в его жизни. Мол, только благодаря голиардам он и почувствовал себя человеком. Его друзья сдали выпускные экзамены и стали врачами, он же ограничился преподаванием физкультуры.
– Знаешь что?
– Что?
– Иногда, слушая тебя, я словно возвращаюсь во времена твоего детства и изумляюсь тому, какой у тебя слог и кругозор.
Не зная, что ответить, я молча кивнул. Кивок всегда уместен, потому что собеседник вкладывает в него свой смысл. Выждав полминуты, я вернул разговор к прежней теме:
– Так что за история у твоего шрама?
Папа улыбнулся, глядя вдаль:
– Все произошло, когда твоя мама поступила на первый курс, а я перешел на четвертый. Говоря на жаргоне голиардов, я был четырехштампником.
– То есть?
– То есть в моей зачетке стояло четыре штампа, по одному за каждый начатый учебный год. Среди студентов попадались и такие, у кого в зачетке было целых десять штампов. Эти люди имели кучу задолженностей. Таких еще называют вечными студентами. Многие из них, подобно твоему физкультурнику, так никогда и не закончили учебу. Он правильно сказал, это была лучшая пора его жизни. А больше всего студенты вроде него любили начало учебного года.
– Почему?
– В первые недели учебы старшекурсники, особенно эти неучи с неудами, подкарауливали первокурсников, чтобы слегка поглумиться, и вымогали у них деньги на выпивку или что-нибудь еще. С юридической точки зрения голиарды нарушали сразу несколько законов. Делали они вот что: собирались группами по четыре-пять человек, подходили к первокурснику, окружали его и начинали издеваться. Насколько затянется и во что выльется этот диалог, зависело от того, что за голиарды в нем участвовали и как реагировал на их подначки свежеиспеченный студент.
– Никто не бунтовал?
– Как правило, нет. Кстати, в армии между новобранцами и солдатами второго года службы тоже происходит подобное. Новички напуганы и неприкаянны, не понимают, куда попали, не знают, как себя вести. Вот и первокурсники инстинктивно включаются в эту игру, которая в большинстве случаев действительно только игра, терпят шуточки или тумаки старших, откупаются от них, и на этом все заканчивается.
– И сколько раз за первые недели учебы студент мог угодить в такую переделку?
– Один, на этот счет действовало строгое правило. Студенту выдавали «пергамент» – так голиарды называли карточку, которая свидетельствовала о прохождении ритуала. Своего рода охранная грамота. Если тебя останавливала другая компания голиардов, ты предъявлял «пергамент», и тебя отпускали. Словом, это была вполне безобидная забава. Вскоре голиарды остывали и возвращались к излюбленным занятиям – вечеринкам, пирушкам и походам в казино, которые в те времена еще были легальными. – Конец фразы – тот, что касался казино, – прозвучал с несколько иной интонацией, чем все предыдущие слова отца. – А иногда дело принимало дурной оборот. В одних ситуациях первокурсники были не настроены терпеть эти мелкие, а порой и отнюдь не мелкие придирки, в других – голиарды попадались глупые, злые или просто перегибали палку. Сочетание этих двух факторов могло закончиться плачевно. Самая идиотская потеха голиардов заключалась в том, чтобы схватить первокурсника – особенно если он не хотел им подыгрывать – и окунуть его в фонтан. Учти, дело происходило в ноябре, так что было уже весьма нежарко.
– А как голиарды вели себя с девушками?
– Всякое бывало, но, как правило, к девушкам они относились мягче. Как правило.
– Так что же случилось, когда они подошли к маме?
Отец снова закурил, посмотрел куда-то вдаль и отрешенно повторил мои слова:
– Когда они подошли к маме…
Я вдруг осознал, что прежде мы ни разу не говорили с папой о них с мамой, да и с мамой я никогда по-настоящему не обсуждал папу. Тем временем он приступил к главной части своего рассказа.
В половине девятого утра отец шел по университетскому городку на занятия. Он заметил небольшое скопление студентов, услышал возбужденные голоса и предположил, что это голиарды проводят свой обычный ритуал. Они его никогда не интересовали, и папа уже хотел дальше пойти своей дорогой, как вдруг понял, что голиарды пристают не к парню, а к девушке.
Он приблизился и прислушался. Студентка настойчиво потребовала, чтобы голиарды ее отпустили, потому что она не желает участвовать в их забавах.
На это голиарды хором ответили, что девушка нарушает правило. Один из них, по-видимому главарь, рявкнул: «Если не заплатишь, тебе не поздоровится!» – и кивнул на фонтан. Студентка пригрозила позвать карабинеров, на что обидчики велели ей придержать язык – никто сроду не натравливал карабинеров на голиардов. Вокруг девушки образовывалась враждебно настроенная толпа – к голиардам подоспела подмога. Несчастная студентка сникла и была готова расплакаться.
– Вы что творите? – возмутился мой будущий отец.
– Это еще кто? – фыркнул один из голиардов.
– Тот, кому охота прослыть героем, – хмыкнул другой.
– Желаешь окунуться в фонтан вместо этой первокурсницы? – подначил третий.
– Вам не приходило в голову, что всему есть предел? А что-нибудь про уважительное отношение к женщинам вы слышали? – отозвался папа бесстрашно.
Самым крутым в компании голиардов был невысокий мускулистый парень с короткой стрижкой и выступающей нижней челюстью. Он числился на медицинском факультете и все никак не мог получить диплом. Этот вечный студент увлекался боксом и вообще любил раздавать затрещины, о чем мой отец узнал уже после стычки. Медик-голиард комплексовал из-за своей низкорослости, и потому ему нравилось ввязываться в драки с теми, кто выше его. Разочарованный незадавшейся академической карьерой, он частенько выпускал пар в схватках со смельчаками. Вызвав на бой моего папу, он мог убить одним выстрелом сразу двух зайцев и, вероятно, сам это чувствовал.
– Думаешь, раз ты в очках, я не дам тебе в морду? – сказал он отцу и сильно его толкнул.
– Может, и дашь, – ответил папа. – Но тогда и сам получишь.
Противник уставился на него с недоумением. Неужели тощий очкарик всерьез собрался его ударить? Ситуация усложнялась, и голиард решил ее упростить.
– Снимай очки, педик.
Отец снял очки. Опыта ссор и драк у него не было. Возможно, он решил, что хулиган сдастся или ограничится символической оплеухой.
Увы, его предположение не сбылось. Не успел папа убрать очки, как бесноватый голиард дважды ударил его в лицо – правой рукой в левый висок, а левой в правый.
Почему он так поступил? Наверное, потому что мог. Эта элементарная причина практически всегда лежит в основе насилия.
Удар правого кулака голиарда пришелся на папину левую надбровную кость, и та треснула. А когда трескается надбровная кость, начинается обильное кровотечение. Так произошло и в тот раз. Поднялся переполох, кто-то закричал, кто-то стал звать на помощь, большинство студентов разбежались. Из всего, что происходило дальше, когда окружающий мир вдруг утратил четкость (а такое бывает, если ты снял очки, а потом тебе заехали кулачищами в лицо), память отца сохранила только две детали.
Первая – брызги холодной воды из фонтана, приносимые порывами ветра. Колкие капли больно врезались в лицо и смешивались со струйками стекающей крови.
Вторая – мамины глаза.
– К моменту этого мордобоя ты уже был знаком с мамой?
– Нет, но много о ней слышал.
– В смысле?
– Она была красавицей. Была и остается по сей день. Этим и прославилась еще в те годы.
«Красавицей, говоришь? Почему же тогда ты от нее ушел?» – этот вопрос, не имевший, впрочем, особого смысла, загорелся и замигал в моей голове, будто неоновая вывеска. Про себя я уже не раз задавал его отцу.
– Но в той неразберихе я не сразу ее узнал, – продолжил он.
Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться к теме нашего разговора.
– А потом?
– Меня отвели в травмпункт. Кто именно меня туда провожал, не помню, может быть сотрудник университета, но мама тоже отправилась с нами и ждала, пока мне накладывали швы и давали лекарства. После этого мы с ней пошли попить кофе и покурить. Вот, собственно, и вся история нашего знакомства.
– Почему ты никогда не рассказывал ее мне?
Отец пожал плечами:
– Сам не знаю. Как-то к слову не приходилось.
– Сколько тебе было лет?
– Двадцать один.
– А маме?
– Восемнадцать.
– И с тех пор вы были вместе, пока… э-э, пока не разошлись?
На лице отца появилось странное выражение, губы тронула грустная улыбка.
– Нет. Через три года мы расстались.
12
Однажды после школы (дело происходило спустя пару лет после развода родителей) мне, как обычно, не хотелось садиться за уроки. Поэтому я решил приготовить бутерброд с тем, что найду в холодильнике, и устроить себе перерыв.
Строго говоря, в данной ситуации слово «перерыв» звучит неуместно. Перерыв устраивают, когда какая-то работа уже частично выполнена, а я еще даже не брался за учебники. Впрочем, должен сказать, языковые тонкости никогда не оказывали на меня большого влияния. Я и сейчас периодически устраиваю себе перерывы в работе задолго до того, как начинаю ее выполнять.
Свет в кухне не горел. Я включил его и обнаружил, что за столом, подперев голову руками и поставив локти на столешницу, сидит мама. На ней было пальто, сумка лежала рядом на полу. Похоже, мама уже собралась уходить, но вдруг ее что-то остановило, и она застыла в полумраке кухни, таком привычном и внезапно ставшем таким пугающим, в позе, в которой я никогда ее не видел, и с выражением глаз, которого я тоже никогда у нее не видел.
Глядя на маму, я забеспокоился. Мои ноги подкосились.
Мама медленно подняла голову и несколько секунд смотрела на меня, будто не узнавая. Затем вздрогнула и произнесла:
– Иди ко мне, сынок.
Я подошел, и она взяла меня за руку.
– Прости меня, прости меня, сыночек мой.
– Ты о чем, мама?
– Иногда мне кажется, что я никудышная мать, что я плохая мать. Прости меня.
Мне хотелось ответить: «Что за глупости! Вовсе ты не плохая мать! Ты не виновата в том, что папа ушел. Я в этом тоже не виноват. Ни ты, ни я в этом не виноваты. И вообще, нам и без него прекрасно живется».
Но я не сумел произнести эти слова вслух, как и во многих других случаях, когда должен был что-то сказать и не мог этого сделать. Мама заплакала, я тоже заплакал, стыдясь своей внезапно нахлынувшей немоты, молча обнял маму, ощутил кожей мягкую ворсистую поверхность ее красного пальто и вдохнул запах ее кожи, гладкой и сухой, точно старинный кристалл талька.
Мама встряхнулась, подняла руку и кончиками пальцев вытерла слезы с моего лица, а потом попросила, чтобы я не волновался, потому что у любого человека бывают минуты отчаяния.
Бывают и проходят, добавила она.
После чего встала, погладила меня, поцеловала в лоб, сказала, что опаздывает, и ушла.
13
Слушая воспоминания отца о временах их с мамой студенчества, я улавливал в его поведении некую двойственность. Он то испытывал явное облегчение и даже был счастлив, что у него наконец появилась возможность вести со мной этот откровенный разговор, то смущался и замыкался в себе. Я чувствовал, что он колеблется.
Когда, рассказав, что спустя три года после помолвки они с мамой расстались, отец в очередной раз погрузился в молчание, я с нажимом произнес:
– Мне хотелось бы услышать эту историю целиком.
Он взял салфетку и тщательно протер очки, которые были идеально чистыми.
– Мы обручились спустя несколько месяцев после происшествия у фонтана и прожили вместе около двух с половиной лет. Мне было двадцать четыре года, меня только-только приняли на должность ординарного ассистента, когда… скажем так, мы с твоей мамой расстались.
– Ординарный ассистент? Что это за должность?
– Сейчас ее уже упразднили. Иерархия была такова: если после получения диплома научный руководитель предлагал выпускнику продолжать деятельность на кафедре, этот выпускник становился ассистентом-волонтером. То есть он выполнял ту или иную работу, но ничего за это не получал. Дальше ассистенты-волонтеры участвовали в конкурсе на должность ординарного ассистента. Тот, кто побеждал в этом конкурсе, официально становился сотрудником университета, ему назначали оклад и давали преподавательскую нагрузку. Следующей ступенью иерархии была должность ординарного профессора.
– Именно в этой должности сейчас находитесь вы с мамой.
– Ну да.
– Стать ординарным ассистентом в двадцать четыре года было нормой для тех лет?
– Такое случалось не очень часто, но особой сенсации в этом не было.
– Когда ты стал профессором?
– В двадцать восемь.
– А это было нормой?
– Вообще-то нет. Как правило, звание профессора дают не раньше тридцати пяти – сорока лет.
– А почему вы с мамой решили расстаться – ну, в те времена, когда оба были еще студентами?
– Я не уверен, что говорить об этом – хорошая идея.
– Ты родился в тридцать втором году?
– Да. А при чем тут это?
– И расстались вы с мамой, когда тебе было двадцать четыре? То есть в пятьдесят шестом?
– Верно. К чему эти уточнения?
– Мы говорим о событиях почти тридцатилетней давности. Должно быть, случилось нечто ужасное, раз ты не уверен, что говорить об этом – хорошая идея. – Мне понравилось, как ловко я это сформулировал. С долей язвительности, но не выходя за рамки приличия. Получилось высказывание, достойное взрослого человека.
Отец кивнул и закурил еще одну сигарету. В этот миг я впервые в жизни заметил, что ногти и первые фаланги указательного и среднего пальцев его правой руки желтые от никотина.
– Ладно, на самом деле не совсем правильно говорить, что мы решили расстаться. Решение приняла твоя мама, а я лишь смирился с ним. Все произошло в одну из мартовских пятниц. Вечером мы собирались сходить в кино. До сих пор помню, что за фильм мы хотели посмотреть – «В последний раз, когда я видел Париж» с Элизабет Тейлор. Он снят по рассказу Фитцджеральда, который на тот момент был одним из моих любимых писателей. Я заехал за твоей мамой, но она неожиданно заявила, что хочет пройтись, потому что у нее есть ко мне разговор. – Папа невесело хмыкнул. – В общем, сынок, будь начеку, если твоя девушка или жена ни с того ни с сего изменит планы и предложит прогуляться и поговорить. Велика вероятность, что тебя ждет какой-то подвох. – Отец помолчал несколько секунд, по-видимому мысленно склоняя слово «подвох». – В том или ином виде, но подвох, – заключил он.
– И что мама тебе сказала?
– Несколько весьма избитых фраз. Но тогда я не знал, что они весьма избитые.
– Какие именно?
– Что ей нужно время подумать. Она заканчивала учебу, собиралась стажироваться за границей и хотела получить стипендию. Ей требовалось разобраться со своими чувствами, и она считала неправильным давать мне обещания, которые, возможно, не сумеет сдержать. В общем, все в таком духе.
– Это стало для тебя неожиданностью?
Еще один безрадостный смешок.
– Математикам, особенно молодым, свойственно не замечать таких мелочей, как изменчивость человеческой души. Иными словами – да, это стало для меня абсолютной неожиданностью.
– И что ты ответил?
– Хороший вопрос. Представляешь, я прекрасно помню, что мне сказала твоя мама, но собственный ответ начисто вылетел у меня из головы. Я был ужасно расстроен и ошарашен. По-моему, я попросил ее объясниться… A-а, точно: я брякнул, что ее решение кажется мне скоропалительным. Ну не идиот ли? Почему скоропалительным-то? Она ведь наверняка долго размышляла, прежде чем сказать мне об этом. Но в те времена такие нюансы были для меня тайной за семью печатями.
– А потом? Во второй раз?
Отец ответил не сразу. Он наморщил лоб, будто расплетая клубок спутанных нитей или спрашивая себя, стоит ли ворошить сейчас эту старую историю.
– Разве мама никогда не рассказывала тебе о нас?
Я помотал головой. Именно этого ответа он ожидал.
– Мы разошлись, потому что она так решила. Я остался один и с разбитым сердцем.
Если бы еще вчера кто-нибудь мне сказал, что папа использует в своей речи такие обороты, да к тому же в отношении самого себя, я ни за что в это не поверил бы.
– Впрочем… Я уже плохо помню, каково это – остаться с разбитым сердцем. У меня сохранились лишь отголоски воспоминаний о том, какую бурю эмоций я тогда испытал. То, что это была настоящая буря, я точно помню, потому что много раз повторял себе эту фразу, но описать, что тогда творилось у меня на душе, уже не могу. – Он резко умолк, словно подошел к краю пропасти. Потушил сигарету и погрузился в подавленное молчание.
Мне же теперь отчаянно захотелось узнать, что было дальше. Внезапно это показалось мне безотлагательным делом. Как вышло, что, расставшись молодыми, они с мамой снова сблизились, поженились, произвели на свет меня и спустя девять лет опять расстались, теперь уже окончательно? Что произошло? Кто принял это решение во второй раз? Я всегда считал, что инициатором развода был отец, но сегодня это и многие другие убеждения, на которых основывалось мое чувство самоидентичности, – кто я, почему моя жизнь сложилась так, а не иначе и кто в этом виноват – теряли связность, пошатывались и уступали место чему-то другому.
Небольшой шрам над папиной бровью и история его появления распахнули передо мной дверь в тускло освещенные потайные комнаты. Я был не в силах отвести взгляд от того, что находилось внутри.
– Пожалуйста, продолжай.
Отец в замешательстве провел рукой по лицу.
– Произошло столько всего, что рассказать тебе об этом здесь и сейчас я не успею. Впрочем, многие события были совершенно непримечательными.
– А через сколько лет вы встретились опять?
– Время от времени мы так или иначе встречались.
– А когда вы… ну, снова обручились?
Неестественно безучастным голосом отец ответил, что спустя несколько лет они с мамой опять стали проводить время вместе, а спустя несколько месяцев поженились. Рассказ прозвучал так линейно и плоско, что показался мне лишенным всякой сути.
Тут к нам подошел месье Доминик и спросил, все ли нам понравилось и не хотим ли мы еще бренди. Отец поблагодарил за вкусный ужин и добавил, что мы уже выпили достаточно. По-моему, он был рад, что нас прервали, словно это избавило его от необходимости продолжать неловкий разговор. Папа принялся о чем-то расспрашивать хозяина ресторана. Я в общих чертах понял, что они обсуждали.
Папа спросил месье Доминика, чем мы можем заняться после ужина, если не хотим спать. Месье Доминик понял его по-своему и уточнил, не желаем ли мы познакомиться с девушками? Кажется даже, в его реплике прозвучало слово putains, произнесенное с вопросительной интонацией. Хозяин заведения был немало удивлен. Отец улыбнулся и покачал головой. Нет-нет, в данный момент знакомства нас не интересуют. Нам бы найти место, где можно послушать музыку, или кинотеатр, открытый допоздна, или что-то в этом роде, потому что мы не хотим идти спать. Месье Доминик расцвел в ответной улыбке и затараторил так оживленно, что я мигом потерял нить их с папой беседы. Затем ресторатор достал блокнотик для записи заказов, что-то нацарапал печатными буквами, вырвал страничку и отдал ее папе.
Мы поднялись и пожали руку месье Доминику. На прощание он пригласил нас сюда следующим вечером – по крайней мере, я так понял.
– Что он там такое начиркал? – полюбопытствовал я, когда мы отошли на несколько десятков метров от ресторана и двинулись в сторону пристани.
– Адрес заведения, где играют джаз. Который сейчас час?
– Половина одиннадцатого.
– Он сказал, что играть там начинают не раньше полуночи. Давай прогуляемся по округе, а потом отправимся слушать джаз.