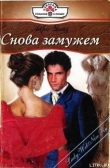Текст книги "Три часа ночи"
Автор книги: Джанрико Карофильо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
5
Центр «Сен-Поль», специализировавшийся на лечении эпилепсии, располагался в непримечательном на вид большом современном здании где-то на выезде из Марселя. Добрались мы туда на такси: папа сидел с одной стороны, мама с другой, а я посередине.
В отличие от больницы, куда меня привезли после приступа, в центре «Сен-Поль» все работало как надо и царила атмосфера спокойствия и деловитости. Казалось, это заведение находится в другом мире, а с учетом того, насколько новым оборудованием оно было оснащено, и в другой эпохе.
Нас встретил ассистент доктора Гасто, отвечавший за предварительное обследование. «Профессор примет вас, когда мы выполним все необходимые процедуры и заполним документы», – пояснил он моим родителям, которые бегло говорили по-французски. Поймав себя на мысли, что никогда не смогу так запросто общаться ни на одном языке, кроме итальянского, я невольно взгрустнул.
Чего только ни делали со мной на протяжении двух последующих дней! Память путается, образы накладываются один на другой: электроды на голове, кушетки, компьютеры, графики, рентгеновские снимки, всякие футуристические устройства, особенно то, на экране которого с бешеной скоростью мелькали цветные картинки, погружавшие меня в галлюциногенный бред.
До сих пор помню многих врачей, медсестер, а главное – детей и подростков. Кто-то из ребят носил шлем, кто-то сверкал щербатой улыбкой, а кто-то ходил весь в синяках или с перевязанной головой.
Это было тревожное зрелище. Мне рассказали, что при тяжелых формах эпилепсии припадки бывают частыми и сильными. Во время приступов больные теряют сознание, падают и получают различные травмы.
Глядя на других пациентов (а за три дня, проведенных в центре «Сен-Поль», я всякого насмотрелся), я испытывал два противоречивых, почти противоположных чувства. С одной стороны, мне наконец стало понятно, что я счастливчик и что все могло быть гораздо хуже. Ведь я лишь однажды упал в обморок и не обзавелся слегка пугающей беззубой улыбкой.
С другой стороны, я пытался понять, действительно ли мне ничто не угрожает, или же, наоборот, риск обострения велик и я вот-вот окажусь в этом адском кругу своих немощных и явно несчастных сверстников.
Настало время познакомиться с профессором Гасто.
Ровно в одиннадцать часов дверь его кабинета распахнулась, и мы вошли. Впервые увидев доктора Гасто, я отметил про себя, что он похож на киноактера Мишеля Пикколи.
Гасто производил впечатление веселого и по-гасконски решительного человека. У него была пышная борода с проседью, густые брови и живые темные глаза, в которых поочередно мелькали веселье и гнев.
Он пролистал мою медицинскую карту, задерживая внимание то на одном, то на другом документе. Неожиданно его брови удивленно приподнялись. Пробормотав что-то о газированных напитках, доктор продолжил чтение.
Наконец он взглянул на меня и улыбнулся:
– Антонио, скажи, а чем ты любишь заниматься? Может, у тебя талант к музыке, рисованию, чему-нибудь еще? – Он хорошо говорил на итальянском и искренне радовался, демонстрируя это умение.
Вопрос застал меня врасплох.
– Люблю рисовать, – ответил я секунд через десять.
– Нарисуешь мой портрет? Хотя бы эскиз.
– Э-э… хорошо, попробую.
Доктор вручил мне лист бумаги и два карандаша. Ощущая на себе изумленные взгляды родителей, я набросал его портрет.
Когда рисунок был закончен, я протянул его Гасто. Он посмотрел на мое произведение и одобрительно кивнул: то ли ему понравился рисунок, то ли он увидел в нем подтверждение какой-то своей догадки.
– Существует множество разновидностей эпилепсии, – приступил он к главной теме беседы. – Состояние Антонио нетяжелое, и, к счастью, прогноз благоприятный. Полагаю, спустя несколько лет терапию можно будет отменить.
Далее доктор объяснил, что медицинские заключения никогда не бывают стопроцентно точными, но мой случай внушает ему уверенность и оптимизм. Что конкретно явилось причиной патологии, установить не удалось, это действительно была классическая идиопатическая эпилепсия, которая, скорее всего, имела связь с родовой травмой. Что касается плана лечения, Гасто поправил и упростил его. Четыре разных препарата, которые я принимал ежедневно, заменили на один. Говоря о мерах предосторожности, доктор посоветовал избегать бокса, регби и греко-римской борьбы, но в остальном я был волен заниматься всем, чем захочу, в том числе футболом. На повторное обследование мне предписывалось явиться через три года, – если показатели будут в норме, в деле о моей болезни торжественно поставят точку.
Слушая доктора, мы с каждой секундой ощущали все большее облегчение. Родители выглядели как двое подсудимых, которым судья зачитал оправдательный приговор. Я, конечно, тоже воспрял духом. Тем не менее кое о чем Гасто умолчал, а мне хотелось получить ответы на все вопросы.
– Зачем вы попросили меня нарисовать ваш портрет? – полюбопытствовал я, когда до меня дошло, что доктор ждет этого вопроса.
Он хитро улыбнулся:
– Я долгие годы исследовал возможные связи между эпилепсией и талантом, особенно художественным, написал на эту тему ряд статей. Многие великие люди были эпилептиками.
– Кто был эпилептиком? – осведомился я, понимая, что впервые могу произнести это слово вслух.
– Вот лишь несколько имен: Аристотель, Паскаль, Эдгар Аллан По, Федор Достоевский, Георг Фридрих Гендель, Юлий Цезарь, Гюстав Флобер, Ги де Мопассан, Гектор Берлиоз, Исаак Ньютон, Мольер, Лев Толстой, Леонардо да Винчи, Людвиг ван Бетховен, Микеланджело, Сократ, Винсент Ван Гог.
Пораженный ответом доктора, я задумался.
Удивительно, насколько по-разному мы можем относиться к одному и тому же обстоятельству в зависимости от угла зрения.
С момента, когда у меня диагностировали эпилепсию, я воспринимал ее как клеймо неполноценности, позорный знак, который следовало скрывать. Едва доктор Гасто перечислил имена гениев, у которых, по-видимому, была та же болезнь, что и у меня, в моем внутреннем мире произошел переворот. Из-за эпилепсии я ощущал себя изгоем, из-за нее же стал чувствовать себя избранным, членом особой касты высших существ.
– Оставь на рисунке автограф, пожалуйста, – обратился ко мне Гасто почти официальным тоном.
Я выполнил просьбу, и это показалось мне естественным, словно я только что подписал договор с новой жизнью, которая начиналась у меня здесь и сейчас.
Доктор встал, пожал мне и родителям руки, повторяя, что мы расстаемся на три года, и проводил нас до порога.
– Кстати, Антонио, – произнес он, берясь за дверную ручку.
– Да?
– Ты можешь ее пить.
– Что?
– Газировку.
6
Благодаря тому, что лечение упростилось и диагноз доктора Гасто возвратил мне ощущение собственной нормальности, жизнь постепенно вернулась в обычный ритм.
Томительная депрессия, в которой я пребывал после выписки из больницы, понемногу сошла на нет. Я снова делал то же, что и прежде, в том числе играл в футбол и пил газировку. Другими словами, опять стал таким же, как мои сверстники, при этом в глубине души желая сильно отличаться от них. Впрочем, подобная шизофрения – вести себя как все и мечтать о том, чтобы быть непохожим ни на кого, – свойственна каждому подростку.
Кстати, интерес к чтению тоже вернулся.
Три года тянулись нестерпимо медленно, как некое вечное настоящее. Эта странная пора была скорее полна фантазий, нежели знаменательных свершений.
Вместо того, чтобы испытывать те или иные переживания, я их представлял. В волшебном будущем своей мечты я писал книги, рисовал комиксы, выпускал мультфильмы, герои которых становились популярными и любимыми, как у Диснея или «Марвел».
Я грезил о прекрасной жизни, состоявшей из путешествий по миру, приключений, романтических встреч с очаровательными девушками.
Существование в реальном мире протекало куда скучнее. Как бы мне ни хотелось утверждать, что моя юность была полна незабываемых событий, увы, я не могу этого сделать.
Самые трогательные воспоминания того периода связаны с мечтаниями, которым я предавался, и с ситуациями, в которых я им предавался – на прогулке, лежа в кровати и слушая музыку, сидя на школьном крыльце и так далее.
А вот с фактами было туговато.
Некоторое время я встречался с девушкой по имени Мара, моей ровесницей. Мы познакомились на вечеринке, раза два ходили вместе в кино, несколько недель гуляли, держась за руки, обменялись парой-тройкой поцелуев и крайне неуклюжих ласк в каких-то сырых коридорах. То был мой первый опыт сближения с девушкой (хотя, пожалуй, опыт – это громко сказано), и потому я храню память о нем. Через два месяца все кончилось, девственность мы не потеряли, впрочем, об этом и речи-то не шло.
Если не считать отношений с Марой, пусть неловких, зато настоящих, большую часть времени я предавался воображаемой любви. Так, я был влюблен в похожую на Софи Марсо девушку, которая меня не замечала, потому что встречалась с двадцатипятилетними мужчинами, разъезжавшими на авто с откидным верхом и рокочущих мотоциклах. Оглядываясь назад, я понимаю, что правильно поступил, не сказав той девушке о своих чувствах: допустим, она обратила бы на меня внимание, может быть, мы даже поговорили бы и я отважился бы прочесть стихи, которые сочинил для нее, а она высмеяла бы меня и я опозорился бы на всю жизнь.
Еще от тех времен у меня осталось воспоминание, больше похожее на предрассветный сон, тревожный и пугающе правдоподобный – о самоубийстве парня из параллельного класса. Мы с ним толком не были знакомы, но часто виделись в вестибюле, столовой и других школьных помещениях.
О том, что случилось, мне поведал одноклассник по пути домой из школы. Он завел этот разговор, когда мы шагали мимо химчистки-прачечной, от дверей которой исходил безошибочно узнаваемый запах пара, утюгов, марли и реагентов. С тех пор, стоит мне приблизиться к заведению такого рода, я тотчас вспоминаю о неуклюжем прыщавом парнишке, который однажды утром, в районе восьми часов, не пошел в школу, а вскарабкался на парапет своего балкона, расположенного на седьмом этаже, и сиганул на асфальт.
Услышав новость, я тотчас прикинул в уме, что седьмой этаж – это примерно двадцать один метр от земли, и невольно задумался: успевает ли человек, падая с такой высоты, осознать, что совершил, и понять, что мог бы поступить иначе? «Да, успевает», – сразу же ответил я себе. Однажды в бассейне я на спор прыгнул с десятиметрового трамплина. Пока летел в воду, в голове ярко промелькнуло сразу несколько мыслей. Скорее всего, мозг того паренька тоже работал на полную катушку до последней секунды, и это представлялось мне самым ужасным в его гибели.
Я принялся искать в памяти предвестники той трагедии. Думаю, мы все их искали, стремясь убедить себя, что он был не таким, как мы, и что случившееся с ним не может случиться с нами.
Но никаких предвестников я не обнаружил. При жизни Энрико (так звали погибшего, хотя, кажется, я никогда не обращался к нему по имени) выглядел таким же, как все остальные. Никому не удалось выяснить, что же сподвигло его выброситься с балкона, хотя предположения высказывались разные.
Если его душа и имела какой-то изъян, если в ней и гнездилась какая-то склонность к суициду, они были так надежно укрыты от посторонних глаз, что его никто не замечал прежде и не мог припомнить теперь.
Смерть Энрико стала первым искажением смысла жизни, с которым я столкнулся на своем веку. Это было подобно соприкосновению с хаосом, с чем-то настолько абсурдным и непостижимым, что разум зашел в тупик, пытаясь найти объяснение произошедшему.
По-видимому, желая спастись от этого головокружительного ощущения несообразности, отойти от края этой бездны, спустя два дня мы, будто по молчаливому соглашению, перестали говорить об Энрико.
Забыли о нем, словно его никогда не существовало.
Поверили, что его никогда не существовало.
В начальной школе я входил в число первых учеников класса. У меня были высокие оценки по всем предметам, особенно по рисованию и математике. «Будущего математика сразу видно – весь в отца!» – повторяла учительница. В те годы мне нравилась эта похвала, но когда я подрос, она стала меня раздражать, а потом и бесить.
Перейдя в среднюю школу, по определенным причинам я попал в разряд бесталанных учеников, и мне было в нем комфортно. Я особо не старался и делал лишь необходимый минимум, так что вскоре принадлежность к числу лидеров стала детским воспоминанием.
Как-то раз я встретил свою учительницу начальных классов. Мы давно не виделись, и она принялась расспрашивать меня, как дела в школе. «По математике у тебя наверняка по-прежнему лучшие оценки в классе», – заметила она. Я ответил, что математика меня не интересует, что я ненавижу примеры и формулы и планирую выбрать профессию, которая вообще не будет связана с вычислениями. Помню, как оторопело и уязвленно учительница посмотрела на меня, услышав такое. Еще отчетливо помню чувство уныния, вины и удрученности, охватившее меня после того, что я ей сказал, за то, как я это сказал, за клубок хрупкости и обиды, который я нащупал в своей душе, выпалив эти слова.
Три года тянулись необычайно долго, и я давно позабыл о недуге, что одолевал меня в прошлом. Поэтому, когда однажды отец сказал, что записал меня к профессору Гасто, я ощутил крайнее удивление и досаду. Был май, учебный год близился к концу, прием назначили на начало июня.
– Почему именно в июне? – буркнул я сердито.
Отец озадаченно уставился на меня. Он не понял, с какой стати я говорю таким тоном и в чем смысл моего вопроса. Папе было невдомек, что, принимая один и тот же препарат дважды в день (таблетку утром и таблетку вечером), я чувствовал себя полноценным человеком. Я жил нормальной жизнью, лекарство не причиняло мне хлопот и не имело побочных эффектов; принимать его было все равно что чистить зубы или выполнять какое-то другое рутинное дело, практически не осознавая этого. Можно сказать, я нашел баланс. Стоило ли его нарушать?
Я стер из памяти слово «эпилепсия» и сам факт, что я эпилептик, вытравил клеймо инвалидности и инаковости, которое ощущал на себе в период от выписки после первой госпитализации до визита к Гасто. Я не хотел возвращаться к этой теме. Не хотел снова бояться.
– А чем тебе не нравится июнь? – спросил папа, с недоуменным видом закуривая сигарету.
Я занервничал сильнее.
– Не успею я закончить учебу и сразу должен куда-то переться? Может, мне охота ходить на пляж, расслабляться, а вместо этого вы предлагаете ехать в Марсель?! Нельзя, что ли, отложить до осени или до зимы? Какого хрена?
Лицо отца перекосила гримаса недовольства. С годами иметь дело со своим единственным ребенком ему становилось все труднее. Набрав в грудь побольше воздуха, папа заговорил нарочито медленно:
– Выслушай меня, Антонио. Прощаясь, Гасто сказал, что ждет нас на контрольное обследование через три года. Срок истек еще в феврале. Кроме того, я выяснил, что скоро доктор уходит на пенсию и планирует вести частный прием вне клиники, а значит, оборудования и всего прочего в его распоряжении уже не будет. Мы обернемся туда и обратно за два дня. Понимаешь? Два дня – и отдыхай в свое удовольствие!
– Со мной и так все хорошо, зачем нам туда таскаться?
– Да, к счастью, с тобой все хорошо, но ты продолжаешь пить лекарство. Ты ведь не хочешь принимать его пожизненно? Это барбитурат, психотропное средство, а такие без крайней необходимости пить нежелательно.
Конечно же, он был прав. Я поискал отговорку, которая не прозвучала бы по-детски, но не нашел. Так что я молча развернулся и поплелся к себе.
Спустя пятнадцать дней мы полетели в Марсель.
7
Мама с нами не поехала. Она должна была отправиться во Флоренцию и выступить там с докладом на международном конгрессе. Мама сказала, что, если я хочу, вместо Флоренции она полетит с нами в Марсель, но я взрослым тоном ответил, что об этом не может быть и речи, ведь конгресс важен для нее и ей не следует отказываться от участия.
Произнеся эти слова, я тотчас почувствовал облегчение: одна мысль о том, что поездка пройдет по сценарию трехлетней давности, вызывала у меня удушье.
В Марсель мы прилетели вечером. На руках у нас уже была медицинская карта со всеми необходимыми документами: я сдал анализы и сделал электроэнцефалограмму накануне отъезда. На следующее утро мы планировали побывать на приеме у Гасто, а во второй половине дня вернуться домой.
Отель находился в современном, немного безликом здании, но был определенно более комфортабельным, чем тот, где мы останавливались в прошлый приезд. Он располагался недалеко от Ла-Канебьер, самой известной улицы Марселя, которая соединяет буржуазный район Реформ со Старым портом.
Занеся вещи в номер, мы пошли искать заведение, где можно поужинать.
Территория вблизи отеля навевала ассоциации с обычным французским и вообще европейским городом, то есть с местом, где мы могли чувствовать себя спокойно.
Вскоре мы обнаружили, что это впечатление обманчиво. По мере приближения к порту Марсель зримо преобразовывался в североафриканский мегаполис: проститутки и сутенеры на каждом углу, снующие туда-сюда стайки магрибских мальчишек с хищными глазами, под завязку забитые товарами лавчонки, заколоченные досками магазины, пахнущие специями и жареной картошкой рестораны, тенистые кафе, эротические кинотеатры с вызывающими афишами… По пути мы были вынуждены несколько раз обходить лежавших на земле людей или переступать через них – пьяных, обнюхавшихся или просто безнадежно отчаявшихся.
Мы с папой шагали молча, но в каждом из нас нарастало беспокойство. Было уже темно, ощущение неизвестности и опасности усиливалось. Мне хотелось предложить вернуться в отель, но я не осмеливался и не находил нужных слов, боясь, что папа обидится и решит, будто я не верю, что он способен вызволить нас из передряги, в которую мы рисковали угодить в любую минуту.
Подозреваю, в голове отца мелькали похожие мысли, но, как и я, он ничего не сказал. Папа закурил, украдкой поглядывая по сторонам – похоже, опасался, что его любопытство покажется кому-то навязчивым и это может привести к печальным последствиям.
Неожиданно за нашими спинами раздались крики. Обернувшись, мы увидели юркого щуплого юношу-магрибца, перебегавшего дорогу. За ним гнались двое полицейских. Один из них двигался устрашающе, будто игрок в регби, преследовавший противника. Если какой-нибудь прохожий оказывался у него на пути, офицер, не сбавляя скорости, отшвыривал того в сторону. Парнишка несся во все лопатки, но полицейский, несомненно, был превосходным бегуном и методично его догонял.
Сцена разворачивалась на наших глазах в собственном ритме и была исполнена первобытной красоты.
Заключительный этап погони проходил вдоль трамвайных путей, которые выглядели почти как легкоатлетическая дорожка. Наконец полицейский настиг беглеца, сбил его с ног и повалил наземь. Это случилось примерно в пятидесяти ярдах от нас, и я приблизился посмотреть, что будет дальше. Я отчетливо чувствовал, что отец хочет меня остановить, но сдерживается.
Белобрысый офицер, напоминавший скорее немца, чем француза, поднял парнишку с земли, швырнул его на закрытые металлические ставни какого-то магазинчика и принялся обыскивать. Почти сразу же он нашел в кармане магрибца что-то, чего я не мог различить, и жутко разозлился: сунув предмет в карман, полицейский стал выкрикивать непонятные слова и изо всех сил дубасить паренька. Когда второй офицер догнал своего коллегу, вокруг уже собиралась толпа темнокожих людей, глаза которых были полны страха и ненависти.
Полицейские лихорадочно затараторили, первый свел руки задержанного за спиной и защелкнул на них наручники, второй, лысый и костлявый, гаркнул на зевак, которых было уже человек пятнадцать, а то и больше.
– Что он сказал? – спросил я у папы.
– Проваливайте, пока целы.
Но они не двигались, и выражения их лиц становились все суровее. Кто-то что-то выкрикнул, кто-то плюнул в офицеров, которым явно сделалось не по себе. Затем лысый полицейский вытащил пистолет, направил его на собравшихся и снова гаркнул. В его свирепом голосе прозвучали истерические нотки. Люди сделали шаг назад, однако никто из них не убежал.
Мы были метрах в десяти от места стычки. Отец тронул меня за плечо и произнес:
– Идем.
– Подожди, – отозвался я.
Он не настаивал. Полицейский поднял пистолет в воздух и дважды выстрелил. Через несколько мгновений, словно отвечая на зов, завыли сирены. Толпа разлетелась как стая птиц.
Подкатили две машины, из них вышли люди в форме. Мигалки на крышах автомобилей продолжали работать, пульсируя, будто огни светомузыки на дискотеке.
Правонарушителя погрузили в одну из машин, и та, пронзительно вжикнув шинами, умчалась прочь.
Мы вернулись к отелю, зашли в первый попавшийся ресторан и сели за столик. Обслуживание оказалось плохим, еда никудышной. Я хотел обсудить то, что случилось на наших глазах, но понимал: у меня нет ни слов, ни повода заговорить с папой на эту тему.
Осознав собственную беспомощность, я вдруг почувствовал укол сожаления и сильное смущение, словно бы это непроизвольное движение души поставило под угрозу мое самоощущение и статус семейного бунтаря.
Мы легли спать. Я долго ворочался в постели, размышлял над произошедшим, представлял завтрашнюю встречу с доктором и слушал, как отец сопит во сне. Его дыхание напоминало шелест примятых листьев. Время от времени он бормотал что-то бессвязное.
Стоило мне с грустью заключить, что впереди бесконечная ночь, я тотчас заснул, и мои мысли о Гасто плавно перетекли в сновидение о Гасто.
В этом сне доктор держался со мной крайне строго и холодно. Вместе с моей мамой он восседал на диване, стоявшем вовсе не в его кабинете, а в комнате, какой я никогда не видел наяву. Пролистав документы, профессор Гасто объявил, что, к несчастью, все пошло не так, как он надеялся, и что, к несчастью, у меня оказалась отнюдь не легкая форма эпилепсии. Мне придется вернуться к исходному плану лечения, перестать пить газировку и играть в футбол – иными словами, о нормальной жизни я могу даже не мечтать. «А я ведь говорила, не надо тебе играть в футбол!» – горько вздохнула мама.
В следующую секунду я осознал, что папа тоже находится в этой комнате.
Он молча стоял поодаль и вызывал у меня необъяснимую нежность.