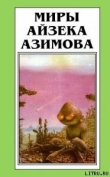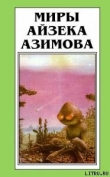Текст книги "Белый олеандр"
Автор книги: Джанет Фитч
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ты будешь красивее, – сказал он. Вытерев нос о рукав футболки, я улыбнулась.
Люди иногда застывали посреди рынка, глядя на мать. Не так, как смотрели на Старр, их поражала совершенная красота Ингрид. Их поражало, что она ходит на рынок и ест, как все. Обладание подобной красотой я даже представить себе не могла. Не осмеливалась. В этом было что-то сверхъестественное, пугающее.
– Не может быть.
– Может, может. Просто у тебя другой тип. Ты милашка. У твоей матери такой вид, будто она кусается, – я не против, грубость тоже заводит, но ты понимаешь, о чем я. К тебе будут липнуть, как мухи к меду. – Он так внимательно смотрел в мое поникшее лицо, так ласково меня утешал. – Слышишь? Ты будешь штабеля поклонников раздвигать, когда захочешь прогуляться.
Никто никогда не говорил мне такого. Даже если он просто врал, чтобы мне стало легче, – разве мое настроение хоть кого-нибудь сейчас волновало?
Рэй пролистал несколько страниц.
– Смотри, тут одно про тебя есть.
Я быстро перевернула лист, щеки вспыхнули. Я знала это стихотворение.
Шш-шшш,
Астрид спит.
Вот розовый родник безмолвных губ,
Нескладная нога свисает,
Как незаконченная фраза.
Созвездие веснушек, словно
Возможностей на жизненном пути.
Она ракушка каури, откуда
Мне слышен шепот нераскрытой женщины…
Мать читала его на выступлениях, а я сидела за своим столиком и рисовала, делая вид, что не слышу ее, что она описывает не меня, не мое тело, не мои нескладные детские ноги. Это стихотворение я терпеть не могла. Она что, думала, я не понимаю, о чем она говорит? Что мне все равно, кому она это читает? Нет, она думала, раз я ее дочь, то принадлежу ей и она может делать со мной все, что хочет. Превращать меня в стихотворение, выставить в его рамке мои куриные кости, мою ракушку каури, мою нераскрытую женщину.
– Что с ней случилось? – спросил дядя Рэй.
– Убила своего бойфренда, – сказала я, опустив глаза на ее фотографию. Этот профиль пронзал мне ребра, буравил внутренности, рвал правое легкое. С ресницы сорвалась слеза, упала на ее черно-белое лицо. Я размазала каплю по странице. – Она сейчас в тюрьме.
Рэй пожал плечами. Словно это было в порядке вещей. Хорошим не назовешь, конечно, но ничего особенного.
Восьмой класс я заканчивала в средней школе Маунт-Глисон, моей третьей школе в этом учебном году. Никого там не знала, ни с кем не хотела знакомиться. На ланч мы ходили с Дейви. Устраивали викторины с карточками, которые он сделал. Как называется детеныш хорька? Котенок. Сколько котят в помете? От шести до девяти. Созвездие Андромеда. Основная особенность? Большая туманность Андромеды. Самый интересный объект наблюдения? Двойная звезда Гамма Андромеды. Расстояние до Земли? Два миллиона световых лет. Аномалии? В отличие от других спиральных туманностей, которые с огромной скоростью удаляются от нас, Андромеда приближается к нам на триста километров каждую секунду.
Социальный работник часто посещал наш трейлер, сидел со Старр, стараясь принять выигрышную позу на крыльце под космами паучьей травы. Однажды он сказал, что мою мать перевели в женскую тюрьму рядом с Чино и после четверга к ней допускаются посетители. В тюрьме работает служба, организующая посещения родителей-заключенных их детьми, и скоро я поеду на свидание с ней.
Вспомнив ужас последнего свидания, я не знала, смогу ли снова это пережить. Что, если она до сих пор такая, похожая на зомби? Эта мысль была невыносима. И еще я боялась тюрьмы, решеток и рук, скользящих меж прутьями. Лязга их железных кружек. Как могла там жить моя мать, которая любила ставить белые цветы в хрупкую стеклянную вазу, которая часами могла спорить о значении поэзии Фроста?
Нет, я знала, как. Подавленно сидя в углу, вполголоса шепча стихи, обирая беспокойными пальцами катышки с одеяла – вот как. Получая без всякого повода удары от тюремщиков, от других заключенных. Она не умела пригибаться в нужный момент, держаться подальше от радара.
А что, если она просто не хотела видеть меня? Винила за то, что я не сумела помочь ей? Восемь месяцев прошло с того дня в тюрьме, когда она даже меня не узнала. Ночью я несколько раз собиралась отказаться от свидания. Но в пять уже была на ногах, вымылась под душем, оделась.
– Запомни, никаких джинсов, ничего синего, – твердила мне Старр накануне вечером. – Ты же хочешь, чтобы тебя выпустили обратно, или нет?
Напоминания были излишни. Я надела новое розовое платье, под него новый лифчик, туфли Дейзи Дак. Хотелось показать ей, что я взрослею и могу самостоятельно заботиться о себе.
Фургон приехал в семь. Пока Старр подписывала бумаги, водитель не сводил глаз с ее форм под купальным халатом. В салоне уже сидел мальчик. Я села напротив него, тоже у окна. До выезда из города мы забрали еще троих.
День был облачный, хмурый, мелкий июньский дождик оседал на ветровом стекле каплями-бисеринками. Не было видно ни перекрестков, ни эстакад, они вдруг появлялись в моросящей мгле и тут же исчезали, мир вокруг фургона словно создавался и уничтожался. Меня от этого стало укачивать. Я приоткрыла окно. Мы уехали уже далеко, вокруг тянулись бесконечные пригороды. Если бы можно было узнать, какой я ее увижу. Я даже представить себе не могла мать в тюрьме. Она не курила, не плевалась, не ковырялась в зубах. Не говорила «сука» или «гребаный». Она знала четыре языка, читала наизусть Т.С. Элиота и Дилана Томаса, пила «лапсанг сушонг»[15]15
Китайский черный чай из грубого крупного листа, «подкопченный» в дыму сосновых опилок, сосновой хвои и шишек.
[Закрыть] из полупрозрачной фарфоровой кружки. Даже в «Макдоналдсе» ни разу не была. Жила в Амстердаме и в Париже. Во Фрайбурге, на Мартинике. Что она могла делать в тюрьме?
В Чино мы свернули с автострады и направились на юг. Я старалась запомнить дорогу, чтобы сориентироваться, когда увижу ее во сне. Мы проехали престижные районы, потом не очень престижные, потом новостройки, чередующиеся со складами лесоматериалов и пунктами аренды сельскохозяйственной техники. Наконец совсем выехали из города и понеслись по дорогам без указателей. За окном промелькнуло лишь несколько маленьких молочных ферм, обдавая нас запахом навоза.
Справа показался комплекс каких-то зданий.
– Нам сюда? – спросила я девочку рядом со мной.
– Это ОДМ.
Я непонимающе помотала головой.
– Орган по делам молодежи.
Дети не отрывали от него мрачного взгляда, пока здания не исчезли из виду. Мы тоже могли бы оказаться здесь, за колючей проволокой. В гробовом молчании проехали мимо мужского отделения «Калифорния Инститьюшн», показавшегося в полях, в стороне от дороги. Потом мы свернули на покрытый свежим асфальтом проезд, мелькнул магазинчик с плакатом «Упаковка "Будвайзера" – $5.99». Я хотела запомнить все. Дети взялись за свои рюкзачки и сумки. Стало видно тюрьму – дымовая труба, водонапорная башня, вышка. Здание, обшитое алюминием, как трейлер Старр. Это было совсем не похоже на то, что я себе представляла. Мне мерещились сцены «Любителя птиц из Алькатраса» и «Я хочу жить!» с матерью вместо Сьюзен Хейуорд. Между невысокими кирпичными зданиями тюрьмы были большие лужайки, засаженные деревьями, с клумбами роз и зеленой газонной травой. Это напоминало бы скорее провинциальную школу, чем тюрьму, если бы не вышки с охранниками, не колючая проволока.
На деревьях хрипло орали вороны. Словно рвали что-то на части – не для еды, так, для развлечения. Мы вошли в будку охраны, назвали свои фамилии. Нас пропустили сквозь рамку металлоискателя, проверили сумки. У одной девочки отобрали пакет. Никаких передач, все только по почте. Посылки разрешаются четыре раза в год. Лязг тяжелой двери за спиной заставил нас вздрогнуть. Теперь мы были в тюрьме.
Мне велели сесть за оранжевый летний столик под деревом и ждать. Тошнота от поездки в фургоне еще не прошла, я сильно волновалась. Я не знала даже, смогу ли узнать ее. Было холодно, жалко, что свитер остался в трейлере. Что она скажет, увидев меня в лифчике и на каблуках?
За оградой дворика для свиданий толпились женщины. Заключенные, лица, словно маски. Они насмехались над нами. Одна присвистнула, показав на меня, чмокнула кончики пальцев. Ее товарки расхохотались. Они хохотали и хохотали, не могли остановиться. Этот смех был похож на хриплое карканье.
Матерей пропускали во дворик сквозь калитку с другой стороны. На них были джинсы, рубашки, серые свитера, спортивные костюмы. Моя мать ждала, когда женщина-охранник пропустит ее. Она была в прямом джинсовом платье с пуговицами спереди, но на ней синий цвет был ярким, живым, как песня. Светлые волосы были обкромсаны вокруг шеи каким-то бездарным парикмахером, но синие глаза стали чисты и пронзительны, как высокий скрипичный звук. Никогда она не была так прекрасна. Я встала и вдруг не смогла двинуться дальше, стояла, дрожа, пока она шла ко мне, обнимала, прижимала к себе.
Дотронуться до нее, обнять после стольких месяцев! Я прижалась к ее груди, она целовала меня, нюхала мои волосы. От нее больше не пахло фиалками, только стиральным порошком и джинсовой тканью. Мать подняла в ладонях мое лицо, целовала его, все целиком, вытирала мне слезы крепкими пальцами. Так же твердо усадила меня рядом с собой.
Я изголодалась по ее прикосновениям, движениям, звуку голоса, по квадратным передним зубам и чуть закругленным следующим, по ямочке на одной щеке, левой, по этой полуулыбке, по чудным синим глазам с белыми крапинками – как рождающиеся галактики в небе! – по неизменно твердым, совершенным линиям ее лица. В ее внешности не было ничего от заключенной, казалось, она только что свернула с улочки в Венисе, держа под мышкой книгу, и теперь собралась посидеть в кафе на берегу океана.
– Не плачь. Викинги не плачут, ты помнишь?
Я кивнула, но слезы опять застучали по оранжевому винилу столика. «Луи», нацарапал кто-то на нем. «18-я улица». «Сучка».
Женщина за забором дворика для свиданий свистела, выкрикивала что-то – обо мне или о матери. Мать подняла голову, женщина поймала ее взгляд, как удар в лицо. Замерла, словно замороженная, с незакрытым ртом, потом быстро отвернулась, делая вид, что кричала не она.
– Ты так прекрасна, – сказала я, трогая ее волосы, воротник платья, щеку – совсем не мягкую.
– Тюрьма по мне, – сказала она. – Здесь никто не лицемерит. Либо ты, либо тебя, и все это знают.
– Мне так тебя не хватает, – прошептала я. Она обняла меня, прижала ладонь мне ко лбу, уткнулась губами мне в висок.
– Я здесь не навсегда. Я достойна большего, чем сидения за решеткой. Обещаю тебе, что выберусь рано или поздно. Однажды ты взглянешь в окно и увидишь меня.
Ее твердое, полное решимости лицо, резкие скулы-лезвия, пронзительные глаза и правда вселяли веру.
– Я боялась, что ты будешь сердиться на меня. Мать отстранилась, взяв меня руками за плечи.
– Почему ты так решила?
Потому что я не сумела солгать и выгородить тебя. Вслух я этого не сказала.
Мать снова меня обняла. В этих крепких руках, в этих объятиях мне хотелось бы остаться навсегда. Можно ограбить банк, получить приговор, и мы будем вместе. Мне хотелось свернуться клубком у нее на коленях, раствориться в ее теле, стать ее ресницей, сосудиком у нее на бедре, родинкой на шее.
– Здесь очень плохо? Они издеваются над тобой?
– Не так сильно, как я над ними, – сказала мать, и я знала, что она улыбается, хотя видела только джинсовый рукав и запястье, на котором еще держался легкий загар. Пришлось чуть высвободиться, чтобы увидеть ее лицо. Да, она улыбалась, улыбалась своей полуулыбкой с запятыми в углах рта. Я потрогала их. Мать поцеловала мои пальцы.
– Меня записали на работу в конторе. Я сказала, что скорее буду мыть туалеты, чем печатать их бюрократическое дерьмо. О, они со мной не церемонятся. Я в артели разнорабочих. Мету полы, пропалываю грядки, только, конечно, здесь, за забором. Считается, что я не склонна к нарушениям режима. Представляешь? Я не собираюсь здесь учить неграмотных, вести поэтическую студию или как-то еще кормить эту машину. Служить я не буду. – Она зарылась носом в мои волосы, вдыхая их запах. – Твои волосы пахнут хлебом. Клевером и орехами. Я хочу запомнить тебя вот такой, в этом розовом платье цвета несбыточной надежды, в этих туфлях для школьного бала. Конечно, твоя приемная мать постаралась. Розовый цвет – клише из клише.
Я рассказала ей о Старр, о дяде Рэе, о других детях, о грязных велосипедах, о грабе и акации паловерде, об оттенках валунов в долине, о горах и о ястребах. Рассказала и о вирусе греха. Мне нравился звук ее смеха.
– Пришли мне рисунки, – сказала она. – Рисовала ты всегда лучше, чем писала. Видимо, поэтому ты не пишешь мне, ни о какой другой причине я даже думать не могу.
Так можно было писать?
– Ты тоже ни разу не написала.
– Ты не получала мои письма? – Ее улыбка исчезла, лицо стало плоским и серым, маскообразным, как у женщин за забором. – Дай мне свой адрес, я напишу прямо туда. Ты тоже пиши мне напрямую, не через социального работника. Это моя ошибка. О, мы приспособимся. – В ее глазах снова вспыхнули сила и ясность. – Мы хитрее их, та petite[16]16
Малышка (фр.).
[Закрыть].
Адрес трейлера Старр я не знала, но мать сказала мне свой, велела повторить его снова и снова, чтобы я не забыла. Память никак не хотела впитывать его. Ингрид Магнуссен, заключенная W99235, «Калифорния Инститьюшн», Корона-Фронтера.
– Пиши мне, где бы ты ни оказалась. Хотя бы раз в неделю. Или присылай рисунки – Бог свидетель, визуальная обстановка здесь оставляет желать лучшего. Особенно мне хотелось бы посмотреть на бывшую гологрудую танцовщицу и сурового столяра дядю Эрни[17]17
Дядя Эрни – похотливый тип, персонаж рок-оперы «Томми» группы «The Who» (1969).
[Закрыть].
Последняя ее фраза больно царапнула меня. Дядя Рэй был рядом, когда мне нужна была помощь. А она даже не знала его.
– Его зовут Рэй, он очень хороший.
– О-о-о, – сказала она, – держись подальше от дядюшки Рэя, особенно если он такой хороший.
Мать оставалась здесь, за забором, а я уходила туда, в большой чужой мир. Там у меня появился друг. Как она могла отнимать его у меня?
– Я все время о тебе думаю, – сказала мать. – Особенно по ночам. Представляю, где ты сейчас, как ты. Когда все спят, в тюрьме становится тихо, и я представляю тебя так ясно, что почти вижу. И пытаюсь общаться с тобой. Ты никогда не слышала мой голос, не чувствовала моего присутствия в комнате? – Она пропустила меж пальцами прядь моих волос, меряя их длину. Кончики доставали мне до локтя.
Да, я чувствовала ее. Слышала ее голос. «Астрид? Ты не спишь?»
– Да, поздно ночью. Ты всегда долго не могла заснуть.
Мать поцеловала меня в самую макушку.
– Ты тоже. Теперь расскажи мне о себе. Я хочу знать о тебе все.
Странная мысль. Раньше она никогда не хотела что-то узнать обо мне. Долгие дни, монотонность тюремной жизни вернули ее ко мне, к мысли о том, что где-то у нее есть дочь. На горизонте показался край солнца, и туман над землей засветился, как бумажный фонарь.
6
В следующее воскресенье я проспала. Если б не сон о матери, этого не случилось бы. Сон был чудесный. Мы были в Арле, шли по темной кипарисовой аллее вдоль могил с цветущими анемонами. Ей удалось бежать из тюрьмы – косила газон у забора и просто ушла, улучив минуту. Острые тени-копья на земле, медово-солнечный Арль, римские развалины, наше маленькое пособие. Если бы не мучительное желание продлить этот сон, еще раз увидеть подсолнухи Арля, я встала бы, когда мальчишки убегали на улицу.
Теперь я дремала на переднем сиденье «торино». Сзади охала Кэроли, – ночью она пробовала какие-то таблетки на вечеринке с друзьями и теперь мучилась головной болью. Старр застала нас обеих спящими. По радио пела Эмми Грант, Старр подпевала ей. Волосы у нее сегодня были собраны в «конский хвост», как у Бриджит Бардо, в ушах звенели длинные серьги. Вид у нее был такой, словно мы направлялись в бар на коктейль, а не в Истинную Ассамблею Христа.
– Как я все это ненавижу, – сказала мне на ухо приемная сестра, когда мы шли по церковному двору за ее матерью. – Честное слово, убила бы кого-нибудь за пару колес.
Ассамблея собиралась в блочном бетонном здании с линолеумным покрытием на полу и дымчатыми стеклами в окнах вместо цветных. Со стены в глаза бил огромный крест из светлого дерева, на органе играла женщина с пышной прической. Мы сели на белые складные стулья – слева Кэроли с мрачным лицом, справа у прохода Старр, светящаяся от восхищения.
Орган заиграл крещендо, и к кафедре подошел мужчина в темном костюме с галстуком, в начищенной обуви. Он напоминал скорее бизнесмена, чем священника. Я думала, преподобный Томас будет в мантии вроде тех, что студенты надевают на церемонию выпуска. Коротко стриженные каштановые волосы с аккуратным пробором блестели под цветными лампами, как целлофан. Старр села еще прямее, в надежде, что он заметит ее.
Когда он заговорил, я с удивлением заметила дефект его произношения. Он глотал «л» – вместо «любовь» получалась «йюбовь», «оживий» вместо «оживил».
– Мы были мертвы во грехе, но Он оживил нас, дал всем новую жизнь во Христе. Ранами Его мы исцелились, Распятием спаслись. Он возвысил нас до чистоты и святости жизни вечной. – Преподобный воодушевленно поднял руки. Он знал свое дело. Знал, когда лучше разбрасывать камни и когда собирать их, умел, сделав паузу, обрушиться на сомневающихся. У него были сверкающие глаза, приплюснутый нос и широкий безгубый рот, который делал его похожим на Маппета, голова у него как будто целиком открывалась и закрывалась при каждом слове. – Да, мы можем начать новую жизнь, даже когда умираем от… греховного вируса.
Кэроли слегка дернулась на стуле, нарочно заставив его скрипнуть. Старр шлепнула ее по руке, толкнула меня и показала на преподобного, словно в зале можно было смотреть еще хоть на что-то кроме него.
Преподобный Томас начал рассказ об одном молодом человеке. Он жил в шестидесятые годы, и сердце у него было доброе, но он считал, что волен делать по своему усмотрению что угодно, если это не причиняет вреда другим.
– Он познакомился с гуру, который научил его искать истину в себе самом. – Преподобный помолчал и улыбнулся, как будто мысль об истине в себе самом была нелепой и предосудительной, некой красной лампочкой, предупреждающей о беде. – Судите сами, в чем истина.
Преподобный опять улыбнулся, я заметила, – эта пауза с улыбкой всегда появлялись в его речи, когда он говорил о чем-то, не заслуживающем одобрения. Мне это напомнило человека, который клал пальцы собеседника на дверной косяк, а потом улыбался и разговаривал с ним, ударяя дверью по пальцам.
– О, тогда этот парень не был одинок в своем мировоззрении, – продолжал он, сверкая пуговичными глазами. – «Люди, обладайте» – таков был лозунг тех дней. «Если вы хотите чего-то, это вещь хорошая, потому что вы хотите обладать ею». Никто не думал о Боге, о смерти. Только о своем собственном удовольствии. – При слове «удовольствие» он улыбнулся – так, словно оно было крайне гадко, просто омерзительно, и ему было жаль слабых людей, которые им дорожили. – Если кто-нибудь говорил о сознании, об ответственности, его выставляли на посмешище: «Не выступай, парень. Не будь занудой». И наш молодой человек невольно заразился этим смертельным вирусом.
Он проник в его сердце, ослабил критическую работу разума, разрушил совесть. – Преподобный Томас, казалось, говорил это с большим удовлетворением. – Прошло не так много времени, и он уже не видел существенной разницы между добром и злом. Что могло получиться из этого парня? Неудивительно, что он стал убийцей, одним из «семьи» Мэнсона[18]18
Чарлз Мэнсон – основатель кружка сатанистов, так называемой «семьи», совершил вместе со своими «детьми» ряд жестоких убийств в 1960-е гг.
[Закрыть].
К этой минуте я уже полулежала на стуле, как Кэроли. Запах духов Старр и картавая речь преподобного вызывали тошноту и спазмы в желудке.
Но в тюрьме, к счастью, молодому человеку было откровение. Он понял, что стал жертвой свирепой эпидемии греховного вируса, и с помощью своего соседа-заключенного открыл для себя Бога, жизненно необходимую сыворотку Его Крови. Он стал проповедовать другим заключенным, давать безнадежным надежду. И хотя его в двадцать пять лет приговорили к пожизненному заключению, его жизнь не проходит впустую. В ней появился смысл – помогать другим, нести Благую Весть людям, которые никогда не задумывались ни над чем кроме своих собственных сиюминутных желаний. Он был спасен, он стал новым человеком, заново родился в Боге.
Мне было нетрудно представить «сына» Мэнсона в тюрьме – его злобную твердость, извращенные мысли, мысли убийцы. И вот что-то произошло с ним. В жизнь пришел свет, показавший ему ужасную правду о его преступлении. Я представила муку этого человека, когда он понял, каким чудовищем стал, понял, что он просто так, ни за что разрушил свою жизнь. Он мог совершить самоубийство, наверное, один шаг отделял преступника от этого. Но мелькнул луч надежды – на то, что жизнь может быть другой, что в ней может быть какой-то смысл, в конце концов. И он молился, и Дух Божий вошел в его сердце.
И сейчас, вместо того чтобы год за годом убивать время в «Сан-Квентин»[19]19
Тюрьма штата Калифорния.
[Закрыть] ходячим трупом, ненавидя себя и все на свете, он стал человеком, у которого есть цель, в котором светит свет. Я понимала это. И верила.
– Есть одно средство от этой эпидемии, от вируса, разрушающего нашу жизненную реальность, – говорил преподобный Томас, раскрыв руки, как для объятий. – Мощная вакцина против смертоносной инфекции, поразившей человеческое сердце. Но мы должны осознать, что находимся в опасности. Должны согласиться с печальным диагнозом, с тем, что, следуя нашим мимолетным желаниям вместо Божьего замысла, мы заражаемся этой ужасной чумой. Мы должны принять свою ответственность перед высшей силой, принять и понять собственную уязвимость.
Вдруг у меня перед глазами встала картина, которую я все эти месяцы старалась не вспоминать. Мой звонок Барри, когда я хотела предостеречь его, но повесила трубку. Сейчас я чувствовала в руке тяжесть этой трубки, которую клала на рычаг. Мою собственную ответственность. Инфекцию в моем сердце.
– Нам нужны Христовы антитела, чтобы справиться с болезнью наших душ. А те, кто выбрал угождать себе, а не Отцу Небесному, испытает на себе все гибельные последствия этого.
Это больше не казалось мне отвлеченной картинкой. То, о чем говорил преподобный Томас, было правдой. Я тоже заразилась. Я давно уже ношу в себе эту болезнь. У меня на руках кровь. Я думала о своей матери, прекрасной женщине, сидящей в тюремной камере, чья жизнь совсем остановилась. Как у того «сына» Мэнсона. Мать никогда не верила ни в кого, кроме себя, ни в Божественный закон, ни в моральные принципы. Она считает, что может судить все на свете, даже приговорить человека к смерти, просто потому что таково ее желание. Она даже не искала оправданий тому, кого карала. Совесть не мучила ее. «Служить я не буду». Так говорил Стефан Дедал в «Портрете художника», но это слова Сатаны. Вот в чем было Грехопадение. Сатана не захотел служить.
Пожилая женщина встала перед хором и запела: «Той Кровью, что Господь пролил, Он на Голгофе искупил…» У нее был хороший голос. Я плакала, слезы лились и лились. Мы с матерью умирали, разрушались изнутри. Если бы только у нас был Бог, Иисус, нечто большее, чем мы сами, во что можно было бы верить, мы исцелились бы. И у нас началась бы новая жизнь.
В июле меня крестили в Истинной Ассамблее Христа. Неважно, что это сделал преподобный Томас – каким лицемером он был, как заглядывал в вырез Старр, как обшаривал глазами ее фигуру, когда она поднималась по лестнице впереди него! Он погрузил меня в маленький квадратный бассейн за зданием Ассамблеи, я закрыла глаза, и хлорированная вода потекла в нос. Как мне было нужно, чтобы дух вошел в мое тело и очистил меня. Я хотела исполнить Божий замысел, Его план на мою жизнь, потому что знала уже, куда приведут мои собственные замыслы и планы.
Потом мы пошли в гриль-бар рядом с Ассамблеей отпраздновать это событие. Раньше никто не устраивал праздников в мою честь. Старр подарила мне Библию в белом переплете, некоторые стихи в ней были выделены красным курсивом. Кэроли и мальчики – набор цветной почтовой бумаги, в уголке каждого листка голубок нес в клюве ленточку с надписью «Хвалите Господа». Должно быть, Старр выбирала. Дядя Рэй подарил мне золотой крестик на цепочке, хотя считал, что крестятся только болваны.
– Ты что, всерьез веришь в эту чушь? – прошептал он мне на ухо, помогая надеть цепочку.
Я приподняла волосы, чтобы он ее застегнул, и тихо ответила:
– Мне же нужно во что-нибудь верить.
Теплые руки вокруг шеи, большие, тяжелые. Доброе некрасивое лицо рядом с моим, печальные карие глаза. Я вдруг поняла, что он хочет меня поцеловать. Почувствовала где-то внутри. Увидев, что я это чувствую, он покраснел и отвел глаза.
Дорогая Астрид!
ТЫ В СВОЕМ УМЕ? Как ты могла 1) креститься, 2) называть себя христианкой и 3) писать мне на этой нелепой бумаге? И не смей подписываться «возрожденная во Христе»! Ты что, не слышала, что Бог умер, умер сотни лет назад, сложил от скуки свои полномочия, решил поиграть в гольф. вместо всей этой ерунды! Я старалась воспитать в тебе чувство собственного достоинства, уважение к своей личности, а теперь ты сообщаешь мне, что променяла все это на разноцветную открытку с Иисусом? Я посмеялась бы, не будь это так отчаянно глупо и грустно.
Как ты посмела уговаривать меня считать Иисуса своим Спасителем, омыть мою душу в Крови этого Агнца? Далее не думай пытаться «спасти» меня. Я не стану искупать свои грехи. Я НИ В ЧЕМ НЕ РАСКАИВАЮСЬ. Любая женщина, если у нее есть хоть капля самоуважения, сделала бы то оке самое, если не больше.
Вопрос о природе добра и зла навсегда останется одной из самых захватывающих философских проблем, вместе с проблемой бытия как такового. Я оспариваю не столько твою точку зрения, сколько твой интеллектуально убогий подход. Если творить зло означает действовать согласно своим взглядам и желаниям, ставить себя в центр собственной вселенной и жить по своим собственным правилам, то любой художник, любой мыслитель, любой незаурядный человек: – само зло. Ведь мы дерзаем смотреть на мир собственными глазами, а не повторять прописные истины, доставшиеся людям от так называемых Отцов. Эта дерзость собственного взгляда и есть огонь, украденный у богов. В этом наше предназначение, это двигатель развития человечества как биологического вида.
Да здравствует Ева!
Твоя мать.
Я молилась за ее обращение и спасение. Она посягнула на человеческую жизнь, потому что ее унизили, помешали считать себя валькирией, безупречной воительницей, не знающей страха и слабости, хотя ее слабость была просто любовь. И она отомстила. «Легко судить других и оправдывать себя, – написала я ей. – Ты сделала это потому, что считала себя жертвой. Будь ты по-настоящему сильной, ты могла бы стерпеть унижение. Только Иисус может дать нам силы бороться с искушениями».
В ответ она прислала мне цитату из Мильтона, из речи Сатаны в «Потерянном рае»:
Дядя Рэй учил меня играть в шахматы по книге «Уроки Бобби Фишера». Сам он начал играть во Вьетнаме.
– Надо же было как-то убивать время, – сказал он, поглаживая острую шляпку белой пешки.
Эти шахматы он вырезал там, не спеша, – слонов в виде вьетнамских мандаринов или толстых Будд, коней со скульптурными шеями, причесанными гривами. Я даже представить не могла, как он сидел вот так месяцами и терпеливо вырезал их швейцарским ножом, когда вокруг рвались бомбы.
Мне нравился строгий порядок игры, холодный расчет вариантов, твердость каждого шага фигурок. Игра шла почти каждый вечер, когда Старр ходила на собрания анонимных алкоголиков, анонимных кокаинистов или в кружок изучения Библии, а ребята смотрели телевизор. Дядя Рэй клал на подлокотник кресла трубку с травой и курил, ожидая моего хода.
В тот вечер ребята смотрели передачу про животных. Оуэн, самый младший, сидел в обнимку с плюшевым жирафом и грыз ногти, а Питер снова и снова накручивал на палец прядь волос. Дейви объяснял им поведение животных.
– Это Смоки, альфа-самец. – В очках у него отражался свет от экрана.
Дядя Рэй ждал моего следующего хода, задумчиво глядя на меня. От этого взгляда мое сердце распускалось, как луноцвет, я чувствовала его тепло на лице, на шее, на распущенных волосах. Словно луч. На экране было белое поле, волки, охотящиеся парами, их странные желтые глаза. Рэй как будто проявлял фотоснимок, и мое изображение прорисовывалось под его взглядом.
– Ой, не надо! – вскрикнул Оуэн, вцепившись в жирафа, когда волки на экране схватили оленя за горло и повалили.
– Это закон природы, – сказал Дейви.
– Смотри. – Рэй показал на экран черным слоном, которым делал ход. – Если бы Бог спас оленя, волк умер бы с голоду. Как он может миловать одного за счет другого? – Он никак не мог смириться с тем, что я стала христианкой. – Хорошим людям фартит не больше, чем всем прочим. Будь ты хоть святым каким-нибудь долбаным, все равно можешь запросто подхватить лихорадку или наткнуться на «попрыгунью Бетти»[21]21
Противопехотная мина, содержащая два заряда, первый из которых выбрасывает вверх второй, разрывающийся примерно на уровне пояса.
[Закрыть].
– По крайней мере, тебе есть куда отступать, – сказала я, теребя крестик на шее. – У тебя будет карта и компас.
– А если Бога нет?
– Надо действовать так, словно Он есть, это тоже самое.
Рэй посасывал трубку, наполняя комнату едким дымом, пока я изучала положение на доске.
– А что твоя мать говорит по этому поводу?
– Она говорит: «Лучше царить в аду, чем прислуживать на небесах».
– Люблю таких женщин.
Я не стала ему говорить, что она называла его дядей Эрни. За перегородкой пел сверчок. Смахнув волосы с лица, я подвинула слона к его коню, угрожая съесть. Тепло его взгляда чувствовалось на моей голой руке, на плечах и губах. Его восхищение моей красотой и правда делало меня красивой. Никогда еще я не была красивой в чьих-то глазах. Вряд ли это против Христа, думала я. Любовь нужна каждому.
Во дворе послышался шум мотора «торино», скрип шин по гравию. Обычно Старр не возвращалась так рано. Я приуныла. Рэй обращал на меня внимание только когда Старр не было дома, а в ее присутствии я снова становилась лишь одной из детей. Что она будет делать дома так рано? Обычно она сидела на своих собраниях до одиннадцати, пила кофе с алкоголиками или обсуждала стихи из Иоанна с прихожанками Ассамблеи.
– Черт! – Дядя Рэй успел сунуть в карман трубку как раз когда распахнулась дверь и одновременно хлопнула электронная мухобойка.
На секунду Старр замерла в дверях, окинула взглядом нас с Рэем, ребят, заворожено глядящих на экран. Похоже, ей самой было странно так рано оказаться дома. Упали ключи, Старр нагнулась за ними, едва не выронив груди из выреза платья.