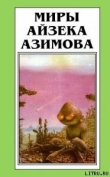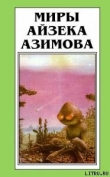Текст книги "Белый олеандр"
Автор книги: Джанет Фитч
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
3
– Мне надо побрить голову, – сказала мать. – Измазать лицо пеплом.
Глаза у нее стали совсем дикими. Вокруг них легли темные круги, тусклые сальные волосы повисли. Теперь она только лежала на кровати или смотрела на себя в зеркало.
– Как я могла лить слезы из-за мужчины, которому не должна была позволять даже пальцем до себя дотрагиваться?
На работу она не вернулась. Выходила из зашторенной квартиры только в бассейн, где часами смотрела на переливы света по голубому кафелю или плавала под водой кругами, как рыба в аквариуме. Пришло время опять идти в школу, но я не могла оставить ее одну в таком состоянии. К моему возвращению матери могло не оказаться в квартире. И мы обе сидели дома, съели все консервы, потом стали есть овсянку и рис.
– Что мне делать? – спросила я Майкла, кормившего меня сардинками и сыром за своим исцарапанным кофейным столиком. В теленовостях говорили о пожарах, охвативших Анджелес-Крест.
Майкл покачал головой сначала в мою сторону, потом повернулся к цепочке пожарных, окруживших холмы на экране.
– Милая, это всегда бывает, когда человек влюбляется. Ты наблюдаешь стихийное бедствие.
Я поклялась, что никогда не буду влюбляться. Пусть Барри умрет медленной и мучительной смертью за то, что он сделал с моей матерью.
Внизу над городом вставала луна, красная в отблесках огня, бушующего на севере и дальше, в Малибу. Стоял сезон пожаров, и мы были заперты в самом сердце горящего района. В бассейн летел пепел. Мы сидели на крыше, ветер нес нам в лицо запах гари.
– Вот это истрепанное сердце, – сказала она, запахиваясь в кимоно. – Вырвать бы его и зарыть в компост.
Я хотела дотронуться до нее, но она была недосягаема, как «Мисс Америка» в своей изоляционной будке. И не слышала меня сквозь стекло.
Мать согнулась пополам, прижав ладони к груди, выдавливая из нее воздух.
– Я сжимаю его внутри, – заговорила она. – Как Земля сжимает ком доисторических отходов в магме и дробит эту массу глубоко внизу. Я ненавижу его. Ненавижу. Я его ненавижу, – прошептала она – в последний раз, но с дикой яростью. – У меня внутри рождается драгоценный камень. Нет, это не мое сердце. Он твердый, холодный и чистый. Я обернула себя вокруг этой новой драгоценности и баюкаю ее в своем теле.
На следующее утро она встала. Приняла душ, сходила за продуктами. И я подумала, что дела идут на поправку. Она позвонила Марлен и спросила, можно ли ей вернуться на работу. Шла неделя доставки, и они очень нуждались в ней. Мать отвезла меня на уроки, в восьмой класс средней школы Ле Конт. Как ни в чем не бывало. И я решила, что с этим покончено.
С этим не было покончено. Она начала преследовать Барри точно так же, как он бегал за ней в самом начале их романа. Мать ходила повсюду, где могла застать его, просто охотилась за Барри, словно оттачивая свою ненависть каждым взглядом на него.
– Ненависть придает мне сил, – говорила она.
Мать ходила с Марлен обедать в его любимый ресторан, где они встречали его с тарелками у стойки, и мать улыбалась ему. Он делал вид, что не замечает ее, но все чаще трогал себя за подбородок.
– Щупает прыщи, которых там уже нет, – пояснила мать вечером. – Но мой взгляд может вернуть их обратно.
У нее был такой счастливый вид, я не знала, что хуже: этот восторг или намерение побрить голову.
Теперь мы ездили за покупками на рынок рядом с его домом, делая большой крюк, чтобы застать его у прилавка с канталупами. Часами бродили в его любимом музыкальном магазине. Ходили на презентации книг его друзей.
Однажды она пришла домой после трех ночи. Утром надо было в школу, но я не ложилась. У Майкла по кабельному каналу шел фильм о белом охотнике со Стюартом Грейнджером. Горячий ветер пробовал на прочность окно, словно квартирный вор. Майкл на кушетке уже отключился. Вернувшись домой, я заснула у нее на кровати и во сне шла по джунглям с корзиной фруктов на голове, только белого охотника нигде не было видно.
Мать села на край постели, сбросила туфли.
– Я нашла его. На вечеринке у Грейси Келлехер. Наши дорожки пересеклись у бассейна. – Она легла рядом и зашептала мне в ухо: – У него был небольшой тет-а-тет с толстой рыжей девицей в прозрачной блузке. Потом он встал и схватил меня за руку. – Она приподняла рукав и показала мне отметины на руке, горящие, красные. – «Ты что, следишь за мной?» – прошипел он. Я могла прямо там перерезать ему горло. «Мне не нужно следить за тобой, – сказала я. – Я читаю твои мысли. Знаю каждое твое движение. Твое будущее я тоже знаю, Барри, и оно не очень-то радужное». – «Оставь меня в покое, – сказал он. – Я хочу, чтобы ты оставила меня в покое». – «Еще бы. Конечно, хочешь». Даже в темноте было видно, как он покраснел. – «Тебе это не поможет, – сказал он. – Я тебя предупреждаю, Ингрид, со мной это не работает».
Мать рассмеялась, закинула руки за голову.
– Он не понимает. Это уже работает.
Раскаленный, пахнущий гарью субботний полдень, обожженное небо. В эти дни нельзя было даже пойти на пляж из-за красного ядовитого прилива, в эти дни город падал на колени, как древний Содом, моля о пощаде. Мы сидели в машине под большой цератонией, чуть поодаль от дома Барри. Мне очень не нравился взгляд, которым она смотрела на его дом. Это холодное спокойствие едва ли говорило о здравом рассудке, – мать напоминала ястреба, терпеливо караулящего добычу на расколотом молнией дереве. О том, чтобы убедить ее вернуться домой, и речи быть не могло. Она больше не понимала язык, на котором я говорила. Сорвав нежный побег цератонии, я потерла его в пальцах, вдохнула мускусный запах и представила, что жду своего отца, водопроводчика, проверяющего трубы в этом кирпичном домике с одуванчиками на газоне и лампой в окне с цветными стеклами.
Потом вышел Барри в шортах-бермудах, рубашке с надписью «Local Motion», стильных солнечных очках под Джона Леннона, с волосами, как всегда, стянутыми в хвост. Сел в старый золотистый «линкольн» и уехал.
– Пошли, – сказала мать. Надела пару белых хлопковых перчаток, в каких фотографы печатают свои снимки, и мне бросила пару. Я не хотела идти с ней, но еще меньше хотела оставаться в машине. И я пошла.
Мы пошли по тропинке к дому, словно хозяева, мать сунула руку в балийский «домик духов», стоявший у него на крыльце, и достала оттуда ключ. В доме Барри меня снова охватила тоска от того, что случилось, от неизбежного конца. Когда-то я думала, что могла бы даже жить здесь, в этих комнатах с куклами для театра теней, подушками, батиками, воздушными змеями, свисающими с потолка. Его статуи Шивы и Парвати в их вечных объятьях не раздражали меня раньше, когда я думала, что они с матерью тоже будут вот так, что это будет длиться вечно и создаст новую вселенную. А теперь я ненавидела эти статуи.
Мать включила его компьютер на огромном резном столе. Машина зажужжала. Она напечатала что-то в командной строке, и все рисунки на экране исчезли. Я понимала, почему она это делает. В эту минуту мне стало ясно, почему люди пишут гадости на стенах чистеньких домиков, царапают гвоздями краску на новых автомобилях, колотят воспитанных детей. Желание уничтожить то, что никогда не сможешь иметь, только естественно. Мать достала из сумочки магнит в форме подковы и провела им по всем его дискетам с надписью «Копия».
– Мне почти его жалко, – сказала она, выключая компьютер. – Но все-таки не настолько.
Она вынула свой модельный нож и вытащила из шкафа рубашку – его любимую, коричневую.
– Как это правильно, что он носит одежду цвета экскрементов.
Мать положила рубашку на постель и разрезала ее на узкие полоски. Воткнула в дырку для пуговицы цветок белого олеандра.
Кто-то отчаянно колотил в нашу дверь. Мать подняла голову от листка с незаконченным стихотворением. Теперь она постоянно писала.
– Думаешь, на винчестере было что-нибудь ценное? Может быть, сборник статей, которые надо сдать этой осенью?
Страшно было смотреть, как дверь прыгает на петлях. Я вспомнила красные отметины у матери на руках. Барри не был жесток и груб, но у всех есть предел. Ей не жить, если он ворвется.
Но мать, кажется, вовсе не тревожилась. Наоборот, чем сильнее он грохал в дверь, тем довольнее она становилась – розовели щеки, блестели глаза. Она заставила его прийти к себе. Мать вынула складной нож из банки с карандашами и раскрыла его у бедра. Слышно было, как Барри кричит и плачет, срывая свой бархатный голос в хриплый свист:
– Я убью тебя, слышишь, Ингрид! Помоги мне Бог!
Грохот смолк. Мать прислушивалась, прижимая нож к белому шелку платья. Вдруг он возник уже с другой стороны, барабаня в окна, было видно его искаженное ненавистью лицо, большое и страшное в олеандровых ветках. Я отпрянула, прижалась к стене, но мать продолжала стоять посреди комнаты, вспыхнув, как стог сена.
– Я тебя убью сию минуту! – кричал он.
– Как он бессилен в своем бешенстве. – Мать повернулась ко мне. – Просто немощен, можно сказать.
Барри разбил оконное стекло. Думаю, он сам не ожидал этого – колебания отражались у него на лице, – но потом, в приступе внезапной ярости, просунул руку в окно и стал нащупывать щеколду. Мать подошла – быстрее, чем я успела об этом подумать, – подняла руку с ножом и ударила его ладонь. Нож сложился, матери пришлось снова раскрывать его, но рука Барри рванулась назад сквозь дыру в окне.
– Сука проклятая! – кричал он.
Мне хотелось спрятаться, зажать уши, но я не могла оторвать от них взгляд. Вот чем кончаются любовь и страсть. В окнах соседних домов зажигался свет.
– Соседи звонят в полицию, – сказала мать в разбитое окно. – Лучше уходи.
Барри, пошатываясь, отошел от окна, и почти сразу мы услышали удар в дверь.
– Сука, дрянь! Ты просто так не отделаешься! Со мной это не пройдет!
Тогда она распахнула дверь, встала перед ним в своем белом кимоно, держа нож со следами его крови.
– Ты еще не знаешь, что я могу сделать, – мягко сказала она.
После той ночи она нигде не могла его найти, ни в «Вирджинз», ни в «Барни'з», ни на вечеринках, ни на клубных встречах. Замки Барри поменял. Пришлось открыть окно металлической линейкой для аппликаций. Теперь она положила олеандровую ветку в его жбан с молоком, другую – в устричный соус, еще одну – в домашний сыр. Проткнула веткой тюбик с зубной пастой. Сделала композицию из белых олеандров в вазе ручной работы на его кофейном столике, рассыпала цветы по его постели.
Я была измучена этим. Барри заслужил наказание, но сейчас она перешла какую-то границу. Это была уже не месть. Мать получила свое, она победила, но как будто не понимала этого. Ее несло за пределы всех мыслимых рассуждений и дальше, до следующей остановки, были целые световые годы пути через непроглядную тьму, ничего, кроме тьмы. Как любовно она раскладывала по одеялу белые цветы и темные листья…
В нашу квартиру пришел полицейский. Этот офицер, инспектор Рамирес, сообщил матери, что Барри обвиняет ее во взломе, проникновении в жилье и попытке отравить его. Мать была невозмутима.
– Барри очень зол на меня, – сказала она, стоя в дверях со скрещенными руками. – Недели две назад я прервала наши отношения, и он просто не может смириться с этим. Помешался на мне. Даже пытался вломиться к нам в квартиру. Вот моя дочь, Астрид, она может вам рассказать, что случилось.
Я пожала плечами. Мне это не нравилось. Дело становилось слишком серьезным. Мать продолжала без всякой паузы:
– Соседи даже звонили в полицию. У вас должна остаться запись этого вызова. И теперь он обвиняет меня во взломе? Бедняга, он не очень-то привлекателен и, наверно, сильно переживает из-за этого.
Месть ослепительно сверкала у нее внутри. Мне было ясно видно ее – драгоценный камень, сапфир цвета холодных озер Норвегии. О, инспектор Рамирес, говорили ее глаза, вы такой симпатичный мужчина, разве вы можете понять жалкого отчаявшегося уродца вроде Барри Колкера?
Как она хохотала, когда инспектор ушел.
В следующий раз мы увидели Барри на сувенирном рынке Роуз-Боул-Флеа, где он любил покупать для своих друзей аляповатые самодельные безделушки. Мать была в шляпе, бросавшей на лицо круглые пятна света. Увидев ее, Барри быстро отвернулся. Страх был написан у него на спине, как на доске объявлений, но, подумав, он повернулся обратно и с улыбкой пошел к нам.
– Смена тактики, – прошептала мать. – Вот он.
Он протянул ей «Оскара» из папье-маше.
– Лучшей актрисе года. Мои поздравления. Спектакль с Рамиресом прошел великолепно.
– Не знаю, о чем ты, – сказала мать. Она все крепче сжимала мне руку, но на ее спокойном лице играла безмятежная улыбка.
– Все ты знаешь. – Он сунул Оскара подмышку. – Но я не об этом. Может, нам зарыть топоры? Слушай, я и правда переборщил с полицейскими. Знаю, я вел себя как свинья, но ради всего святого – ты чуть не пустила коту под хвост лучшую годовую работу. У агента, слава богу, остались черновики, но тем не менее. Почему бы просто не объявить ничью?
Мать улыбнулась, переминаясь с ноги на ногу. Ждала, что он скажет, что будет делать.
– Я не могу не уважать тебя как человека, – продолжал Барри. – И как творческую личность. Все знают, что ты замечательный поэт. Я даже говорил о тебе в нескольких журналах. Может, нам стоит перевести отношения в следующую фазу и стать друзьями?
Мать прикусила губу, словно всерьез обдумывая его слова, но в то же время глубоко вонзив ноготь в центр моей ладони – я была уверена, что он пройдет насквозь.
– Конечно, стоит, – сказала она наконец своим низким звучным голосом. – Почему нет?
Они пожали друг другу руки. В глазах у Барри мелькнуло недоверие, но он с заметным облегчением вернулся к своей безвкусной охоте. Все-таки он совсем не знает ее, подумала я.
Вечером мы подъехали к его дому. На всех окнах были теперь решетки. Мать погладила новую бронированную дверь подушечками пальцев, словно это был мех.
– Я чувствую вкус его страха. У него вкус шампанского. Холодный, искрящийся, без малейшей сладости.
Она позвонила. Барри открыл внутреннюю дверь, посмотрел на нас в глазок. Растерянно улыбнулся. Ветер колыхал шелк ее платья, лунно-бледные волосы. В руках у матери была бутылка «рислинга».
– Видишь, мы друзья, в конце концов.
– Ингрид, я не могу тебя впустить, – сказал он.
Мать улыбнулась, провела пальцем, флиртуя, по прутьям дверной решетки.
– Разве с друзьями так обращаются?
Мы поехали на юг, в Тихуану. Но ни пиньята[9]9
Детский праздничный набор, подвешенный в глиняном горшке, который ребенок должен найти с завязанными глазами и разбить (исп. – pinata).
[Закрыть], ни цветы из гофрированной бумаги, ни серьги или кошельки не интересовали мать. Она не выпускала из рук клочок бумаги, сверялась с ним, и мы шли по узким улочкам мимо осликов, выкрашенных под зебр, мимо маленьких индианок, просивших милостыню с малышами на руках. Я давала им мелочь, пока она не кончилась, и жевала засохшую резинку, которую они мне протягивали. Мать не обращала на это внимания. Наконец мы нашли то, что она искала, – аптеку, точно такую же, как в Лос-Анджелесе, ярко освещенную, с фармацевтом в белом халате.
– Роr favor, tiene usted DMSO?[10]10
Скажите, пожалуйста, у вас есть ДМСО? (исп.)
[Закрыть] – спросила она.
– У вас артрит? – отозвался он на хорошем английском.
– Да, – сказала она. – В некотором роде. Мне сказали, у вас можно достать это средство.
– Какой объем вам нужен? – Он поставил на прилавок три бутылочки: одну размером с пузырек жидкой ванили, другую – с флакон жидкости для снятия лака, и третью – со склянку уксуса. Мать выбрала самую большую.
– Сколько?
– Восемьдесят долларов, мисс.
– Восемьдесят. – Мать колебалась. Восемьдесят долларов – еда на две недели, стоимость бензина для нашей машины на целых два месяца. Что могло стоить восемьдесят долларов и требовать поездки в Тихуану?
– Пойдем отсюда, – сказала я. – Пойдем в машину, просто покатаемся. Поедем в Ла-Пас.
Мать посмотрела на меня. Я видела, что застала ее врасплох, и продолжала говорить, надеясь вернуть нас на какую-нибудь знакомую планету.
– Можно успеть на первый утренний паром. Почему бы не попробовать? Отправиться в Халиско, Сан-Мигель-де-Альенде. Можно закрыть счета, перевести деньги на «Американ Экспресс» и ехать куда глаза глядят.
Как это было бы просто. Мать знала все бензозаправочные станции оттуда до Панамы, большие дешевые отели с высокими потолками и резными спинками кроватей – прямо за рыночными площадями. В три дня мы могли бы уехать за тысячу миль от этой бутылки несчастий, ящика Пандоры.
– Тебе же всегда там нравилось. Ты никогда не хотела возвращаться обратно в Штаты.
На секунду я поймала ее. Видно было, как она вспоминает годы, которые мы провели там, внизу, своих любовников, оттенки моря. Но мои заклинания оказались недостаточно сильны, я не умела так ловко сплетать слова, как она, мне не хватало мастерства, и теплые картины рассеялись, оставив прежний экран ее наваждения: Барри с блондинкой, Барри с рыжей девицей, Барри в купальном халате.
– Поздно, – сказала мать. Вытащила бумажник и отсчитала на прилавок четыре двадцатки.
Ночью она начала готовить какое-то странное блюдо, слишком странное, чтобы подобрать ему название. Опускала в кипящую воду олеандр, корни и белые цветы, выразительные, словно лица, похожие на маленькие граммофонные рупоры. Настаивала травы, собранные в лунном свете под соседской изгородью, вместе с мелкими цветами-сердечками. Потом дала отвару остыть; вся кухня густо пахла опавшими листьями. Мать выбросила несколько фунтов мокрой темно-зеленой массы в чужой мусорный бак. Со мной она больше не разговаривала. Только с луной на крыше.
– Что такое ДМСО? – спросила я Майкла однажды вечером, когда мать ушла. Он пил виски, настоящий «Джонни Уокер», празднуя получение новой работы в Музыкальном центре – ему дали роль в «Макбете». Хотя это вряд ли можно было назвать удачей. Скорее наоборот: все эти ведьмы и прочие персонажи, к тому же надо было называть «Макбет» шотландской пьесой. Майкл не очень усердствовал в поисках работы, он уже почти год ничего не делал, кроме чтения для «Книг в записи».
– Диметил сульфоксид. Им лечатся от артрита, – сказал он.
– Он ядовитый? – спросила я, стараясь говорить небрежно и перелистывая «Вэрайети».
– Совершенно безвредный.
Майкл поднял свой стакан и рассматривал янтарный напиток. Потом медленно отхлебнул, удовлетворенно закрыл глаза.
Такой хорошей новости я не ожидала.
– А как он действует?
– Помогает лекарствам впитываться через кожу. Входит в состав никотинового пластыря, пластыря от морской болезни. Лепишь его на кожу, и ДМСО проводит нужные вещества сквозь кожные поры в кровь. Потрясающее средство. Помню, в городе опасались, что хиппи смешают его с ЛСД и намажут дверные ручки в общественных местах. – Он усмехнулся в стакан. – Как будто кто-нибудь станет тратить свою кислоту на добропорядочных граждан.
Я искала бутылку с ДМСО. И нигде не могла найти. Посмотрела под раковиной на кухне и в ванной, заглянула в ящики – в нашей квартире не так много мест, где можно что-нибудь спрятать, и, кроме того, прятать вещи было не в привычках моей матери. Наконец я ее дождалась. Мать пришла поздно, с симпатичным молодым человеком, чьи темные кудри закрывали ему пол спины. Они держались за руки.
– Это Джизес, – сказала она, – он поэт. Моя дочь Астрид.
– Привет, – сказала я. – Мам, можно тебя на секунду?
– Тебе давно пора спать. Я сейчас вернусь. Она отпустила руку Джизеса, улыбнулась ему
и повела меня на балкон. Она опять была прекрасна – никаких кругов под глазами, волосы, словно потоки воды.
Я легла на матрас, мать накрыла меня простыней, погладила по лицу.
– Мам, куда делось то лекарство из Мексики? Она продолжала улыбаться, но ее глаза сказали мне все.
– Не делай этого.
Мать поцеловала меня, погладила холодной рукой – всегда холодной, несмотря на раскаленный ветер и пожары, а потом вышла.
На следующий день я набрала номер Барри.
– Тоннель любви, – пьяно хихикал в трубке девический голос. Его собственный, чуть хрипловатый, слышался на заднем плане. Потом он взял трубку:
– Алло?
Я хотела предостеречь его, но перед глазами вдруг встало лицо матери, когда она вышла от Барри в тот день. Ее сомнабулическое покачивание, темный квадрат рта. Да и что я могла ему сказать – ничего не трогайте, ничего не ешьте, будьте осторожны? Он и так подозревал ее. Если рассказать ему обо всем, ее могут арестовать. Я не хочу вредить матери. Барри Колкер со своими перекрученными шивами не стоит того. Он заслужил. Он сам это все начал.
– Алло, – повторил он. Девушка что-то пробормотала, глупо смеясь. – Ну и пошли вы, – сказал он и повесил трубку.
Перезванивать я не стала.
Мы сидели на крыше и смотрели на луну, красную и огромную в мутном от пепла воздухе. Лучи ее лились на город, разложенный внизу, словно доска Уиджа[11]11
Магический инструмент, доска для общения с духами
[Закрыть]. Хор греческих сирен окружил нас, и безумный низкий голос матери бормотал:
– Они нас не тронут. Мы же викинги. Мы ходим в бой без доспехов, чтобы лилась кровь и отвага согревала нас.
Она наклонилась и поцеловала меня в голову. От нее пахло металлом и дымом.
В лицо дул горячий ветер, дул, дул, дул не переставая.