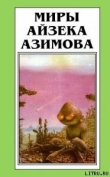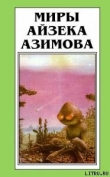Текст книги "Белый олеандр"
Автор книги: Джанет Фитч
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
4
Дни, которые настали потом, я едва ли смогу описать – подземный период. Птица, попавшая в сточный коллектор, в канализационную трубу, бьющая крыльями о потолок в этой темной сырости, слыша, как наверху грохочет город. Ее звали Потерянная. Ее звали Ничья Дочь.
Во сне я видела, как мать идет через каменные и кирпичные кварталы, через город после войны, и она слепая, глаза пустые и белые, словно камни. Вокруг нее высокие дома с треугольниками над окнами, заложенными кирпичом, охваченные пламенем. Слепые окна, ее слепые глаза, и все-таки она шла ко мне, неудержимая и безумная. Лицо у нее было расплавленным, чудовищно вязким. На щеках под глазами были две впадины, словно кто-то ткнул пальцами в податливую глину.
В те дни, тяжелые, как низкое серое небо, крылья мои были так неподъемны, так труден был мой подземный полет. Так много было лиц, губ, настойчиво требующих от меня рассказа, что я засыпала, измученная их движениями и голосами. «Просто скажи нам, что случилось». Что я могла сказать? Стоило мне открыть рот – оттуда валился камень. Ее бедные белые глаза. Те самые, где я искала тепла и ласки. Мне снилось белое молоко на улицах, стекло и молоко. Молоко текло вдоль тротуаров, по канавам и промоинам, капало сверху, как слезы. Я прижимала к лицу ее кимоно, ее запах фиалок и пепла. Терла шелк между пальцами.
В этом подземном доме было много детей, младенцев, подростков, эхо металось по большим комнатам, как в метро. Звуки железнодорожного крушения – плач, уговоры, – непрерывный телерепортаж. Удушливый запах кухни, нездоровой водянистой мочи, чистящего порошка с хвойной эссенцией. Женщина, распоряжавшаяся там, регулярно поднимала меня с постели, сажала вместе со всеми за стол перед тарелкой фасоли, мяса и зелени. Я послушно вставала, садилась, ела, потом возвращалась в постельный кокон и засыпала, сминая синтетическую простыню. Почти каждую ночь я просыпалась взмокшая от пота.
У девочки на соседней постели были припадки.
– Сколько денег идет на детей-инвалидов вроде вас! – сказала мне нянечка.
По коричневатым, чуть наклонным стенам комнаты плыли розы. Я их считала. Сорок по диагонали, девяносто две поперек. Плыли над шкафом с одеждой, профилями Иисуса, Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, – все смотрят налево, как лошади в стартовых воротцах, Иисус в аутсайде. Женщина, распоряжавшаяся там, миссис Кэмпбелл, была тощая и сморщенная, как изюмина, и носила пыльную желтую футболку. Лошади выстроились, напряглись, каждая у своей дверцы. Ее лошадь – номер семь, Гордость Медеи. У того дня была дыра в конце, мы все туда упали. Я водила по губам поясом от ее кимоно, снова и снова, целыми днями, пробуя на вкус то, что я потеряла.
День ее ареста возвращался ко мне с каждым сном, сны были тоннелями, разными путями, ведущими в одно и то же место. Стук в дверь. Было очень рано, еще темно. Еще стук, потом голоса, громыханье. Я успела вбежать в ее комнату, когда полисмены, полисмены в форме и в штатском, ворвались в квартиру. В дверях стоял управляющий с купальной шапочкой на голове. Мать выволокли из постели, голося, как собачья стая. Она кричала на них по-немецки, называла их фашистами и чернорубашечниками. «Schutztaffel! DurchIhre Verordnung, mein Fuhrer»[12]12
Охранные войска прибыли согласно вашему предписанию, мой фюрер (нем.). Schutzstaffel часто сокращается как SS.
[Закрыть]. Ее обнаженное тело, колебания тяжелых грудей, розовые рубцы на животе от смятой простыни. Это было невозможно, невероятно, как сфабрикованная фотография. Кто-то вырезал из другой картинки фигуры этих полисменов и вставил в изображение нашей квартиры. Они продолжали таращиться на нее, будто в похабный журнал. Ее тело было как лунный свет.
– Астрид, они не могут меня задержать, – сказала она. – Не волнуйся, через час я вернусь.
Так она сказала. Так она сказала мне.
Я сидела на кушетке у Майкла, спала и ждала, как ждут собаки, целый день, потом еще один. Прошла неделя, но матери не было. Она сказала, что вернется, но не возвращалась.
Когда за мной пришли, на сборы дали пятнадцать минут. Вещей у нас всегда было немного. Я взяла четыре ее книги, коробку с ее журналами, белое кимоно, карты таро и складной нож.
– Извини, – сказал Майкл. – Я бы тебя оставил, если б мог. Но ты знаешь, как это бывает.
Как это было. Как это было, когда земля под тобой раскрылась и поглотила тебя целиком, смыкаясь над головой, словно тебя вовсе не существовало. Как над похищенной Аидом Персефоной. Почва разверзлась, он вышел на поверхность и подхватил ее на черную колесницу. И они погружались все ниже, уходя под землю, в разверстую черноту, и земля сомкнулась над ее головой, словно ее вовсе не существовало.
Так я стала жить под землей, в доме снов, в доме синтетических простыней, кричащих младенцев и коричневых роз, кочующих по стенам, сорок по диагонали, девяносто две поперек. Три тысячи шестьсот восемьдесят коричневых роз.
Однажды меня привели посмотреть на мать сквозь стекло. С ней было что-то не так. Одета в оранжевый комбинезон, как механик в автосалоне, под веками белесая муть. Я сказала, что люблю ее, но мать меня не узнавала. Потом она снилась мне там, снова и снова, – ее невидящие глаза.
То было время открывающихся ртов, пляшущих губ, задающих один и тот же вопрос, говорящих одинаковые слова. «Просто скажи нам, что случилось». Я хотела помочь ей, но не знала как. Не могла найти слова, слов больше не было. В зале суда мать была в белой рубашке. Эта рубашка снилась мне, стояла перед глазами, когда я не спала. В этой рубашке мать сидела на скамье, у нее были пустые, белые кукольные глаза. Потом она вышла в этой белой рубашке. От тридцати пяти до пожизненного, сказал кто-то над ухом. Вернувшись в подземный дом, я считала розы и спала.
Когда не спала, я старалась вспомнить то, чему она меня учила. Мы жезлы. Мы подвешиваем своих богов на деревьях. Никогда не позволяй мужчине оставаться до утра. Помни, кто ты такая. Но я не могла вспомнить. Я – девочка-инвалид со ртом, полным камней, забытая на поле боя, застилающая кровать мятой синтетической простыней. Я та, кто присматривает за стиральной машиной, кто помогает нянечке донести белье в прачечную. Глядя, как оно крутится в барабане, я вдыхала его запах, он нравился мне – запах безопасности и покоя. И я спала, пока сон не переставал отличаться от яви, а явь ото сна. Иногда, лежа в комнате с розами, я смотрела, как девочка на соседней кровати делает английской булавкой шрамовые татуировки на своей тусклой серой коже. Она царапала кожу, рисуя на ней узоры и линии. Царапины заживали розовой припухшей сеткой, и она снова вскрывала их. Я долго смотрела, но наконец поняла. Ей хотелось показывать шрамы.
Мне снилось, как мать охотится за мной в выжженном городе, безжалостная, слепая. «Всю правду и ничего, кроме правды». Я хотела солгать, но слова покинули меня. Только она всегда говорила за нас обеих. Мать была богиней, роняющей золотые яблоки. Если бы им сейчас нагнуться за ними, мы успели бы убежать. Я совала руку в карман, но там был лишь мусор и сухие листья. У меня не было ничего, чтобы ее защитить, прикрыть ее обнаженное тело. Своим молчанием я осудила ее, я лишила оправдания нас обеих.
Однажды я проснулась оттого, что девочка с соседней кровати шарила по моим ящикам. Рассматривала книгу, листала страницы. Книгу моей матери. Моей тоненькой раздетой матери, беззащитной в своре чернорубашечников. Эта бесцеремонно хватала ее слова. Хватала и отбрасывала.
– Не трожь мои вещи, – сказала я.
Она изумленно уставилась на меня. Она думала, я немая, – мы уже несколько месяцев жили в этой комнате, и я не произнесла ни слова.
– Положи на место, – сказала я.
Она ухмыльнулась. Отвернула страницу, скомкала ее и рванула, глядя на меня, – что я сделаю? Слова матери в этой шершавой, шелушащейся на суставах руке. Что мне делать, что делать? Она взялась за другую страницу, рванула ее из книги и запихала в рот. Куски бумаги свисали с ее мокрых губ, с этой ухмылки.
Я бросилась на нее, сбила с ног. Села сверху, придавив ей спину коленями, приставив к шее темное лезвие материного ножа. Песня в висках, в шелестящем токе крови. Помни, кто ты такая.
Хотелось ударить ее ножом. Я уже чувствовала лезвие в ее теле, чувствовала, как оно входит в шею, в ямку у основания черепа, похожую на родник. Девчонка лежала тихо, ждала, что будет дальше. Я посмотрела на свою руку. Руку, умеющую держать нож, знающую, как вонзить его в шею слабоумной девчонки. Это не моя рука. Я не такая. Не такая.
– Выплюни, – прошептала я ей на ухо.
Она выплюнула кусочки, фыркая, как лошадь.
– Не трогай мои вещи, – сказала я. Она кивнула.
Я отпустила ее.
Она вернулась к себе на кровать и стала дальше колоть себя английской булавкой. Положив нож в карман, я собрала смятые страницы и вырванные куски.
На кухне сидели нянечка с бойфрендом, пили «Колт 45» и слушали радио. Шел какой-то спор. «Тебе этих денег и во сне не увидеть, лопух», – говорила нянечка. Меня они не заметили. Они никого из нас не замечали. Я взяла скотч и вернулась к себе.
Сложила разорванные страницы, вклеила их обратно в книгу. Это была ее первая книга, обложка цвета индиго с серебряным луноцветом, цветком в стиле модерн. Я провела пальцем по серебряным линиям, – извивы струйки дыма, бечевы кнута. Это был экземпляр для чтений с карандашными пометками на полях. «Пауза. Повышение тона». Я трогала страницы, которых касались ее руки, прижимала к губам мягкую плотную бумагу, уже старую, желтую, беззащитную, как кожа. Уткнувшись носом в разворот, я вдыхала запах всех ее чтений, запах сигарет без фильтра и кофеварки эспрессо, пляжей, аромалампы, выпущенных в ночь слов. Со страниц поднимался ее голос. Угол обложки заворачивался, как парус.
На обороте фотография. Мать в коротком платье с изящными широкими рукавами, длинная челка, острый взгляд. Как кошка, выглядывающая из-под кровати. Та прекрасная девушка была вселенной, носившей в себе слова, гудящие, как гонги, рассыпающиеся в отчаянной пляске, как трели флейты из человеческих костей. На этом снимке ничего еще не случилось. Здесь я была в безопасности – крошка с булавочную головку в ее правом яичнике, и мы были неразделимы.
Когда я стала говорить, меня отправили в школу. Прозвали Белянкой. Я была альбиносом, диковиной. У меня вовсе не было кожи. Просвечивало все, было видно, как бежит кровь. На каждом уроке я рисовала. Рисовала на тетрадных листах, на компьютерных карточках, соединяя точки в новые созвездия.
5
Социальные работники менялись, но по сути были все одинаковы. Вели меня в «Макдоналдс», открывали свои палки, задавали вопросы. «Макдоналдс.» меня пугал. Слишком много детей, плачущих, кричащих, прыгающих в ямах с разноцветными мячами. Мне было нечего сказать. На этот раз социальный работник оказался темноволосым мужчиной с короткой эспаньолкой, похожим на карточного валета пик. Квадратные, как лопаты, руки, печатка на мизинце.
Он нашел мне постоянное место. Когда я уезжала из дома на бульваре Креншоу, никто не попрощался. Только девчонка со шрамовыми татуировками стояла на крыльце и смотрела, как я уезжаю. В аллеях и скверах мелькали соцветия джакаранды, когда машина торопливыми стежками прошивала пыльные серо-белые улицы.
До моего нового дома мы ехали через четыре автострады. Свернули на улицу, поднимающуюся вверх, словно трап, – Тухунга, гласили указатели. Низенькие фермерские домики становились сначала все крупнее, потом все мельче, во дворах беспорядок. Тротуары исчезли. На крылечках, словно поганки, росли кучи старой мебели. Старая стиральная машина, ломаные стулья, белая курица, коза. Мы ехали уже не по городу. Машина поднялась на холм, и в полумиле от нас мы увидели каменистую долину, – дети на своих грязных велосипедах чертили следы-узоры на песке, поднимая хвосты белой пыли. На их фоне воздух, тяжело обволакивавший нас, казался безжизненным, вялым.
Машина остановилась в грязном дворе одного из домов, – вернее трейлера, но в нем было так много прикрепленных друг к другу частей, что его называли домом. Заброшенное цевочное колесо в зарослях журавельника. С горшков над широким крыльцом у входа в трейлер свисали космы паучьей травы. На крыльце сидели три мальчика и смотрели на нас. У одного в руках была банка с каким-то животным внутри. Старший поправил очки на носу и что-то сказал через плечо, обернувшись к двери. Вышедшая к нам женщина с пышным бюстом и полными ногами широко улыбалась, крупные белые зубы все наружу. Плоский у основания нос, как у боксера.
Ее звали Старр. В трейлере было темно. Она дала нам по банке сладкой колы, которую мы пили, пока они с социальным работником что-то обсуждали. Старр разговаривала, колыхаясь всем телом, запрокидывая голову назад при каждом всплеске смеха. Между ее грудей поблескивал маленький золотой крестик, и взгляд социального работника никак не мог избежать этой заветной впадины. Ни он, ни она даже не заметили, как я вышла.
Здесь не росли бахромчатые джакаранды, только олеандры и пальмы, опунции и большое перечное дерево. Покрывавшая землю пыль была розовато-бежевая, как песчаник, но небо было широко и спокойно, как безмятежное чело, чистого свинцово-синего цвета. Впервые за несколько месяцев мне на голову не давил потолок.
Старший мальчик, в очках, встал с крыльца.
– Мы идем ловить ящериц. Хочешь с нами? Ящериц ловили обувной коробкой, зарытой в песок. С каким терпением эти маленькие мальчики ждали – молча, замерев на солнце, – пока зеленая ящерица не заползет в ловушку. Тогда они дергали за нитку, и ловушка захлопывалась. Старший мальчик клал под коробку лист картона и переворачивал ее, средний хватал крошечное живое существо и клал в стеклянную банку.
– Что вы с ними делаете? – спросила я. Мальчик в очках удивленно посмотрел на меня.
– Изучаем, конечно.
В банке ящерица сперва рвалась наверх, потом почти не двигалась. В этой стеклянной камере можно было рассмотреть, как она прекрасна – каждую чешуйку, каждый ряд этих гравированных ноготков. Красота, вспыхнувшая благодаря лишению свободы. Над нами маячили горы, утяжеляя пейзаж своим торжественным присутствием. Я вдруг заметила – если пристально на них посмотреть, кажется, что вся эта мощная масса движется к тебе, таща по бокам зеленые пятна полыни. Дунул теплый бриз. Крикнула птица. Кусты чапараля пахнули острой горячей свежестью.
Спускаясь вниз по песку, я петляла между нагретых солнцем валунов. Приложила к одному из них щеку, представляя себя такой же невозмутимой, спокойной, равнодушной к тому, куда река вышвырнула меня во время последней бури. Рядом вдруг вырос старший мальчик.
– Берегись гремучих змей. Они любят нежиться на этих камнях.
Я отпрянула от валуна.
– Техасский гремучник – самая большая из американских змей, – сказал он. – Но они редко жалят выше лодыжки. Просто смотри, куда наступаешь, и не забирайся на камни. А если будешь забираться, смотри, куда кладешь руки. Или делай вот так. – Он поднял небольшой камень и постучал им в ближайший валун, словно в дверь. – Они уползут. Еще будь осторожна со скорпионами. Всегда проверяй туфли, прежде чем надеть, особенно на улице.
Внимательно глядя на этого тощего веснушчатого мальчика чуть младше меня, я старалась понять, зачем он меня путает. Но он, казалось, скорее хотел похвастаться своими знаниями, Я пошла дальше, рассматривая формы валунов, их голубые тени. Было такое чувство, словно они обитаемы, словно в них прячутся какие-то люди. Мальчик шел за мной.
– Кролик. – Он показал куда-то вниз, в пыль. Следы были едва различимы – два отпечатка
побольше, за ним один поменьше, потом еще один. Мальчик: улыбнулся, показав чуть скошенные назад зубы, – он сам чем-то напоминал кролика. Его легко было представить перед телевизором или в библиотеке, но он так же легко мог читать по бледной розоватой пыли, как другие дети читали комиксы, как моя мать читала по картам. Можно ли прочесть по этой пыли мою судьбу?
– Сколько ты всего замечаешь, – сказала я.
Он опять улыбнулся. Хотел, чтобы на него обратили внимание. Мальчик сказал мне, что его зовут Дейви, он родной сын Старр. Еще у нее есть дочь, Кэроли. Два других мальчика, Оуэн и Питер, были приемными, как я. Но и родные ее дети были в приемных семьях, когда Старр была на лечении.
Сколько же детей прошло через это? Сколько таких, вроде меня, болтающихся, как планктон в океане? Как же хрупки эти связи – между матерью и ребенком, между друзьями и членами семьи – связи, которые кажутся вечными. Все, все можно потерять, гораздо быстрее и проще, чем кажется.
Мы пошли дальше. Дейви потянул за ветку куста с ярко-желтыми цветами.
– Ракитник, семейство бобовых.
Из каньона дохнул ветер, деревья затрепетали зеленым и серым.
– Те, что с зеленой корой, – акации паловерде. А рядом с ними – американский граб.
Торжественный покой гор, белые бабочки. Свежий запах лаврового сумаха, который, рассказал мне Дейви, местные индейцы используют для ароматизации воздуха в хижинах. Заросли гигантского райграса, все еще зеленеющего, но уже потрескивающего, как огонь. В безоблачном небе кружили два ястреба и кричали.
Вечером, лежа в спальном мешке, пестревшем ковбоями, мустангами, лассо и шпорами, расстегнув молнию, чтобы стало попрохладнее, я смотрела на Кэроли. Шестнадцатилетняя девушка ростом с ее мать, хмурая, с надутыми губами, она торопливо застегивала блузку.
– Думает, меня можно учить жизни, – сказала Кэроли своему отражению. – Вот что ей взбрело в голову.
По другую сторону тонкой перегородки Старр со своим бойфрендом занимались любовью, – спинка кровати колотилась о доски. Никакой ночной магии, окутывавшей мою мать с ее молодым человеком, чей шепот напоминал перебор струн японской цитры в душистых сумерках.
– Господь всемогущий! – взвыла Старр.
Губы у Кэроли сложились в какую-то неопределенную улыбку, она завязывала шнурки, поставив ногу на кровать.
– Христианкам не положено говорить «Трахни меня, милый». По идее им вообще не положено этим заниматься, но у нее в крови греховный вирус. – Кэроли встала перед зеркалом, расстегнула на дюйм молнию блузки, открывая ложбинку между грудей. Потом протерла пальцем зубы.
Зазвенел звоночек велосипеда, и она распахнула оконную раму. Взобралась на комод, едва не опрокинув свою корзинку с косметикой.
– До встречи утром. Не закрывай окно.
Выбравшись из мешка, я смотрела, как она садится на грязный велосипед, как исчезает на широкой, залитой лунным светом дороге. Темная громада гор проступала на светлом фоне неба, телефонные столбы по обочинам сходились в той точке, где исчезла Кэроли. Я представила себе, что можно пойти по дороге до этой точки исчезновения и выйти, пройдя через нее, в какое-нибудь совершенно другое место.
– Без Иисуса мне бы давно не жить на свете, – сказала Старр, подрезая полуприцеп, оглушительно загудевший в отместку. – Это святая правда. У меня забрали детей, я готова была убивать на большой дороге.
Я сидела рядом с ней в ее «форде-торино», Кэроли горбилась на заднем сиденье, рассматривая ножной браслет, подарок бойфренда Деррика. Старр вела машину слишком быстро, превышая среднюю скорость на дороге, курила одну за другой «Бенсон энд Хеджес 100» и слушала христианское радио. Кроме этого, она успевала рассказывать о том, как была алкоголичкой и кокаинисткой, работала гологрудой официанткой в клубе под названием «Тропиканка».
Старр не была красива, как моя мать, но от нее трудно было оторвать взгляд. Раньше я никогда не видела женщины с такой фигурой. Такие были только на последних страницах «Лос-Анджелес уикли» – красотки, висящие на телефонной трубке. Из нее била неукротимая, ошеломляющая энергия. Старр никогда не переставала разговаривать, смеяться, поучать, курить. Интересно, какой она была под кокаином?
– Мне не терпится показать тебе преподобного Томаса. Ты уже приняла Христа как своего личного Спасителя?
Некоторое время я размышляла, не сказать ли ей, что мы вешаем наших богов на деревьях, но решила не говорить.
– Ну, значит, примешь. Боже, стоит тебе только услышать этого человека, и ты увидишь выход из греховной бездны.
Кэроли закурила «Мальборо», опустила оконное стекло.
– Вот брехливая задница. Как ты только умудряешься глотать это заученное дерьмо?
– «Верующий в Меня, даже если умрет, оживет» – не забывай об этом, мисси, – сказала Старр.
Она никогда не называла нас по именам, даже своих родных детей, только «мистер» или «мисси».
Старр везла нас в соседний город, Санлэнд, где был супермаркет «Кловестайм», – хотела купить мне новые вещи для моей новой жизни. Я никогда не бывала в таких магазинах, одежду мы с матерью покупали на развалах в Венисе. В «Кловестайм» яркие краски набросились на нас со всех сторон. «Розовый»! – кричали они под мерцающими флуоресцентными лампами. «Бирюзовый! Кислотный желтый!» Старр нагрузила меня одеждой и завела вместе с собой в примерочную, чтобы можно было продолжать разговор.
В кабинке она натянула на себя узкое полосатое мини-платье, разгладила его на ребрах, повернулась боком, оценить, как оно смотрится в профиль. Полоски увеличивали и подчеркивали ее грудь и ягодицы, как опарт[13]13
Неоавангардистский вариант абстрактного искусства, основанный на оптическом эффекте.
[Закрыть]. Я старалась не рассматривать Старр, но равнодушной остаться было трудно. Интересно, что сказал бы преподобный Томас, увидев ее в таком платье.
Нахмурившись, она стянула платье через голову и повесила обратно на вешалку. Оно все еще сохраняло форму ее фигуры. В маленькой примерочной такое тело было слишком большим испытанием для глаз. Ничего не оставалось, как смотреть в зеркало на нее, на ее груди, почти выпадающие из бюстгальтера. Крестик прятался между ними, будто змея меж камнями.
– Грех – это вирус, так говорит преподобный Томас. Он охватил всю страну, как триппер. Пока в стране есть триппер, от заражения никто не застрахован. И грех то же самое. У нас есть множество самооправданий. Например, какая разница, поднесу я сегодня к носу кокаин или нет? Что плохого в желании всегда наслаждаться? Кому это вредит? – Старр широко открыла глаза, и мне стал виден клей ее накладных ресниц. – Это вредит нам самим, и это вредит Христу. Потому что это заблуждение.
Последнюю фразу она произнесла мягко и ласково, как на занятиях в школе нянек. Я попробовала представить, каково работать в ночном клубе. Каково это – входить с голой грудью в комнату, полную мужчин.
… – Вирус сжигает тебя изнутри, и ты заражаешь все вокруг. О, подожди, вот ты услышишь преподобного Томаса! – Она примеряла розовое обтягивающее платье, тянула его вниз на бедрах. Опять нахмурилась: ей не нравилось, как оно сидит на спине. Платье так плотно обтягивало ее, что местами задиралось. – Тебе оно больше подойдет.
Она стремительно стащила платье и протянула его мне. От него пахло ее тяжелыми насыщенными духами – «Обсессион». Когда я разделась, она очень внимательно рассмотрела мое тело, словно решая, купить его или нет. У меня порвалось белье.
– Пора носить лифчик, мисси. Тринадцать лет, скажу я тебе. Мне первый лифчик купили в четвертом классе. Или ты хочешь, чтобы они свисали до колен к тридцати годам?
Тринадцать? Шок от этого известия заставил меня уронить с банкетки груду одежды. Я перебрала в памяти прошедший год. Суд над матерью, все эти вызовы и вопросы, лечение, социальные работники. Где-то между тем и другим мне исполнилось тринадцать лет. Я перешла эту границу во сне, и никто не разбудил меня, чтобы поставить штамп в паспорт. Тринадцать. Мысль была до того оглушительна, что я даже не спорила, когда Старр покупала мне розовое платье, чтобы ходить в церковь, два лифчика, «чтобы ничего не провисло до колен к тридцати годам», упаковку трусов и что-то еще.
Мы зашли в соседний «Пэйлесс»[14]14
Сеть обувных магазинов.
[Закрыть] за обувью. Старр сняла со стенда пару красных туфель на высоких каблуках, примерила без носков. Постояла, разглаживая шорты на бедрах, покачала головой, сделала гримасу и поставила их обратно.
– Ну и что, если я так думаю? Кому какое дело, если я выставляю сиськи перед носом у посторонних людей? Это мое дело и ничье больше.
– Мама, пожалуйста, замолчи, – прошептала Кэроли. – Люди смотрят.
Старр протянула мне пару розовых туфель на каблуках, в тон моему платью. Я надела их. Ноги у меня в них были как у Дейзи Дак, но Старр туфли понравились, и она всучила их мне.
– Она запросто могла бы походить в каких-нибудь дурацких спортивных тапочках или в чем-нибудь в этом роде, – сказала Кэроли. – Что ей нужно-то? У нее весь гардероб – двое трусов.
Я выбрала пару туристских ботинок, надеясь, что цена не очень высока. У Старр был огорченный вид, когда я показала их ей.
– Они не очень-то… симпатичные.
Но ведь змеи редко жалят выше лодыжки.
В воскресенье утром Кэроли поднялась рано. Я удивилась, – в субботу ее сон длился до полудня. Но сегодня она была на ногах уже в восемь, одетая, с рюкзачком на спине.
– Ты куда?
– Шутишь, что ли? – Она провела напоследок щеткой по своим рыжеватым волосам. – Я не собираюсь тратить день на разглагольствования Преподобного Нудилы о Крови Агнца. – Она бросила щетку на комод и вылетела из комнаты. – Сайонара!
Входная дверь хлопнула.
Я поняла намек Кэроли и притворилась больной. Старр сурово посмотрела на меня.
– В следующее воскресенье, мисси. – На ней была короткая белая юбка, персиковая блузка и туфли на четырехдюймовых шпильках. Меня обдало сильной струей «Обсессион». – И никаких отговорок.
– Только услышав, как «торино» Старр выехал на центральную дорогу, я отважилась одеться и выйти позавтракать. Хорошо было остаться одной. Мальчики играли где-то среди камней, слышались отдаленные звоночки велосипедов. Я как раз принялась за еду, когда бойфренд Старр вышел из спальни, босой, в одних джинсах, натягивая через голову майку. Грудь у него была худая, покрытая густыми завитками, светлыми с сединой, спутанные волосы еще не были собраны в хвост. Он побрел по коридору к ванной, слышен был звук струи в унитазе. Плеск, фырканье, журчание воды. Потом он пошел в большую комнату, взял сигарету из пачки, закурил. Один палец на державшей сигарету руке отсутствовал, на другом не хватало фаланги. Он улыбнулся, заметив, что я смотрю на эту руку.
– Видела, как столяр заказывает столик в ресторане? На троих, пожалуйста! – он поднял искалеченную кисть.
По крайней мере, не переживает по этому поводу. Бойфренд Старр почти нравился мне, хотя было неловко при мысли, что это он был причиной «господа всемогущего» из-за перегородки. Обычный мужчина – худое лицо, темные печальные глаза, длинные седеющие волосы. Мы должны были называть его дядя Рэй. Он открыл холодильник и достал пиво. «Шшш-шшт», – вздохнуло из-под пробки.
– Пропускаешь иисусово шоу? – Он не столько пил пиво, сколько просто лил его в горло.
– Вы тоже.
– Меня хоть стреляй, не пойду, – сказал он. – У меня простая теория: если и есть на свете бог, он такой козел, что никаких молитв не заслуживает. – Дядя Рэй громко рыгнул и улыбнулся.
Я никогда особо не задумывалась о Боге. Знала «Сумерки богов», знала Мировое Древо. Знала об Олимпе с его скандалами, об Ариадне и Вакхе, о Данае с золотым дождем. Знала Шиву, Парвати и Кали, Пеле, богиню вулкана, но о Христе мать запрещала даже упоминать. Она отказывалась ходить на школьные рождественские спектакли. Велела попросить, чтобы вместо меня играла другая девочка.
Единственное, что я ощущала как-то относящимся к Богу, было ясное синее небо и особая тишина, но разве такому молятся?
Дядя Рэй прислонился к двери и курил, глядя во двор на большое перечное дерево, на свой пикап. Прихлебывал пиво, которое держал в одной руке с сигаретой – довольно ловко для человека, лишенного двух пальцев. Прищурил глаза, выдыхая на улицу дым.
– Этот преподобный просто хочет ей вставить. Скоро он велит ей гнать меня, вот тогда-то я и возьмусь за свой тридцать восьмой и прочту ему парочку проповедей. А потом прольется немного Крови Агнца.
Я вылавливала из мюсли цукаты, раскладывала их на краю тарелки – малиновые полумесяцы, зеленые звездочки.
– Это же не грех, если вы поженитесь, – сказала я.
Думала, он не слышит меня, но он слышал.
– Я уже женат, – сказал он, глядя куда-то в сторону перечного дерева, ветки которого струились вниз, словно длинные волосы. – Давненько у меня этот вирус, – ухмыльнулся он через плечо.
Звездочки и полумесяцы падали с бортика в тарелку, и я отправляла их в рот.
– А где ваша жена?
– Понятия не имею. Года два-три уже ее не видел.
У него был такой невозмутимый вид, словно ему все равно, что кто-то живет на свете, нося его имя, часть его жизни в себе, а он даже не знает, где сейчас этот человек. Голова закружилась, словно при качке, когда хочется схватиться за что-то тяжелое и держаться за него. Вот она, жизнь, которую мне предстоит жить, – никто не связан друг с другом, люди цепляются за кого-то, как за камень в прибое, но их тут же смывает. И меня может смыть, пока я расту. Мать тоже может потерять меня из виду и через несколько лет на вопрос обо мне так же пожать плечами: «Года два-три уже ее не видела».
Стало больно, как от удара в живот. Можно уйти на годы и никогда больше не увидеться с ней. Вот так. Запросто. Люди теряют друг друга, ладони выскальзывают в толпе одна из другой. Я могу больше никогда не увидеть ее. Эти пустые глаза в сухом аквариуме, согнутая спина. Господи, как же я могла не думать об этом все эти месяцы? Мне нужна мать, нужно держаться за что-то, чтобы не смыло.
– Эй, ты чего? – дядя Рэй подошел ко мне и сел рядом за стол. Потушил сигарету о банку с пивом, взял меня за руку. – Не плачь, малыш. Что случилось? Скажи дяде Рэю.
Но я только вздрагивала от рыданий, острых, мучительных, как бритвенные порезы.
– По маме скучаешь?
Я кивнула. Словно две горячие руки сжимали мне горло, выдавливая из глаз соленую воду. Из носа текло. Рэй подвинул стул и обнял меня, протянул носовой платок. Я уткнулась лицом ему в грудь и расплакалась, слезы и сопли промочили футболку. Хорошо, когда тебя обнимают, когда крепко держат. Хорошо было вдыхать его запах – запах сигарет, потного тела, пива и свежей древесины, какой-то зелени.
Он держал меня, надежно и крепко, он не дал бы уплыть неизвестно куда. Разговаривал со мной, говорил, что никто меня не обидит, что я отличная девчонка, что все будет хорошо. Потом вытер мне щеки ладонью, поднял за подбородок мое лицо, отвел волосы с глаз.
– Ты здорово по ней скучаешь, а? Скажи-ка, она тоже симпатичная, как ты?
Глаза у него были такие грустные и добрые, что я даже чуть улыбнулась.
– У меня есть фотография. – Я бросилась к себе в комнату и принесла последнюю книжку матери, «Пыль». Бережно провела рукой по ее лицу на задней обложке, где был снимок с побережья Биг-Сюр. Огромные камни в прибое, прибитые к берегу бревна. Ее рыбацкий свитер, волосы, подхваченные ветром. Она была похожа на Лорелею, только что потопившую корабль. Одиссею пришлось бы опять привязывать себя к мачте.