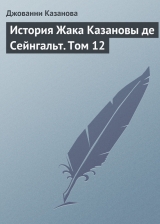
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 1"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Накануне Вознесения муж мадам Мандзони представил меня молодой куртизанке, которая была тогда в Венеции на слуху. Ее звали Кавамакчи, что означает красильщица, потому что ее отец работал красильщиком. Она хотела, чтобы ее звали Преати, потому что это была ее фамилия, а друзья называли ее Джульеттой, – именем, данным ей при крещении, и она была довольно миловидной, чтобы иметь право попасть в историю. Известность этой девушки происходила от того, что маркиз Санвитали, из Пармы, заплатил сто тысяч экю в качестве платы за ее благосклонность. В Венеции только и говорили о ее красоте. Те, кто мог прийти к ней поговорить, полагали себя счастливыми, а те, кто был допущен в ее компанию – очень счастливыми. Поскольку я несколько раз упомяну о ней в этих воспоминаниях, читателю будет интересно узнать в двух словах ее историю.
В году 1735, четырнадцати лет, Джульетта носила крашенное платье, позаимствованное у знатного венецианца по имени Марко Муаццо. Этот нобль, найдя ее очаровательной, несмотря на ее бедные наряды, зашел как то к ее отцу с очень известным адвокатом по имени Бастьен Учелли. Этот Учелли, удивленный более романтической и игривой натурой девушки, чем даже ее красотой и прекрасной фигурой, поселил ее в хорошо обставленной квартире, дал ей учителя музыки и сделал своей любовницей. Во время праздника Фуар он взял ее с собой на променаду Листон, где она удивила всех любителей. За шесть месяцев она стала достаточно музыкальной, чтобы получить ангажемент, и антрепренера, который взял ее в Вену, играть роль Кастрата в опере Метастазио. Адвокат решил ее оставить, передав богатому еврею, который, одарив ее бриллиантами, оставил ее тоже. В Вене ее прелести принесли ей аплодисменты, которых она не могла бы получить лишь за свой талант, который был ниже, чем посредственным. Толпе обожателей, поклонявшихся идолу и обновлявшихся от недели к неделе, положила предел ее величество Мария-Терезия, уничтожившая этот новый культ. Она приказала новому божеству покинуть пределы столицы Австрии. Граф Бонифацио Спада сопроводил ее в Венецию, откуда она уехала петь в Парму. Там она влюбилась в графа Жака Санвитали, но без результата, так как маркиза, не собираясь терпеть насмешек, влепила ей пощечину в своей собственной ложе при некоторых обстоятельствах, в которых виртуозка показалась ей дерзкой. Эта обида отвратила Джульетту от театра до такой степени, что она заявила, что покидает театр навсегда. Она вернулась на родину. Имея устойчивую репутацию позорно изгнанной из Вены, она не могла рассчитывать сделать карьеру. Это было клеймо. Когда хотели сказать плохо о певице или танцовщице, говорили, что она побывала в Вене, где ее презирали до такой степени, что императрица не сочла нужным ее даже преследовать.
Г-н Стефано Кверини из Папозо стал ее первым официальным любовником, а через три месяца – альфонсом, потом, весной 1740 года, маркиз де Санвитале объявил себя ее любовником. Он начал с того, что дал ей сто тысяч текущих дукатов [26] 26
разменная венецианская монета.
[Закрыть]Чтобы помешать разговорам в свете о том, что такая непомерная сумма объясняется его слабостью, он сказал, что этого едва хватило, чтобы загладить обиду от пощечины, которую его жена влепила виртуозке. Джульетта, однако, никогда не признавала этого и была права; отдавая должное героизму маркиза, она была бы опозорена. Пощечина затмила бы обаяние ее победы над светом, выдав ее истинную стоимость.
В следующем 1741 году г-н Мандзони представил меня этой Фрине как молодого аббата, начинающего делать себе имя. Она жила в Сан-Патерниано рядом с мостом, в доме, принадлежащем г-ну Пьяи. Я ее увидел в обществе шести – семи постоянных поклонников. Она небрежно восседала на софе рядом с Кверини. Ее личность меня удивила, она сказала мне тоном принцессы, глядя на меня, как если бы меня ей продавали, что она не прочь со мной познакомиться. Прежде, чем она предложила мне сесть, я, в свою очередь, огляделся вокруг. Комната была небольшая, но освещена не менее чем двадцатью свечами. Джульетта была красавицей высокого роста, восемнадцати лет, ослепительной белизны, с алыми щеками, красными губами; черные, изогнутые и очень близко посаженные брови показались мне искусственными. Два ряда прекрасных зубов скрадывали впечатление, что ее рот слишком велик. К тому же она старалась всегда улыбаться. Ее шея являла собой красивый и полный постамент, на котором искусно покоилась шаль, создавая впечатление, что за ней скрываются желанные яства, но мне так не показалось. Несмотря на кольца и браслеты, я заметил, что ее руки были слишком большие и слишком мясистые, и, несмотря на искусство, с которым она старалась не показывать своих ног, домашние туфли, видневшиеся из-под платья, поведали мне, что ноги были такие же крупные, как она сама: пропорция, неприятная не только для китайцев и испанцев, но и для всех ценителей. Хотят, чтобы высокая женщина имела маленькие ножки: таков был вкус г-на Олоферна, который иначе бы не счел очаровательной мадам Юдифь. И Sandalia eius, говорит Святое Писание, rapuerunt oculos eius [27] 27
И ее туфли приковали его взоры – кн. Юдифь
[Закрыть].
Вдумчиво рассматривая ее и сравнивая с сотней тысяч дукатов, что дал ей Пармезан, я сам удивился, что не дал бы и цехина, чтобы пройтись по всем ее другим красотам quas insternebat stola [28] 28
…что скрывают одежды – лат.
[Закрыть]. Через четверть часа после моего приезда журчание воды под веслами причалившей гондолы известило о прибытии расточительного маркиза. Мы встали и г-н Кверини, слегка покраснев, быстро покинул свое место. Приехавший г-н де Санвитали, скорее старый, чем молодой, занял место рядом с ней, но не на софе, что вынудило красавицу повернуться. Это привело к тому, что я смог увидеть ее анфас. Я нашел ее более красивой, чем в профиль. За те четыре или пять раз, что я наносил ей визиты, я нашел, и рассказал об этом на собраниях у г-на де Малипьеро, что она может понравиться только изощренным гурманам, потому что не обладает ни красотами простой природы, ни умом человека из общества, ни исключительным талантом, ни изящными манерами. Мое решение развлекло все собрание, но г-н Малипьеро шепнул мне на ухо, смеясь, что Джульетте, несомненно, будет сообщено о том, какой портрет я нарисовал, и она станет моим врагом. Он угадал.
Я находил в обращении этой знаменитой девицы нечто необычное, потому что она обращалась ко мне с разговором очень редко и смотрела на меня, только поднося к своим близоруким глазам вогнутую линзу или прищурившись, как если бы она не считала меня достойным ее глаз, чья красота была бесспорной. Они были голубые, прекрасного разреза, выпуклые, и несравненного сияния, которое природа придает порой молодости, и которое обычно исчезает после сорока лет, натворив чудес. У покойного короля Прусского оно сохранялось до самой смерти.
Джульетта узнала о портрете, который я нарисовал с нее у г-на Малипьеро. Болтливым оказался лизоблюд Ксавьер Кортантини. Она сказала в моем присутствии г-ну Мандзони, что большой знаток обнаружил у нее недостатки, делающие ее неприятной, но она не уточнила, какие. Я предполагал, что от нее последуют в мой адрес козни, и ожидал остракизма. Она заставила его ждать довольно долго. Он произошел во время беседы о концерте, который давал комедиант Имер, где блистала его дочь Тереза. Она внезапно спросила у меня, что г-н Малипьеро ей сделал хорошего; я ответил, что он дал ей образование.
– Возможно, ответила она, так как он очень умен, но я хотела бы знать, что делает он для вас.
– Все, что он может.
– Мне сказали, что он находит вас немного глупым.
Насмешники, разумеется, подхватили реплику. Не зная, что сказать, я не покраснел, но ушел через четверть часа, будучи уверен, что ноги моей больше у нее не будет. На другой день за обедом рассказ об этом разрыве весьма позабавил старого сенатора.
Я провел лето, плетя амуры с Анжелой в школе, где она училась вышивать. Ее скупость на милости злила меня, и моя любовь стала меня уже мучить. С моим сильным влечением, мне нужна была девушка в духе Беттины, которая утолила бы огонь любви, не гася его. Но я очень скоро отказался от этого легкомысленного вкуса. Будучи сам в некотором роде девственником, я питал самое высокое уважение к девичьей невинности. Я считал ее своего рода Палладиумом Кекропса. Я не желал замужних женщин. Какая глупость! Я был настолько глуп, что ревновал их к их мужьям. Анжела относилась к моим попыткам в высшей степени отрицательно, не будучи при этом кокеткой. Она меня засушивала, – я худел. Патетические и жалобные речи, приносимые мной к ее пяльцам, где она занималась вышивкой вместе с двумя своими подругами-сестрами, оказывали большее воздействие на них, чем на ее сердце, слишком рабски максималистское, и это отравляло меня. Если бы мои глаза были обращены не только на нее, я бы заметил, что эти две сестры обладали большей прелестью, чем она, но я был упорен… Она сказала, что готова стать моей женой, и она полагала, что я не мог желать большего. Она меня убивала, говоря, в знак величайшего расположения, что воздержание заставляет ее страдать больше, чем меня.
В начале осени пришло письмо от графини де Мон-Реаль, в котором она позвала меня с большой компанией во Фриули, в ее поместье, называемое Пасеан. Это должна была быть блестящая компания, с участием ее дочери, ставшей настоящей венецианской дамой, обладательницы ума, красоты и глаза, такого красивого, что он компенсировал наличие на другом ужасного бельма.
Погрузившись в Пасеан в веселье, я легко увеличил его, забыв на некоторое время жестокую Анжелу. Мне дали комнату на первом этаже, примыкающую к саду, я хорошо разместился и не беспокоился о том, с кем оказался соседом. На следующий день, проснувшись, я был приятно удивлен видом очаровательного объекта, который приблизился к моей кровати, чтобы предложить мне чашку кофе. Это была девочка, совсем молодая, но сформировавшаяся, как городские девушки в семнадцать лет: ей было только четырнадцать. С белой кожей, черными глазами и волосами, растрепанная и одетая только в рубашку и косо зашнурованную юбку, позволявшую видеть до половины голые ноги, она смотрела на меня с видом свободным и безмятежным, как будто я был ее старый знакомый. Она спросила, доволен ли я своей постелью.
– Да. Я уверен, что это вы мне постелили. Кто вы?
– Я Люси, дочь привратника, у меня нет ни брата, ни сестры, и мне четырнадцать лет. Я рада, что у вас нет слуги, потому что я сама буду прислуживать вам, и, я уверена, вы будете довольны. Очарованный этим началом, я сажусь, она протягивает мне мой халат, говоря сотни слов, которых я не понимаю. Я беру свой кофе несколько стесненно, пораженный ее красотой, к которой невозможно оставаться равнодушным, в то время как она держится непринужденно. Она сидела в ногах моей постели, оправдывая свою свободу поведения только смехом, который сказал все. Ее отец и мать вошли в комнату, когда я был еще с чашкой у рта. Люсия не двигается: она смотрит на них с важным видом, соответствующим занятой позиции. Они нежно ее бранят, прося ее извинить. Эти добрые люди говорят мне вежливые слова, и Люсия уходит по своим делам. Они нахваливают ее: это их единственное дитя, любимое, утешение их старости. Их Люсия послушна; она боится Бога, она здорова, как рыба; у нее только один недостаток.
– Что же это?
– Она слишком молода.
– Очаровательный недостаток.
Менее чем через час я убежден, что я разговариваю с самой порядочностью, правдивостью, с общественными добродетелями и подлинной честью. Но вот и Люси, которая идет, улыбающаяся, умытая, причесанная на свой манер, обутая, одетая, и, отвесив мне деревенский реверанс, целует свою мать, потом усаживается на колени к своему отцу; я предлагаю ей сесть на кровать, но она отвечает, что честь не позволяет ей этого, когда она одета.
Простой, невинный и очаровательный смысл этого ответа заставляет меня рассмеяться. Я спрашиваю себя, красивей ли она теперь или раньше, час назад, и решаю, что раньше. Я ставлю ее выше не только Анжелы, но и Беттины.
Является парикмахер, гордость семьи уходит, я одеваюсь, выхожу, и очень весело провожу день, как это бывает в деревне в избранной компании. На следующий день, едва рассвело, я звоню, и вот, Люси, которая снова появляется передо мной, такая же, как накануне, поразительная в своих рассуждениях и в своих манерах. Все в ней сияло под очаровательным покровом искренности и невинности. Я не мог понять, как, будучи скромной и честной, и вовсе не глупой, она не понимала, что она не может являться перед моими глазами в таком виде, не боясь разжечь во мне пламя. Должно быть, говорил я себе, она не придает значения некоторым вольностям, она не щепетильна. Придя к этой мысли, я решаюсь убедить ее, что буду поступать с ней по справедливости. Я не чувствую себя виноватым по отношению к ее родителям, потому что считаю их такими же беспечными, как она. Я тем более не боюсь первым смутить ее прекрасную невинность и заронить в ее душу мрачный свет зла. Не желая, наконец, ни стать жертвой чувств, ни поступать вопреки им, я хочу прояснить себе ситуацию. Я бесцеремонно тяну к ней дерзкую руку, и движением, показавшимся мне инстинктивным, она отодвигается, она краснеет, ее веселость исчезает, и она отворачивается, делая вид, что что-то ищет, сама не зная, что, пока не освобождается от своей обеспокоенности. Это происходит в одну минуту. Она придвигается снова, в ней остается только неловкость и страх, что мой поступок, который мог быть или был невинным или с добрыми намерениями, ею был неправильно истолкован. Она уже смеется. Я читаю в ее душе все то, что я только что написал, и спешу ее успокоить. Видя, что со своим поступком я слишком рискнул, я решаю для себя использовать утро, чтобы ее разговорить.
Выпив свой кофе, я прерываю заданный ею вопрос, говоря, что стало холодно, и что она может согреться, сев рядом со мной под одеяло.
– Я вам не помешаю?
– Нет, но я думаю, твоя мать может войти.
– Но она не подумает дурного.
– Но ты знаешь, чем мы рискуем.
– Конечно, ведь я не дура, но вы мудры и, более того, вы священник.
– Ну, садись, но прежде запри дверь.
– Нет, нет, потому что подумают, уж не знаю, что.
Она пересела на место, которое я ей освободил, рассказывая мне длинную историю, в которой я ничего не понял, потому что в этой позиции, не желая поддаваться зову природы, я оказался самым скованным из всех мужчин. Бесстрашие Люси, которое, конечно, не было притворным, привело к тому, что мне стало стыдно перед ней прояснять позицию. Наконец, она сказала, что уже пятнадцать часов [29] 29
десять часов утра по итальянскому старому счислению
[Закрыть]и пора звонить, и что если старый граф Антонио спустится вниз и увидит нас в таком положении, он станет говорить разные шутки, которые ей неприятны. Это человек, сказала она, при виде которого я убегаю. Я ухожу, потому что мне не хочется видеть вас выходящим из постели.
Я оставался на месте неподвижным более четверти часа, и был достоин жалости, потому что действительно находился в состоянии прострации. Размышления, которым я предавался назавтра, не приглашая ее в мою постель, окончательно убедили меня в том, что ее справедливо можно было бы назвать кумиром ее родителей, и что свобода ее духа и ее поведение без стеснительности происходят только от ее невинности и чистоты ее души. Ее наивность, ее живость, ее любопытство, то, как она часто краснеет, говоря мне вещи, заставляющие меня смеяться, и в которых она не видит подвоха, – все это заставило меня понять, что это сущий ангел, которому не избежать стать жертвой первого распутника, который на это решится. Я чувствовал совершенную уверенность, что это буду не я. Самая мысль об этом заставляла меня содрогнуться. Даже мое самолюбие гарантировало честь Люси ее почтенным родителям, которые оставляли ее мне, опираясь на свое доброе мнение о моей морали. Мне казалось, что я стал бы самым несчастным из людей, предав их доверие ко мне. Поэтому я выбрал участь страдать, и, будучи уверен, что всегда добьюсь победы, вознамерился бороться, счастливый уже тем, что само ее присутствие стало единственной наградой для моих желаний. Я еще не познал аксиому, что, пока борьба продолжается, победа не определена.
Я сказал ей, что она доставила бы мне удовольствие, придя пораньше и разбудив меня, даже если я сплю, потому что я лучше себя чувствую, когда меньше сплю. Таким образом, два часа беседы превратились в три, которые пролетели, как миг. Когда ее мать, которая ее искала, застала ее сидящей на моей постели, она ничего не сказала, любуясь добротой, с которой я ее терплю. Люси наградила ее сотней поцелуев. Эта слишком добрая женщина просила меня дать дочери уроки мудрости и развить ее ум. После ее ухода Люси не стала свободнее. Компания этого ангела заставляла меня испытывать муки ада. В постоянном искушении, переполнявшем меня, когда я целовал ее физиономию, пока она со смехом брала мою двумя пальцами, говоря мне, что хотела бы быть моей сестрой, я остерегался брать ее руки в свои: один лишь мой поцелуй взорвал бы все построение, потому что я чувствовал себя соломой, готовой воспламениться. Я удивлялся себе, одержав очередную победу, когда она выходила, но, не насытившись лаврами, мне не терпелось снова увидеть ее возвращение на следующий день, чтобы возобновить сладкую и опасную битву. Таковы были маленькие желаньица, которым предавался отважный молодой человек: его одолевали большие.
Через десять – двенадцать дней, сочтя, что необходимо это дело прекратить или стать злодеем, я решил прекратить, потому что неоткуда было ждать средств, необходимых для оплаты моего злодейства, при условии согласия объекта на то, чтобы я его совершил. Люсия становилась драконом, как только я ставил ее в положение, когда она должна была защищаться; при открытой двери комнаты я был бы выставлен на позор и печальное покаяние. Эта мысль меня пугала. Надо было кончать, и я не знал, как это сделать. Я не мог больше сопротивляться девушке, которая на рассвете, имея под рубахой только юбку, прибегала ко мне с радостью в душе, спрашивая меня, как я спал, и ловя слова с моих губ. Я убирал свою голову, а она, смеясь, упрекала меня за мой страх, поскольку своего у нее не было. Я отвечал ей, также смеясь, что она ошибается, если думает, что я боюсь ее, ту, которая не более чем ребенок. Она, смеясь, отвечала, что разница в два года ничего не значит.
Не имея возможности отважиться ни на что большее, и с каждым днем становясь все более влюбленным, в точности по способу школьников, благодаря которому, разряжаясь, моментально исчерпывают потенциал, но которым раздражают природу, возбуждая ее, и она мстит, удваивая усилия тирана, которого она укрощает, я провел всю ночь с призраком Люси, с печальными мыслями, с решением, что увижу ее утром в последний раз. Решение просить ее больше не приходить показалось мне превосходным, героическим, уникальным, безошибочным. Я думал, что Люси не только окажется готова к исполнению моего проекта, но что она сохранит обо мне глубочайшее уважение на всю оставшуюся жизнь. И вот, при первом свете дня, сияющая, лучезарная, смеющаяся, растрепанная, она входит ко мне с распростертыми объятиями, но вдруг становится грустной, потому что видит меня бледным, осунувшимся и удрученным.
– Что с вами? – говорит мне она.
– Я не мог спать.
– Почему?
– Потому что я решил сообщить вам проект, печальный для меня, но отвечающий всем вашим достоинствам.
– Если он согласуется с моими пожеланиями, он должен, наоборот, сделать вас веселым. Скажите мне, почему называя вчера меня на «ты», вы говорите со мной сегодня, как с барышней. Что я вам сделала? Господин аббат. Я сейчас принесу ваш кофе, и вы после этого скажете мне все. Мне не терпится вас услышать.
Она идет, она возвращается, я беру ее за руку, я серьезен, она говорит мне наивности, которые заставляют меня смеяться, она радуется; она все расставляет на свои места, она закрывает дверь, потому что дует, и, не желая пропустить ни слова из того, что я собираюсь ей сказать, она просит меня освободить ей немного места. Я делаю это без всякого опасения, потому что я чувствую себя как мертвец. Представив ей верный рассказ о том состоянии, в которое повергли меня ее прелести, и карах, которым я подвергся из-за того, что пытаюсь противостоять склонности представить ей ясные признаки моей нежности, я ей объясняю, что не могу больше терпеть муки, что причиняет ее присутствие моей влюбленной душе, и я вижу себя обязанным просить ее, чтобы она не появлялась больше мне на глаза. Вся правда о моей страсти, желание, чтобы она осознала, что выход, который я избрал, обусловлен самыми искренними усилиями истинной любви, придали мне возвышенное красноречие. Я нарисовал ей пагубные последствия, которые могут сделать нас несчастными, если мы будем действовать иначе, чем ее и моя добродетель заставили меня ей предложить. В конце моей проповеди, она вытерла мои слезы передом своей рубашки, не думая, что этим актом милосердия она выставила на показ перед моими глазами два утеса, сотворенных так, чтобы привести к кораблекрушению самого опытного кормчего. После минутной немой сцены, она говорит мне печальным тоном, что мои слезы ее удручают, и она никогда бы не решилась дать мне повод их проливать. Вся ваша речь, сказала она, показывает мне, что вы меня очень любите, но я не знаю, почему вы можете быть этим настолько встревожены, потому что ваша любовь доставляет мне бесконечное удовольствие. Вы изгоняете меня из вашего присутствия, потому что ваша любовь пугает вас. Что же вы сделаете, если вы возненавидите меня? Виновата ли я в том, что внушила вам любовь? Если это преступление, я вас уверяю, что не имела намерения его совершить, вы не можете, по совести, наказать меня за это. Тем не менее, правда, что я этому рада. Что же касается рисков, которые происходят из того, что мы любим друг друга, и которые я очень хорошо знаю, мы способны их избежать. Я удивлена, что хотя я невежественна, это не кажется мне трудным, а вы, кто, как все говорят, так умны, испытываете страх. Что меня удивляет, так это то, что любовь, а не болезнь, смогла сделать вас больным, в то время как на меня она действует совсем наоборот. Возможно ли, чтобы я была неправа, и то, что я чувствую к вам, – не любовь? Вы видели меня приходящей к вам такой веселой, потому что я мечтала о вас всю святую ночь, но это не помешало мне спать, за исключением того, что я просыпалась пять или шесть раз, чтобы понять, действительно ли вы были у меня в объятиях. Как только я видела, что этого не было, я снова засыпала, чтобы снова поймать свою мечту, и мне это удавалось. Не правда ли, что у меня была причина быть веселой этим утром? Мой дорогой аббат, если любовь для вас мучение, мне очень жаль. Возможно ли, чтобы вы были рождены не для любви? Я сделаю все, что вы мне прикажете, кроме одного, даже если от этого зависит ваше исцеление: я никогда не перестану любить вас. Если же, однако, чтобы излечиться, вам нужно не любить меня больше, в этом случае делайте все, что можете, потому что я люблю вас больше живого и не любящего, чем мертвого от любви. Посмотрите только, не можете ли вы найти другой выход, потому что тот, который вы предложили, заставит меня горевать. Подумайте. Может быть, этот выход не единственный, как вам это кажется. Предложите мне другой. Доверьтесь Люси.
Этот истинный дискурс, наивный, естественный, показал мне, насколько красноречие природы выше, чем доводы философского ума. Я в первый раз сжал в своих объятиях эту небесную деву, говоря ей: да, дорогая Люси, ты можешь пролить на пожирающее меня зло самый мощный успокаивающий бальзам; дай мне поцеловать тысячу раз твой язык, твой дивный рот, который говорит мне, что я счастлив.
Затем мы провели добрый час в наиболее красноречивом молчании, за исключением того, что Люси время от времени вскрикивала: – О, мой Бог! Правда ли, что это не сон? Я убеждал ее в обратном самым существенным образом, в особенности потому, что она не оказывала мне ни малейшего сопротивления. Это было мое грехопадение.
Я беспокоюсь, сказала она вдруг, мое сердце мне что-то говорит. Она вскакивает с постели, быстро приводит ее в порядок, и садится в ее ногах. Мгновение спустя входит ее мать и закрывает дверь, говоря, что я прав, потому что дует сильный ветер. Она похвалила меня за прекрасный цвет лица, сказав своей дочери пойти одеться, чтобы идти к мессе.
Она вернулась через час, чтобы сказать мне, что чудо, которое она сотворила, заставляет ее гордиться собой, потому что здоровье, которое, как видно, она мне вернула, в тысячу раз более подходит моей любви, чем жалкое состояние, в котором она нашла меня утром. Если твое полное счастье зависит только от меня, говорит она мне, пользуйся им. Я ни в чем тебе не откажу.
Потом она оставила меня, и, хотя мои чувства еще плавали в упоении, я не мог не подумать, что был на краю пропасти, и нужны большие усилия, чтобы помешать мне туда упасть.
Проведя весь сентябрь в этом имении, я одиннадцать ночей подряд провел в обладании Люси, держа ее в своих объятиях, поскольку она была уверена в добротном сне своей матери. Ненасытными нас сделало воздержание, по поводу которого она делала все, что могла, чтобы заставить меня от него отказаться. Она могла попробовать сладость запретного плода, лишь позволив мне его съесть. Она пыталась сто раз обмануть меня, говоря мне, что я его уже сорвал, но Беттина слишком хорошо меня научила, чтобы можно было это мне навязать. Я уехал из Пасеан в уверенности, что вернусь туда весной, но оставил ее в состоянии ума, которое должно было стать причиной несчастья. Несчастья, за которое я упрекал себя в Голландии, через двадцать лет, и буду упрекать себя, пока не умру.
Через три или четыре дня после возвращения в Венецию, я пересмотрел все свои привычки, снова став влюбленным в Анжелу и надеясь достичь с ней, по крайней мере, того же, чего я достиг с Люси. Опасение, что я не смогу найти теперь в своей натуре панического страха фатальных последствий для моей будущей жизни, мешало мне наслаждаться. Я не знаю, был ли я когда-либо совершенно честным человеком, но я знаю, что чувства, которые я испытывал в моей ранней юности, были гораздо более деликатны, чем те, к которым я привык, набравшись жизненного опыта. Злая философия слишком уменьшает количество того, что называется предрассудками.
Две сестры, которые работали на пяльцах вместе с Анжелой, были ее близкими подругами и делили с ней все секреты. После того, как я познакомился с ними, я узнал, что они осуждали чрезмерную суровость своей подруги. Будучи не настолько тщеславным, чтобы верить, что эти девушки, слушая мои жалобы, могли бы влюбиться в меня, я не только не опасался их, но доверил им мои горести, когда Анжелы не было. Я часто говорил с ними с жаром, намного превосходящим тот, что охватывал меня, когда я говорил с жестокой, которая его вызывала. Истинный влюбленный всегда боится, что объект его любви сочтет, что он любит преувеличивать, и страх сказать слишком много заставляет его говорить меньше, чем есть на самом деле.
Хозяйка этой школы, старая и благочестивая, которая сначала показала себя равнодушной к чувству дружбы, которое я демонстрировал по отношению к Анжеле, сочла, наконец, предосудительными мои частые посещения, и предупредила об этом кюре Тоселло, ее дядю, который однажды сказал мне тихо, что я должен немного сократить частоту визитов в этот дом, потому что мое присутствие может быть неправильно истолковано, и нанесет ущерб чести его племянницы. Для меня это была любовь с первого взгляда, но, рассмотрев хладнокровно его мнение, я сказал, что буду проводить иначе то время, что я проводил у вышивальщицы.
Через три или четыре дня я нанес ему визит вежливости, ни на минуту не останавливаясь у пялец, но, тем не менее, подсунув в руки старшей из двух сестер, по имени Нанетта, письмо для моей дорогой Анжелы, в котором объяснил причину, заставившую меня сократить мои посещения. Я просил ее подумать о средстве, которое могло бы предоставить мне возможность поддержать мою страсть. Я написал также Нанетте, что приду за ответом послезавтра, и она легко найдет способ его мне передать.
Эта девушка очень хорошо выполнила мое поручение, и через два дня передала мне ответ в тот момент, когда я выходил из комнаты, так, что никто не мог этого заметить.
Анжела в короткой записке, потому что она не любила писать, обещала мне вечное постоянство и просила попытаться сделать все, о чем я прочту в письме Нанетты.
Вот перевод письма Нанетты [30] 30
Казанова пишет Мемуары по-французски, а записка была написана по-итальянски
[Закрыть], которое я сохранил, как и все другие, что находятся в этих воспоминаниях.
«Нет ничего в мире, господин аббат, чего бы я не готова была сделать для моей дорогой подруги. Она приходит к нам на все дни праздников, она с нами ест и спит. Я предлагаю вам способ познакомиться с мадам Орио, нашей тетей; но если вам удастся войти к ней в доверие, предупреждаю вас не показывать вашего интереса к Анжеле, потому что наша тетя сочтет дурным, что вы пришли в ее дом для того, чтобы облегчить общение с кем-то, кто не принадлежит к этому дому. Вот средство, которое я вам предлагаю, и к которому я приложу руку, насколько смогу. Г-жа Орио, женщина небольшого достатка, хотела бы быть включена в список благородных вдов, которые пользуются милостями братства Святого Причастия, в котором г-н Малипьеро является президентом. В минувшее воскресенье Анжела сказала ей, что вы пользуетесь расположением этого сеньора, и что верное средство получить его поддержку – это склонить вас ее у него попросить. Она сказала ей опрометчиво, что вы влюблены в меня, что вы ходите к вышивальщице, только для того, чтобы иметь возможность со мной разговаривать, и поэтому я могла бы побудить вас проявить интерес к ней. Моя тетя ответила, что вас, как священника, не следует бояться, и что я могла бы пригласить вас прийти к ней, но я на это не согласилась. Прокурор Роза, который является душой тети, сказал, что я была права, и мне не годится вам писать, но что это она сама должна просить вас прийти к ней поговорить по некоему делу. Он сказал, что если это правда, что у вас есть склонность ко мне, вы не откажетесь прийти, и он убедил ее написать вам записку, которую вы получите. Если вы хотите встретиться у нас с Анжелой, отложите ваш визит до будущего воскресенья. Если вы сможете получить у г-на Малипьеро милость, которую желает моя тетя, вы станете другом дома. Вы простите меня, если вы истолкуете это плохо, но я сказала, что я вас не люблю. Будет хорошо, если вы будете говорить комплименты моей тете, этому ребенку шестидесяти лет. Г-н Роза не будет ревновать, и вы станете приятны всему дому. Я доставлю вам возможность говорить с Анжелой тет-а-тет. Я сделаю все, чтобы убедить вас в своей дружбе. До свидания».








